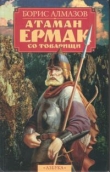Текст книги "Вельяминовы. Начало пути. Книга 2"
Автор книги: Нелли Шульман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 64 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
– Никого, – вдруг, зло, сказала Федосья, поднимаясь. Кольцо поймал ее за руку и властно рванул к себе. «Ты, смотри, Федосья, ежели случится, что с дитем моим – я ведь и до Разбойного Приказа дойду, не остановлюсь. Знаешь, что с бабами бывает, кои плод травят?
Кнутом их бьют, а опосля – в монастырь ссылают, навечно».
– А ты меня не пугай, – прошипела девушка. «Выкину и выкину – поди, узнай, почему сие случилось?».
– Ах, вот ты как заговорила! – Кольцо, вдруг, ударил ее по щеке – больно.
– Ты смотри, Федосья – я ведь скажу, что выкинула ты, потому как травы пила. А у кого ты сии травы взяла – у матушки своей, вся Москва знает, что Марфа Федоровна даже и семью царскую пользует. Однако одно дело – колено Ивану Васильевичу лечить, а другое – младенцев невинных убивать. Так что и матушка твоя под кнут пойдет – сего ты хочешь?
Он притянул ее к себе и вдруг, хищно, улыбнулся. «Ну, прости, что руку поднял – то ведь дитя мое, первое, Федосеюшка, да и люблю я тебя более жизни самой – знаешь ты это. Не повторится сие более. Ну, иди сюда, приласкаю тебя».
– Не хочу, – стиснув зубы, ответила она. «Меня и так вон – мутит с утра, голова кружится, болит. Оставь меня, Ваня».
– Как это оставь? – он поднялся, и прижал ее к стене сеновала. «Мужу отказывать нельзя, Федосья, хоша что – однако мужу ты давать должна, иначе нельзя». Он стал поднимать ей сарафан, но девушка вырвалась из его рук: «Не хочу! Не жена я тебе, и оной не буду!»
– Это как это не будешь? – Кольцо поймал ее и грубо раздвинул ей ноги. «Будешь, – сказал он, расстегиваясь, и потом, усмехаясь, положив руки на ее маленькую грудь, повторил:
«Будешь, Федосья, никуда ты от меня не денешься».
– Федосья, да ты что заснула? – мать стояла перед ней. «Господи, ровно не в подмосковной была, а в остроге сидела – бледная вся, круги под глазами». Мать озабоченно взяла ее запястье и прислушалась, склонив голову: «Нет, вроде в порядке все. Ну, не томись, недолго тебе до брачного ложа-то осталось», – она рассмеялась.
Федосья слушала ровный голос матери и думала: «Господи, ну, может, я на корабле выкину?
А спрятать сие как? Там же тесно, узнают еще. Ну, мало ли, заболела и заболела. А ежели не выкину? В сентябре – это ж уже четвертый месяц будет. Как я под венец-то пойду с этим?
И даже если выкину – что мне сэру Стивену-то сказать, как скрыть оное? Никак же не скроешь. Господи, ну что ж мне делать-то?».
– В коем сундуке книги Федины? – вдруг, остановившись, спросила мать.
– В этом, – наугад показала Федосья.
– И чем ты только слушаешь? – вздохнула Марфа, и, внимательно посмотрев на дочь, спросила: «Случилось что, Федосеюшка? Что ты грустная-то такая?»
– Так с вами со всеми расстаюсь, – сглотнув, ответила девушка. «Не приведи Господь, случится еще что».
– Уж через год и увидимся, – мать нежно поцеловала ее. «Ну, пойдем, накрыли уже в трапезной-то».
Девчонки сидели вкруг стола, и, перебивая друг друга, рассказывали Феде о подмосковной.
– Ты теперь уедешь, – погрустнела Лиза, – и Федосья тако же, мы о вас скучать будем.
– Да встретимся скоро, – Федор пощекотал сестру, и та, – как всегда, – скисла от смеха. «Ты уж большая будешь, Лизавета, восемь лет тебе исполнится, а вам – кивнул он двойняшкам, – шесть».
– Как приеду в Лондон, – мечтательно закатила глаза Марья, – сразу матушку попрошу мне охотничье платье пошить, бархатное, и камзол, как у нее. И сапожки высокие, голубой кожи».
– А мне, – Прасковья вытянула ногу в алой, сафьяновой туфле, – вот такого цвета. Ну, или темного, но тоже красного.
– Зачали о нарядах, так не остановить вас теперь, – кисло сказал Федор, но, тут же, оживившись, добавил: «Вы, ежели хотите, скажите мне, что за платья вам нужны, я нарисую».
– А ты и платья умеешь? – Лиза широко раскрыла синие глаза.
– То, баловство, конечно, – рассмеялся брат, – что там рисовать. Каждой вам альбом сделаю, хоть рассматривать будете.
– Ну, за трапезу, проголодались, наверное, – Марфа с Федосьей вошли в палату.
Девушка села напротив матери, избегая ее взгляда. Начался мясоед, и на вторую перемену принесли жареных поросят. Федосья бросила один взгляд на дымящийся, сочный кусок, и, давясь, сдерживаясь, пробормотав что-то, выбежала из палаты.
– Ешьте, – велела Марфа детям. «Федя, присмотри тут». Она поднялась, и Лиза испуганно спросила: «Матушка, а что с Федосьей?».
– Ничего страшного, – спокойно ответила Марфа, поднимаясь в горницу к дочери.
Дверь была не закрыта. Она остановилась на пороге нужного чулана. Федосья стояла на коленях над поганым ведром.
– Рот умой-то, – вздохнула Марфа, когда дочь поднялась. «Срок, какой у тебя?».
– Второй месяц, как крови не идут, – Федосья умылась и тут же разрыдалась – горько.
– Сопли, подотри, – резко сказала Марфа, – у тебя дитя в чреве, ты теперь взрослая баба, хоша тебе и шестнадцать лет. С июня, значит. То-то ты тогда в подмосковную запросилась – я думала, пущай себе девка погуляет-то на воле. Погуляла да и нагуляла. Отец кто, знаешь?
– Знаю, – Федосья вдруг, заалев, вскинула голову. «Он венчаться готов».
– Ну-ну, – Марфа прошлась по горнице и села в кресло. «Ну, значит, повенчаетесь».
– Я не хочу, – дочь опять заплакала. «Я думала, может, травы, какие…»
– Сие есть грех великий, – коротко отрезала Марфа. «Я так понимаю, что не насильничали тебя, доброй волей ты под мужика-то легла?».
Федосья только кивнула, низко опустив голову.
– Ну, так знала ты, милая, что от сего бывает, сама ж помнишь, я тебе все рассказала, как крови пошли», – жестко проговорила мать.
– Коли ты без разума была, али супротив твоей воли взяли тебя – то дело одно, а так – сама постелила постель, сама в ней и спи. И травить плод твой я не буду. Более того, Федосья, ты у меня сейчас до венчания отсюда и шагу не сделаешь – следить за тобой я буду неустанно.
Хотя, конечно, – мать потерла виски, – ранее это было делать надо. Да вот не уследила, то, моя вина.
– Дак, может, сэр Стивен, – робко начала Федосья.
Мать горько рассмеялась. «Ты жениха-то не знаешь своего, а я – знаю. Он тебя на улицу в одной рубашке выбросит, дорогая, и я тебе не помогу – я тут буду. И Федор не поможет – он ребенок еще, хоша и не глядит таким, конечно».
– Может, и не узнает он, сэр Стивен-то, – вздохнула девушка.
– Да, не узнает, конечно, – ехидно ответила Марфа. «Он первый год на свете живет, и невинную девицу от брюхатой бабы не отличит. Нет уж, дорогая, венчайся со своим, рожай сие дите, а что дальше будет – о том Господь ведает. Кто отец-то, от кого сватов ждать?».
– Вот, – Федосья порылась в шкатулке и протянула матери грамотцу.
– И почему ты мне сие не показала, как получила оное? – резко спросила мать, прочитав. «Я бы тебя тут заперла, и в Новые Холмогоры лично отвезла, и на корабль бы посадила.
Впрочем, как я посмотрю, – ядовито добавила она, – крепко ж ты своего жениха любила, коли перед первой швалью, что тебе на дороге встретилась, ноги раздвинула. Тако же и на корабле могло бы случиться, – Марфа усмехнулась.
– Я с ним хотела повстречаться, только лишь, чтобы сказать ему, что сговорена! – заплакав, проговорила Федосья.
– И сказала, – Марфа посмотрела на еще плоский живот дочери. «Сколько раз-то сказала, прежде чем на спину лечь – один, али два?».
Федосья молчала. «Грамотцу посылай ему, пусть сватов шлет», – устало заключила мать и поднялась.
– Я не хочу! – крикнула дочь. «Я за Степана хочу!».
– Раньше надо было думать, – обернулась мать от двери.
– Так это в Сибирь с ним ехать надо! – Федосья до боли сцепила пальцы.
– Ну, вот и поедешь, – ответила мать, закрывая дверь. Федосья услышала звук ключа, что поворачивался в замке, и, сев на пол, кусая руки, расплакалась – тихо, отчаянно.
– Ну что я тебе могу сказать, Марфа Федоровна, – вздохнул Ермак. Окно крестовой палаты было раскрыто, и в него вливался жар августовского полдня. «Мужик он неплохой, смелый, дружина его любит, за душой у него есть кое-что – на Волге во время оно гулял удачно.
Жестокий только сверх меры, – прошлой зимой они с Яковом на остяков ходили, на север, он там в стойбищах никого не пощадил – даже детей грудных вырезал».
– А ты, Ермак Тимофеевич, и не жестокий вовсе? – резко спросила Марфа. «Мне Петр Михайлович покойный рассказал, что было, как вы с ним за Большой Камень ходили – ты тогда, помнится, раненого пытать хотел, да и дружину свою не остановил, когда они баб насильничали!».
– То война, – сцепив, зубы, ответил Ермак. «И потом, Марфа, я тогда моложе был – сейчас, на шестом десятке-то, понял я, что неправ был. Замиряться с инородцами надо, баб их честно под венец вести, крестить, и деток тако же. Вон, как Кашлык мы заняли, так остяки, что рядом живут, сами ко мне пришли – и не трогает их никто, и трогать не будет».
– А тех, что не пришли, вы, значит, вырезать решили? – Марфа вздохнула. «Федосья ведь у меня остяцких кровей, Ермак Тимофеевич, не от Петра Михайловича я ее родила».
– То-то я еще в Чердыни заметил, что глаза-то у нее раскосые, – задумчиво проговорил атаман, – однако мало ли что – это у нас, на севере, татар и не видывали, а тут, под Москвой, и на Волге – сколько хочешь. Кто отец-то ее был?
– Тайбохтой, вождь их, – тихо ответила Марфа. «Жив ли он – не знаю».
Ермак тяжело, долго молчал. «Вон оно значит как, – наконец, сказал атаман. «Ну, сие во мне, Марфа, умрет – не слышал я оного».
– Значит, жив, – Марфа бросила взгляд на колыбель – Петенька спокойно, улыбаясь, спал.
– Весной, как мы на Москву повернули, – жив был, – Ермак вздохнул. «Он теперь Кучума союзник первейший, враг наш. А зятя твоего будущего, Ивана – он лично убить обещался, своими руками. Ты Федосье говорила, кто отец ее?
– Нет, – Марфа подперла голову рукой. «Думаю, просто сказать, что остяк, зачем девку-то во все это вмешивать».
– Правильно, – Ермак замолчал. «Ивану тако же не говори – не след ему знать, что у него за тесть-то, – атаман вдруг усмехнулся. «Потому как Иван его тоже убить клятву дал. Видишь, как оно выходит».
– Ермак Тимофеевич, – Прасковья с Марьей стояли на пороге. «Федя нам мишени нарисовал, луки мы сделали, пойдемте!»
– Боевые у тебя дочки, Марфа Федоровна, – заметил атаман. «А Лизавета где?», – спросил он, вставая.
– Лизавета, – Марья выпятила нежную губку, – сказала, что девочки из луков не стреляют.
– Вышивает она, – ядовито добавила Прасковья.
– А вы не вышиваете? – рассмеялся Ермак, потрепав девчонок по головам.
– Они, скорее конюшни чистить будут, чем за пяльцы усядутся, – улыбнулась мать.
Кольцо приехал на Воздвиженку, как в монастыре уже ударили к вечерне. Марфа сидела в крестовой палате за счетными книгами.
– А, Иван Иванович, – устало улыбнулась она. «Ну, к сговору все готово, посаженым отцом у вас Ермак Тимофеевич будет, говорил мне он».
– Да, – Кольцо вдруг сглотнул и подумал, что не видел еще в жизни никого страшнее, чем эта маленькая, стройная, вся в черном женщина. «Глаза-то у нее – ровно лед, – атаман поежился, – вроде и красивые, а всмотришься – и мороз до костей пробирает».
– Насчет рядной записи…, – пробормотал он.
– Очень бы хотелось послушать, Иван Иванович, – нежно улыбнулась Марфа, отложив перо.
«Все же ради вас моя дочь хорошему жениху отказала, богатому, так что вы уж не обессудьте – расскажите мне, что у вас за душой-то есть».
Кольцо откашлялся. «Да я бы насчет приданого, Марфа Федоровна…»
– Какого приданого? – бронзовая бровь взлетела вверх. «Нет у Федосьи Петровны никакого приданого – так, пара сундуков с сарафанами ее да сорочками, а более – ничего, вы уж простите.
– Ну, впрочем, – добавила Марфа, откидываясь на спинку высокого кресла, – раз вы ее так любите, как на сватовстве о сем говорили, так и в одной рубашке ее возьмете, правда?
– А как же, – Кольцо повел рукой в сторону поставцов с золотой и серебряной посудой.
– Ах, Иван Иванович, – легко вздохнула Марфа, – сие ж Петра Михайловича все, мужа моего покойного, – женщина широко перекрестилась. «А Федосья Петровна ему не родная дочь, а приемная, в подоле я ее принесла, – жестко проговорила женщина, – вот он ей ничего и не оставил».
– А вы, что же, Марфа Федоровна, родной дочери и не выделите ничего? – сжав кулаки, спросил Кольцо.
– Нет, – женщина чуть улыбнулась, – не выделю, Иван Иванович. У меня еще три дочери, приданого много надо, а вы атаман, человек богатый, так, что я на вас надеюсь, что Федосью вы обеспечите.
«Вот же сука, – бессильно подумал Кольцо, – и не скажешь ей ничего. Она умна, конечно, и в кого Федосья дура такая? Впрочем, шестнадцать ей всего, эта тоже, наверное, в сих годах, тоже дурой была. Хотя нет, – он внимательно посмотрел на спокойное лицо Марфы, – эта с рождения такая, змея».
– Так я жду, Иван Иванович, – ласково напомнила ему мать невесты, – о вдовьей-то доле Федосьи расскажите мне. Вы ее в Сибирь везете, то место опасное, мало ли что с вами случится, – она усмехнулась.
– А ты бы и рада была, – зло подумал Кольцо и начал говорить. Теща, – он посмотрел, – все за ним записывала, не пропуская ни единого слова.
– Ну, вот и славно, – улыбнулась Марфа, когда он закончил. «Рядную запись я сделаю, со свадьбой тоже тянуть не след – Успенский пост на носу. Вот тут, – она кивнула на улицу, – в монастыре нашем Крестовоздвиженском и повенчаетесь, на следующей неделе. А сговор можно послезавтра устраивать, в субботу».
– А Федосью Петровну можно мне увидеть? – осмелев, спросил Кольцо. «Давно мы не встречались-то».
– Как обрюхатили, так и не встречались, – резко ответила Марфа. Атаман покраснел.
– Нет, – поднялась женщина, – не взыщите, Иван Иванович, на сговоре уже увидитесь, ну а потом – под венцами брачными. Федя, – обратилась женщина к вошедшему в горницу сыну, – проводи Ивана Ивановича, ехать ему надо.
Атаман, молча, поклонился, и пошел вслед за мальчишкой.
– Ты образ нести будешь? – спросил он, глядя в мощную, недетскую спину. Парень внезапно обернулся и жестко сказал: «Я тебе не «ты», шваль, а боярин Федор Петрович Воронцов-Вельяминов, понял? И образ я нести не собираюсь – пусть кто из дружины твоей сие делает».
– Так вы ж брат невесте, – пробормотал атаман.
Парень, молча, распахнул дверь на конюшню, и сказал: «Всего хорошего».
Иван Васильевич посмотрел на лиловый, брусничный, золотой закат, что играл над Москвой-рекой и вздохнул: «Ну, что, Борис Федорович, сдавайся уже. В сей позиции ты ну никак не выиграешь, хоша ты что делай».
Борис Годунов посмотрел на шахматную доску – черного дерева и рыбьего зуба, и медленно повертел в красивой, с длинными пальцами руке, искусно вырезанную фигурку.
– Сие пешка, – усмехнулся государь, – она царя не бьет, Борька.
Двери распахнулись, и в палату шагнул атаман Кольцо.
– А, сибиряк, – улыбнулся Иван Васильевич, и махнул рукой Годунову. Тот сложил шахматы, и, поясно поклонившись, вышел.
– Был у меня атаман твой, сказал, что венчаешься ты следующей неделей, – задумчиво сказал царь. «Молодец, Ванька, на вот, подарок, – Иван Васильевич стянул с пальца перстень. «Ну, жена у тебя красивая, повезло тебе. Как в Сибирь ее привезешь – пусть она там с остяцкими бабами-то задружится, все ж кровь ее, а чрез баб к нам и мужики потянулся.
Хватить резать-то, привечать надо те народы, с ласковой рукой к ним идти, не с мечом».
– Так вы ж, государь, говорили…, – пробормотал Кольцо.
Иван Васильевич, улыбаясь, посмотрел на него: «У меня, Ванька, сын растет – так я ему хочу страну передать, в коей люди не в крови друг друга топят, а живут рядом, венчаются, деток рожают. Чрез меч-то многого не построишь, Иван Иванович, а что построишь – не продержится оно.
Вон, брат единокровный тещи твоей будущей, инок Вассиан, упокой Господи его душу, – царь перекрестился, – и вогулам, и остякам проповедовал, и чрез проповеди его многие из оных крещение приняли. Затем и священников я с вами отправляю – церкви надо строить, людей в оных привечать. Слышал ты про короля Филиппа испанского?».
Кольцо молчал.
– Да откуда тебе, ты и читать еле умеешь, небось, – рассмеялся царь. «У них, испанцев, тоже Новый Свет есть, Америка называется. И они сначала оную огнем и мечом завоевывать стали – ну вот как мы Сибирь нашу. А потом поняли, что кострами много-то не добьешься, народ – он к добру тянется. Тако же и нам надо, понял?».
– А как же воеводство-то сибирское? – тихо спросил Кольцо.
– Воеводство, – протянул царь. «Ишь чего захотел. Вот когда у вас там мир будет, когда Кучум под мою руку придет, и все прочие инородцы тоже – тогда об оном и поговорим. Ну, иди, – царь отвернулся, – у тебя со свадьбой хлопот-то много, наверное».
– Благодарствую, государь, – атаман поклонился и вышел.
«Воеводство ему еще поднеси, – усмехнулся про себя царь. «Нет, пусть себя покажет сначала, а потом – подумаем».
Борис Годунов, тихонько открыв боковую дверь, смотрел на резкий, очерченный закатным светом профиль государя. Седая борода Ивана Васильевича играла огнем, будто окунули ее в кровь.
– Пешка, значит, – прошептал Годунов, глядя на зажатую в руке фигурку. «Бывает, что и пешка царя-то бьет, коли верный ход сделает».
Марфа одернула на дочери молочного шелка опашень и улыбнулась: «Тако бывает, когда носишь – я, как тобой непраздна была, меня тоже рвало без передышки первые месяца три. Вот и схуднула ты – так то, не страшно, скоро набирать начнешь. Я, впрочем, как тебя носила, – женщина усмехнулась, – не яства-то богатые ела, а все больше рыбу сырую, тут кого угодно затошнит».
Дочка молчала, опустив красивую голову. Марфа вздохнула, и, легко устроившись на сундуке, сказала: «Иди сюда».
Федосья пристроилась у матери под боком и сказала: «Страшно мне, матушка».
– Ну, так ты думаешь, мне страшно не было? – усмехнулась мать. «Я твоих годов в стойбище оказалась, хоша, конечно и знала их язык немного, а все равно – заместо Лондона-то в чум попасть, думаешь, легко мне было? И я тогда уверена была, что Петра Михайловича-то в живых нет, и батюшки с матушкой у меня уж и не было. Однако справилась. И ты справишься, – Марфа поцеловала дочь в смуглую щеку.
– А ежели с дитем что будет? – вздохнула Федосья. «Там же и лекарей нет».
– Так для сего я тебе вон, сколько трав положила, – показала мать на холщовые мешочки, что виднелись на дне сундука. «И тетрадь, в коей все записала. И не забудь, – мать посчитала на пальцах, – в феврале рожать тебе, как откормишь, – следующей зимой, – сразу начинай настой пить. Травы, что за Большим Камнем растут, для настоя оного, – тоже в той тетради отмечены.
– А Кольцо? – испуганно спросила Федосья. «Вдруг спросит – почему я неплодна».
– А ты глазками сделай – хлоп-хлоп, – мать показала как, и девушка робко рассмеялась, – и скажи: «Да уж не знаю, Ваня, на то Божия воля, видно». Детей, Федосья, надо рожать, как тебе самой хочется – вона, мать дяди Матвея покойного, первая жена батюшки моего – надорвалась родами, и померла, а ведь еще нестарая баба была.
– Конечно, если мужик достойный, – как отчим твой, упокой Господи, душу его, – вздохнула Марфа, – так он поймет, а твой…, Не знаю, Федосья, не нравится он мне. Наплачешься с ним еще.
Девушка вздохнула и потерлась, – как в детстве, – носом о щеку матери.
– Что красивый он, – то я не спорю, – кисло сказала боярыня, – да и, наверное, понятно с чем, там тоже все хорошо.
Федосья зарделась. «Да уж вижу, – усмехнулась мать, – ну, ничего, сегодня ночью уж в брачную постель ляжешь».
– Да уж лежала я в ней, – вдруг, горько, сказала Федосья. «Сейчас так, – она не договорила и махнула рукой.
Мать вдруг рассмеялась и подтолкнула девушку. «А ты что губы кривишь? Разницы-то нет никакой, коли уже сладко тебе с мужиком, так от брачных венцов еще слаще не становится.
– Теперь слушай, дочка – коли с Иваном твоим что случится…, На то и война, – жестко сказала мать, видя, что Федосья открыла рот. «Так вот, ты там не сиди, в Сибири-то – Ермак Тимофеевич сразу тебя на Москву привезет, обещался он. Даже если меня здесь не будет уже – придешь на Английский Двор, денег я им оставлю – они тебя в Лондон отправят. Хоша и трое детей у тебя на руках будет – все равно езжай домой, под крыло материнское».
Федосья вдруг расплакалась. «Матушка, вы простите меня, что так получилось…».
– Да это ты меня прости, – мать обняла ее, – то я виновата.
Женщины помолчали и Марфа, потянув с шеи крест покойного мужа, сказала: «На. То отчима твоего, мы с ним, как детьми еще были, поменялись. Ты его храни».
Федосья поднесла к губам сверкающий алмазами золотой крестик и сказала тихо: «Буду, матушка. И коли мальчик у меня народится – Петром назову. А коли девочка – то Марфой».
– Я вроде жива еще, – сварливо сказала мать, но спорить – не стала.
– Сорочки, – после недолгого молчания сказала боярыня, – я тебе хорошие положила, все ж не нищенка ты.
Она соскочила с сундука и сказала: «Ну, давай закрывать. Обоз ваш уже скоро приедет, все ж завтра и отправляетесь уже».
– Жив отец-то мой? – вдруг спросила Федосья, глядя прямо на Марфу.
– Да кто ж его знает, – вздохнула боярыня, – коли найдешь его, так хорошо. Остяк он был, они к востоку от Большого Камня кочуют. Хороший был мужик, как отчим твой, сейчас и не сыщешь таких людей».
– А как он меня узнает-то, ежели и повстречаемся мы? – грустно спросила Федосья.
– Рукав закатай, – велела мать. «Вон, – она указала на синее пятнышко, на смуглом предплечье девушки, – так и узнает».
– То ведь родинка, – удивилась дочь.
– Нет, – улыбнулась Марфа, – не родинка, милая моя. Ну, давай, садись, расчесывать тебя буду и косы заплетать. И пряник возьми – вона, с утра Иван твой ларцы прислал, как и положено. Может, хоша со сладкого рвать тебя не будет.
Федосья поднялась в горницу к сестрам, и, постучав, спросила: «Готовы?».
Лиза открыла дверь, и, с порога, поправляя венец из голубого шелка, спросила: «Федосья, а ты Ивана Ивановича любишь?»
– Люблю, – усмехнулась девушка и сказала: «Ну, давайте быстро, все уже в церкви собрались, не след им ждать-то».
Выйдя с девчонками на улицу, Федосья обернулась на мать. Та стояла, стройная, маленькая, в черном плате, и лицо ее было странным – то ли улыбалась Марфа, то ли плакала.
– Ну, идите, – вздохнула боярыня, – я за вами. «Федор! – обернувшись, крикнула она, – давай, поторапливайся!»
Мальчик задрал голову, и, посмотрев в жаркое, белесое летнее небо, небрежно сказал:
«Теперь мне в Лондон и смысла нет ехать, матушка».
Марфа помолчала и спросила: «Хорошо подумал ты?»
– Хорошо, – ответил сын. «Языки я и так знаю, математике меня, – он усмехнулся, – сам Джордано Бруно учил, да и ты продолжаешь, а что мне Федор Савельевич дать может – того никакая школа не даст. Следующим летом поеду, со всеми вами».
– Ну что ж, – Марфа помолчала, покрутив перстни на пальцах, – можешь не ехать. Образ понеси только.
– Матушка! – гневно сказал Федор. «Уж говорили о сем».
– Да знаю я, что тебе он не по душе, – вздохнула Марфа. «Однако ж то сестра твоя, иной не дадено».
– Ладно, – буркнул сын. «Но лишь только потому, что вы просите».
Марфа рассмеялась, и, потянувшись, погладила его по рыжим кудрям.
Она стояла, слушая пение хора, смотря на стройную спину Федосьи, и невольно почувствовала, что на глаза наворачиваются слезы.
– Матушка, – шепнула Лиза, – а ты, как с батюшкой венчалась, так же красиво было?
«Венчается раб божий Иоанн рабе божией Феодосии», – услышала Марфа, и, вспомнив невидную деревянную церковку, – неподалеку отсюда, – ответила: «Да, Лизонька, так же красиво».
«Венчается раба божия Феодосия рабу божьему Иоанну», – раздалось с амвона
– Когда я повенчаюсь, тоже будет красиво, – восторженно сказала Лизавета
– А я, – со значением сказала Марья, рассматривая свои перстеньки, – и вовсе венчаться не буду. И так можно, – лукаво улыбнулась девочка.
– А я – вдохнув запах ладана, томно прикрыв глаза, закончила Прасковья, – повенчаюсь в соборе Святого Павла, понятно? В Лондоне, – важно добавила девочка.
– А ну тихо! – шикнула на них мать. «Иначе сейчас на дворе окажетесь, и там будете про свои венчания-то рассуждать».
– Ну, – поднялся Ермак Тимофеевич, когда внесли жареных лебедей, – не пора ли молодым идти почивать?
– Пора, пора, – закричали дружинники. Марфа вдруг подумала, что никогда еще в их крестовой палате не сидело столько мужчин – кроме нее и дочерей, женщин тут и вовсе не было.
Федосья закраснелась, и, отвернув голову, прикрыла лицо рукавом.
– Горько! – закричали дружинники. «Горько!».
Кольцо усмехнулся, и, отведя в сторону рукав, поцеловал жену – глубоко и долго. «Горько!» – потребовали собравшиеся.
– Ну что ж с вами делать, – ухмыльнулся атаман. «Придется еще!».
Заради венчания Марфа приказала освободить одну из кладовых на дворе. Там и поставили брачную постель – ключница, как заведено, постелила ее на снопах ржи и пшеницы, а в углы комнаты дружинники Кольца воткнули стрелы, повесив на них калачи и связки драгоценных мехов.
Когда закрылась за ними дверь, Кольцо, при свете единой свечи, что держал он в руке, взглянул в мерцающие очи жены.
– Не жалеешь-то, Федосья, что пошла за меня? – хрипло спросил атаман. «Путь долгий перед нами, опасный».
Она, молча, расстегивала жемчужные пуговицы на опашене. Светлый шелк скользнул вниз, по смуглым бедрам, и Федосья оказалась в одной кружевной рубашке.
– Не жалею, Ваня – помолчав, сказала она. Жена вдруг лукаво усмехнулась: «Как вы Сибирь-то собираетесь воевать, коли баб с детками у вас не будет? Кому-то же надо туда ехать. Вот и поедем».
– А ну иди сюда, – он притянул Федосью ближе и тихо сказал: «Хоша я тебя, жена, уже по-всякому брал, хоша и дитя ты наше носишь, однако сего я не делал еще.
– Чего ты не делал-то? – шепнула жена, и ее сладкое дыхание защекотало ему ухо.
– На ложе брачном с тобой не был, – сказал Кольцо, медленно снимая с нее рубашку. «А сейчас буду, Федосья, и до самого утра, – ты в возке поспишь потом, а сегодня уж спать не придется тебе».
– А как ты на коня завтра сядешь? – рассмеялась Федосья, глядя на то, как он раздевается.
– Да уж сяду, постараюсь, – ответил муж, накрывая ее своим телом. «А вот ты точно завтра ходить не сможешь».
Она закинула длинные ноги ему на спину, и, разметав по простыням темные волосы, выгнувшись, чуть застонала.
– На, – шепнул Кольцо, – подсовывая ей сорочку, – и потерпи, завтра ночью я тебя на привале в лес уведу, там покричишь вдоволь.
Жена только кивнула головой, прикусив кружево.
Марфа посмотрела на темные круги под глазами дочери и чуть усмехнулась. Федосья, неудержимо зевая, замотала косы невидным платком. В рассветном, еще сером тумане ее лицо казалось совсем, смуглым – ровно каштан.
– Как Оку с Волгой будете проезжать, – сказала Марфа, – рыбы купи, уха у тебя хорошая получается, хоша поедите вкусно. Коли в лес по грибы ходить будешь – смотри, куда идешь, и тут змеи есть, и на Большом Камне – тако же. Незнакомые грибы не бери, только те, что учила я тебя. Ну что еще…, – она прервалась и улыбнулась. «Внуков береги моих, и покажи их мне – уж постарайся».
Федосья кивнула и вдруг кинулась на шею матери. «Матушка, – сказала она, заплакав, – милая…».
– Ну-ну, – Марфа погладила ее по голове. «Даст Бог, и встретимся еще. И коли, кто от вас на Москву поедет – грамотцу передай, дойдет до меня. Федора и девчонок я уж будить не стала, вчера вы еще попрощались».
– Федосья! – донесся с улицы голос атамана. «Возок здесь уже».
Марфа, стоя в воротах усадьбы, перекрестила дочь, и та, потянувшись из окна возка, приникла губами к пахнущей жасмином, мягкой щеке.
– Храни ее Господь, – вздохнула Марфа, глядя вслед возку и всаднику рядом с ним. Они медленно удалялись, и, наконец, совсем исчезли в золотом, жемчужном сиянии, что поднималось на востоке.