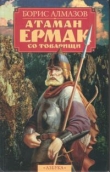Текст книги "Вельяминовы. Начало пути. Книга 2"
Автор книги: Нелли Шульман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 64 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
Эпилог
Западная Сибирь, февраль 1584 года
– Вот так, бельчонок, так быстрее будет, – Тайбохтой ласково поправил руки дочери, что держали скребок, и вдруг вспомнил изумрудные глаза Локки, что сидела так же, скрестив ноги, расправив на коленях шкуру. «Ягод я ей тогда принес, – Тайбохтой подавил вздох. «А потом на озеро поехали, оттуда бельчонка и привезли».
– Батюшка, а ты мать мою любил? – спросила вдруг Федосья. В чуме было жарко, гудело пламя костра, и девушка сидела в одном легком, из меха соболя, халате.
Тайбохтой повернул над огнем кусок оленины, и, помолчав, ответил: «Да я, бельчонок, кроме матери твоей, и не любил никого более. И уж не полюблю, наверное. Женщин брал я, конечно, и детей они мне рожали, однако…, – он не договорил и, махнув рукой, сняв оленину, выложил ее на доску.
– Ешь, а то остынет, – ворчливо сказал отец и Федосья, улыбнувшись, отложила скребок.
– Как внук-то мой сегодня? – смешливо спросил Тайбохтой. «Спать тебе дал, или опять всю ночь проворочался?».
– Федосья, посмотрела на свой низкий, большой живот: «Тихий. Матушка говорила, сие к родам уже знак».
Тайбохтой подумал и велел: «Ты вот что, давай, одевайся, собирай тут все, чум складывай, а я пока оленей приведу. К Ыленте-Коте поедем».
– В то место, где матушка моя была? – спросила девушка.
– В том месте матушка твоя Ыленту-Коту попросила заместо сына ей дочь дать, – смешливо ответил Тайбохтой, натягивая малицу. «Уж не знаю, что она ей за это посулила, однако вот видишь – ты родилась. Нет, то далеко, на севере, рядом тоже женские места есть, туда отправимся».
– Счастье свое посулила, – вдруг вздохнула Федосья. «Матушка говорила, что шаманка, мол, объяснила ей – если хочешь родить дочь, то будешь много лун ждать встречи с тем, кто любит тебя. Ну вот они с отчимом моим и увиделись, как более десятка лет прошло».
– Иди-ка сюда, – велел ей отец. «Капюшон затяни, – Тайбохтой помог дочери, – вон, морозы какие. Как ты на свет появилась, тоже холодно было, хоть и весна тогда уже была.
– А с отчимом твоим, – мужчина помедлил, – еще как видел я их вместе, в лесу, так подумал – никогда не будет мать твоя меня так любить, как его. Ну, и прав я оказался. Все, давай, чтобы, как я с оленями вернулся, ты уж готова была».
Федосья уже сидела на своих нартах, – женских, чуть пониже и поменьше тех, что были у отца, как вдруг, подняв голову, спросила: «Батюшка, а почему мне дерево-то это на плече выбили?».
– У меня такое же, – ответил Тайбохтой. «Это знак рода моего, древо жизни. Корнями оно тут, на земле растет, а кроной в небеса уходит. Семь ветвей его – то семь ступеней, что пройти надо, если хочешь туда, – он показал на звезды, – добраться. А в дупле сего дерева души не рожденных людей хранятся, ну, – мужчина усмехнулся, – и моего внука тоже.
– То, может, внучка еще, – сердито сказала Федосья, и, потыкала оленей палкой.
Отец запел. Она понимала совсем немного, но его голос – красивый, низкий, – наполнял все вокруг, и девушке вдруг показалось, что и снег, и легкий северный ветер, что дул им в лицо – тоже поют вместе с ним.
– Про что ты пел-то? – спросила дочь, когда они уже привязали оленей в маленькой рощице, у подножия круглого холма.
Тайбохтой не ответил, и, снимая с нарт жерди со шкурами для чума, сказал: «Вон туда иди, видишь, за холм. Там ждать тебя будут, мне нельзя туда».
Федосья вдруг вспомнила, как, увезя ее из стана Кучума, отец гнал коня – далеко, долго, а она, прижавшись к его груди – плакала. За всех – за Ивана, за Кутугая, за себя, – плакала тихо, горестно, а Тайбохтой только гладил ее по голове и иногда шептал: «Все, все, бельчонок, все кончилось, я с тобой».
Потом, ночью, в чуме, лежа на женской половине, за пологом, она вдруг спросила:
«Батюшка, а что теперь? Ты дальше воевать будешь?».
Отец долго молчал, а потом до нее донесся его сухой смешок: «Пусть Кучум воюет, а я более руки не подниму в деле этом. Я против внуков своих не встану – то кровь моя, род мой. Я еще во время оно матери твоей говорил – с русскими жить вместе надо. Ну, ты и получилась, – он помедлил. «Не знал я, что ты жива, бельчонок, а теперь…, теперь мне тебя растить надо. Ну, и внуков моих тоже».
Шаманка ждала ее у входа, – маленькая, не достающая даже головой до плеча Федосьи. Она бесцеремонно положила руки на живот девушки и повертела ее туда-сюда. «Скоро, – сказала старуха. «Вовремя».
Внутри было жарко – на сером, каменном своде висели капли воды – тяжелые, и Федосья вдруг ощутила как мягко, раздвигая себе путь, ворочается ребенок. Старуха расплела ей косу и усадила на шкуры, лицом к огню. Щеки сразу запылали, и девушка, вздохнув, попросила: «Воды!»
Она выпила – жадно, и почувствовала, – сразу, – влагу между ногами. Тут же, будто ожидая этого, в пояснице появилась боль, – сначала небольшая, а потом все сильнее и сильнее.
– Вставай, – сказала старуха. «Теперь ходить будешь, много. Я помогу».
Федосья оперлась о плечо шаманки и, положив одну руку на пояс, стала ходить – ощущая, как боль охватывает кости, закусив губу, едва слышно вздыхая. Она не знала, сколько прошло времени, прежде чем старуха вдруг остановила ее, и, задрав выше пояса рубашку, сказала: «Подожди, ноги раздвинь».
Шаманка покопалась внутри ловкими, короткими пальцами и велела: «Раздевайся, на корточки садись». Она постелила на пол гладкую, выделанную шкуру, и, нажав на плечи Федосьи, заставила ее опуститься вниз.
– Больно! – простонала девушка, разведя колени в стороны. «Больно как!»
– Дыши, – сказала старуха, беря ее за руки. У шаманки были сильные пальцы, и Федосья вцепилась в них, вздыхая часто и мелко. Внизу – она чувствовала это, – все раздвигалось, менялось, она сама становилась другой. Соски – набухшие, тугие, – вдруг закололо, будто из них уже было готово брызнуть молоко.
– Головка, – сказала шаманка, и обернула руки тонкой оленьей кожей. «Давай, работай!», – приказала она девушке. Федосья напряглась, и, выдохнув, увидела темные, мокрые волосы.
«Еще!», – шаманка села напротив нее и резко похлопала ее по щекам. «Еще давай!».
Она вдруг нахмурилась, и, вынув руку, осторожно стала снимать что-то с шеи ребенка.
Пошептав, старуха сказала: «Теперь быстро надо». Девушка напряглась еще раз, и дитя выскользнуло в руки шаманки.
Она очистила ему рот пальцем, и, наклонившись, стала вдыхать туда воздух. «Господи», – подумала девушка, – пожалуйста, Господи». Это был мальчик – большой, темноволосый, с синеватым, безжизненным тельцем.
– Нет, – шаманка выпрямилась. – Поздно. Он уже там, – старуха кивнула на живот Федосьи, – умер.
Девушка зарычала, и, оттолкнув шаманку, сама прижалась к холодным, маленьким губам.
Она дышала, забыв о времени, и очнулась только тогда, когда шаманка резко встряхнула ее за плечо.
– Женское место сейчас выйдет, – сказала старуха, усадив Федосью на корточки. – А потом уноси его отсюда, нельзя тут смерти быть.
– Это мой сын, – прошептала Федосья, и вспомнила, как Иван, на одном из привалов, обняв ее живот, улыбнулся: «А он меня слышит?».
– Слышит, – нежно сказала Федосья. – Слышит, конечно.
– Ну, уж скоро и увижу его, – Иван прижал ее к себе – ласково, – и прошептал на ухо: «Спасибо тебе, ведь я уж думал, что так и не будет детей у меня, а видишь, как получилось».
– Ванечка, – тихо сказала Федосья, гладя мертвого младенца по щеке. – Прощай, Ванечка.
Шаманка завернула тельце в старую шкуру и сказала: «Отец твой знает, что делать. Все, иди, в следующий раз здорового сына родишь, сильного».
Девушка шла, баюкая тельце в руках, чувствуя, как капают на шкуру крупные, неудержимые слезы.
Отец сидел на нартах, глядя на поднимающийся над бесконечной белизной снегов, алый, пылающий рассвет.
– Ты спрашивала, о чем я пел? – сказал он. – Я у Ыленты-Коты души для внука своего просил, хоть какой, хоть той, что другому дитю бы ни дали. Отказала она. Так бывает.
Он поднялся и, стерев влагу с лица дочери, сказал: «Дай мне его».
Тайбохтой аккуратно завернул тельце в кусок бересты, и стянул кожаными веревками.
Подойдя к рощице, он размахнулся, и, опутав петлей вершину молодого дерева, потянул его вниз.
Устроив тело, он отпустил ветку, ствол выпрямился, и сверток, чуть покачиваясь, застыл в холодном воздухе.
– Зачем? – спросила Федосья, глядя на тело своего сына.
– Я тебе про семь ветвей говорил, – Тайбохтой обернулся к ней, – справа ветви, – по тем души вниз, в этот мир спускаются, а те, что слева – по ним туда, – он кивнул на низкое, играющее светлым золотом небо, – возвращаются. Так вот.
– Садись, – он кивнул на нарты, – только подстилку возьми, тебе, пока крови не пройдут, на ней сидеть надо, дух мертвых в тебе сейчас. На привале маленький чум себе поставишь, отдельный.
– А куда мы? – спросила девушка, в последний раз посмотрев на рощу, что осталась за их спиной.
Отец молча, подогнав оленей, направил нарты прямо в утреннее, огромное, бескрайнее солнце.
Интерлюдия
Дубровник, февраль 1584 года
Синие, легкие волны разбивались о мраморные ступени террасы. Шпага, выбитая из руки, со звоном полетела вниз, исчезнув в воде.
– Браво, браво! – герцог Орсини, сидящий у стола, слабо, чуть слышно похлопал в ладоши.
«Теперь идите, синьор Бернардо, ловите ваш клинок, а то утонет», – мужчина усмехнулся.
– А вы, – обратился он ко второму, – наверное, хотите выпить воды? Все-таки дрались вы не на шутку.
Мужчина улыбнулся и, засунув свою шпагу в ножны, ответил: «В общем, ваша светлость, я не устал».
– Для ваших лет вы удивительно хорошо выглядите, я бы подумал, что передо мной – юноша, – доброжелательно сказал Орсини.
– Седые виски не дают мне забыть о возрасте, – его собеседник прислонился к балюстраде, украшенной изящно вырезанными вазами.
– Итальянский язык у вас неплох, – Орсини потянулся за бумагами. «Конечно, говорите вы с акцентом, но для поляка – вполне достойно. Опять же, вы католик».
Мужчина набожно перекрестился и сказал: «Да хранит святая дева Мария мою страну от протестантской заразы, ваша светлость».
Он вдруг улыбнулся, подставив лицо солнечным лучам, и заметил: «Не верится, что на дворе февраль, у нас, под Краковом, в это время лежит глубокий снег».
– Здесь прекрасная погода, – улыбнулся Орсини. «А как вы себя чувствуете на море? Мой сын любит ходить под парусом, я купил ему маленький бот».
– Ну, – рассмеялся поляк, – я, конечно, не тяну на капитана корабля, но узлы вязать умею, и плавать – тоже.
Они прогуливались по берегу моря в Грейт-Ярмуте. Мужчина посмотрел на бесконечную, серую гладь, и вздохнул.
– Учись, – сердито посмотрел на него собеседник. «Прежде всего – итальянский язык».
– Ты на нем со мной разговариваешь, – ехидно ответил мужчина. «Или ты хочешь, чтобы я тебе цитировал синьора Петрарку? Не в учителя же я нанимаюсь».
– Завтра пойдем под парусом, – мстительно пообещал разведчик, – проверю, каков ты на палубе.
– Рекомендации у вас отменные, – продолжил Орсини. «Вы, как я понимаю, познакомились с королем Генрихом еще там, на своей родине?».
– Да, я имел честь находиться при дворе его величества, – вздохнул мужчина. «Конечно, я не смею назвать себя его другом, но король относился ко мне благосклонно, и сейчас, в Париже, удостоил меня личной аудиенции».
– Ну что ж, – герцог помолчал, – отлично. Вы садитесь, – спохватился он.
– Благодарю, ваша светлость, – поклонился поляк.
– Мой сын…, – Орсини помолчал. «У меня нет ничего, кроме Джованни. У вас есть дети?».
– Были, – мужчина помедлил. «Моя жена умерла родами, и мальчики – тоже».
– Очень сожалею, – Орсини перекрестился. «Так вот, если с Джованни что-то случится, – я этого не перенесу. Он наследник всех моих владений, и его уже пытались похитить – несколько раз. Поэтому я и уехал из Италии».
– Похитителей нашли? – мужчина нахмурился.
– Одного – да, и чуть было не отправили на плаху, однако он ускользнул, – Орсини выругался.
«У меня много врагов, а я, как видите, – он иронично повел рукой, – не могу даже ходить.
Большую часть времени я провожу в этом проклятом кресле. Поймите, – полное, болезненное лицо герцога вдруг сморщилось, – у моего сына есть все. Лучшие учителя, – языки, фехтование, все, как положено. Я ничего не жалею для Джованни».
– У него нет матери, – вдруг, грустно, сказал его собеседник. «Я потерял мать в четырнадцать лет, ваша светлость, а ваш сын, наверное, – совсем ребенком».
– Ему было два, – Орсини вздохнул. «Я бы мог жениться, – наверное, – губы герцога чуть дернулись, – но, скажу вам откровенно, синьор, даже со всеми моими богатствами, хорошая женщина за меня не пойдет – зачем ей отвратительный калека, а плохая – не нужна Джованни. Я, конечно, уделяю ему много времени, но, как вы понимаете, у меня есть дела – имениями нужно управлять, хоть и отсюда, надо представлять интересы Его Святейшества здесь, в Дубровнике. Моему сыну нужен не просто телохранитель – ему нужен друг».
– А что любит Джованни? – мужчина взглянул на герцога. «Верховую езду, шахматы, оружие?»
– Все это и еще больше, – Орсини рассмеялся. «Ему только осенью исполнилось восемь, а он свободно говорит на четырех языках – итальянский, французский, испанский, немецкий. Раз уж вы будете рядом, то поучите его польскому языку – я всегда говорил, что за вашей страной – большое будущее. Через вас лежит путь на Москву».
– Я воевал с русскими, – мужчина усмехнулся. «Почти десять лет. Конечно, ваша светлость, поучу с удовольствием».
– Он прекрасный мальчик, – сказал Орсини. «Я это говорю не только потому, что я его отец – и пристрастен, конечно, но действительно – любой бы гордился таким сыном. Поэтому я и хотел, чтобы телохранителем его стал не какой-то грубый мужлан, который только и знает, что махать шпагой, а человек образованный. Человек, с которым Джованни было бы, о чем поговорить».
– Ваша светлость, – наклонился к его уху неслышно подошедший слуга. «Время перевязки».
– И так, – пять раз в день, – сказал герцог, тяжело вставая, опираясь на трость. «Пойдемте, по дороге я представлю вас Джованни, можете начать с ним знакомиться».
Мужчина почтительно шел сзади. Когда герцог встал, зловоние, окутывающее его, стало особенно сильным, и мужчина, незаметно достав кружевной носовой платок, вдохнул аромат мускуса.
Они вошли в просторную, залитую утренним солнцем комнату. Вдоль стен поднимались полки с книгами, у большого, заваленного тетрадями стола, углубившись в книгу, сидел ребенок.
– Что ты читаешь, Джованни? – нежно спросил отец.
– «Алгоритм», синьора Сакробоско, – обернулся мальчик. «По математике мы уже перешли к извлечению квадратного корня, батюшка».
– Молодец, – похвалил его Орсини. Мальчик встал, – он был невысокий, темноволосый, с приятным, но не запоминающимся лицом, – и, подойдя, ласково взяв отцовскую руку, поцеловал ее. «Вам же пора на перевязку, батюшка, – сказал мальчик, – вы не опаздывайте, пожалуйста, вам этого нельзя».
– Я как раз туда и шел, – ответил герцог. «Хотел представить тебе нового телохранителя твоего».
Мальчик посмотрел на красивого, стройного мужчину, изысканно одетого, с короткой, золотистой, чуть с проседью бородкой, и протянул ему руку. «Меня зовут Джованни Орсини, рад с вами познакомиться.
– А это – синьор Маттео, – герцог похлопал мужчину по плечу. «Он тоже знает четыре языка, ходит под парусом, и прекрасно владеет шпагой и пистолетом. Ну, а я тогда пошел страдать, – герцог улыбнулся, и, закрыл дверь.
– А вы умеете извлекать квадратный корень, синьор Маттео? – озабоченно спросил ребенок.
– Нет, – широко улыбнулся мужчина. «Но с удовольствием научусь».
Часть третья
Лима, весна 1584 года
Он ждал мужчину, и вздрогнул, услышав женский голос. «Простите, святой отец, ибо я согрешила», – раздалось из-за бархатной занавески. Женщина вздохнула, шурша юбками, запахло чем-то приятным, вроде апельсина, – принюхался священник, и начала говорить.
Священник сомкнул длинные, красивые пальцы и смешливо подумал, что правила не меняются – в любом городе это был кафедральный собор, первый вторник месяца, сразу после утренней мессы. Им сообщали заранее – священник даже не знал, как, и, в общем, не хотел знать.
Город ему понравился – по сравнению с Мехико, тут было тише и спокойней, с океана, – неподалеку, – дул легкий ветерок, а колониальная администрация была менее заносчива, чем те, с кем он привык иметь дело на севере.
«Провинция», – с легким вздохом подумал священник. «Семнадцать Ave Maria и пятнадцать Miserere, – сказал он женщине. Это означало – семнадцатого числа, в три часа дня.
– Хорошо, святой отец, – ответила она тихо.
– И пусть придет муж, – сердитым шепотом велел священник. «Он же работает, а не вы».
– Он болеет, – в ее голосе ему послышалось что-то похожее на смущение. Или стыд.
Когда женщина ушла, Джованни ди Амальфи еще раз вдохнул запах апельсина, и подумал, что даже не знает, как она выглядит. Так тоже было безопасней.
Бархатная занавеска заколыхалась, и он приготовился слушать следующего.
Донья Эстелла вышла из прохладного, гулкого, темного собора и сразу раскрыла зонтик – большой, тростниковый, расписанный ярким индейским узором – зеленое и красное.
Одноногий старик, дремавший в тени колонны, открыл глаза, услышав звон монеты, и смешливо сказал: «Да благословит вас Господь, прекрасная сеньора».
– Вы бы зашли, дон Родриго, – ворчливо сказала женщина, – ваше снадобье готово.
Мартовское солнце грело лицо, и донья Эстелла, закрыв глаза, вдруг улыбнулась.
– А деньги, прекрасная сеньора? – вздохнул старик. «Хоть его величество и выдает мне пенсию за ногу, что я потерял, сражаясь в войсках дона Франсиско Писарро, да благословит Господь его святую душу, – старик перекрестился, – однако ж ваш муж бесплатно никого не лечит. Ладно, я уж два десятка лет кашляю, покашляю еще, – он сплюнул в густую пыль, что покрывала городскую площадь.
– Зайдите ко мне, – наклонившись, тихо, сказала Эстелла.
– Сеньора не только прекрасна, но и добра, – вздохнул старик. «Как донья Ангелина, упокой ее Господь».
– Вы ее знали? – заинтересовалась Эстелла.
– Знал ли я любимую женщину дона Франсиско Писарро? – старик чуть усмехнулся и его когда-то красивое лицо вдруг смягчилось, стало из резкого, испещренного морщинами – мягким. «Я воевал при Лос Салинасе, там и оставил свою ногу.
– Я тогда был мальчишкой – восемнадцати лет, донья Эстелла, и донья Ангелина выходила меня, она знала индейские травы. Ну, а после смерти дона Франсиско…, – старик вдруг замолчал и посмотрел куда-то вдаль, будто и вправду видел перед собой своего командира – не мертвое тело, что лежало в мраморном саркофаге, под сводами собора, – а живого, с протянутой вверх, к небу шпагой, под сенью испанского флага.
– Вот здесь он и стоял, на этой самой площади? – вдруг спросила Эстелла.
– Стоял, и я рядом с ним, – старик вздохнул. «Тут мы и основали город, донья Эстелла, почти пятьдесят лет назад. А мне, видите, скоро восьмой десяток пойдет, зажился я…
– А ну не смейте, дон Родриго! – женщина выпрямилась и поджала губы. «Приходите за снадобьем, у меня есть хорошее вино, и ваше любимое печенье. Расскажете мне про донью Ангелину».
Старик загадочно улыбнулся и вдруг сказал: «Когда заговорщики, да гореть им в аду вечно, убивали дона Писарро, он еще успел начертить на камнях пола крест – своей кровью. И вскричал: «Где мой верный Родриго, пусть принесет мне меч!». А я был на побережье, не успел…, – старик уронил голову на грудь и замолчал.
Эстелла перекрестила его, и, спустившись вниз, раскланиваясь со знакомыми, пошла по узкой, с нависающими над дорогой балконами, улице, лавируя среди груженых мулов – был базарный день.
На патио было прохладно, птицы прогуливались по каменной кромке большой чаши со свежей водой. Жена вице-губернатора, – худая, суетливая, – усадила Эстеллу в плетеное, индейской работы кресло, и сказала:
– Да хранит вас пресвятая дева Мария, донья Эстелла. Вроде помогает ваше снадобье-то, – женщина покраснела, и, оглянувшись вокруг, пробормотала, – уже в жар-то меня не бросает всякий раз, как раньше.
– Ну, вот и пейте, – Эстелла улыбнулась и развязала атласный мешочек, что висел у нее на руке: «Я для вашей дочки мазь принесла, как и обещала».
– Позови донью Каталину, – велела женщина индейской служанке, что принесла вербеновый лимонад и бисквиты.
Полная, смуглая девушка присела и, покраснев, сказала: «Спасибо, донья Эстелла». Та бросила взгляд на сочные, с белыми головками прыщи, что красовались на лбу и подбородке подростка, и, вздохнув, улыбнулась: «Смазывай два раза в день, и чаще бывай на солнце».
– Она и так вон какая темная, – озабоченно сказала мать, когда Каталина ушла. «Конечно, замуж бы ее выдать, и с кровями бы тоже тогда наладилось, но ведь только шестнадцать лет…
– Хотите, мой муж ее посмотрит? – Эстелла отпила лимонада. «Конечно, при вас…».
Женщина задумалась. «Лучше дона Диего врача не найдешь – хоть все колонии обыщи, но Каталина, наверное, будет стесняться. Я поговорю с мужем, когда он вернется. Он сейчас на этих новых серебряных рудниках».
– Богатые промыслы? – невзначай поинтересовалась Эстелла.
– Очень, – ответила женщина. «Он сейчас как раз налаживает перевозку серебра оттуда в Кальяо, организует охрану. Надо мне вас пригласить на обед, когда он приедет – так интересно будет послушать!».
– Я вам буду очень благодарна, – искренне ответила Эстелла.
Когда она уже поднималась, чтобы уходить, жена вице-губернатора ласково взяла ее за руку и сказала: «Моя дорогая, я хочу, чтобы вы знали – я вас всем, всем ставлю в пример.
– Я говорю: «Вот, посмотрите на донью Эстеллу, она настоящая христианка, истинная дочь святой церкви. Вы же знаете, милая, не хуже меня – есть женщины, которые третируют индианок, ни во что их не ставят, и детей – бедных, невинных детей, – тоже обижают. А вы возитесь с Хосе, как будто он вам действительно сын, – женщина вдруг осеклась и, покраснев, пробормотала: «Простите, я не подумала…»
– Ну что вы, – нежно отозвалась Эстелла, – все в порядке. А дети – они ведь действительно – просто дети.
Она ушла, чуть покачивая стройной, красивой спиной, а женщина, глядя ей вслед, грустно сказала: «Хорошо, что у моего все ублюдки выходят девочками. Я бы не пережила, если бы он предпочел родному сыну – незаконного ребенка. Впрочем, Эстелла же не может рожать, ей легче, наверное».
Хосе играл на дворе с котятами. Он подбежал и потерся головой – с жесткими, черными, материнскими волосами, – о руку Эстеллы.
– Я тебе бисквитов принесла, – улыбаясь, сказала та. «Только сначала – поедим. Мама на рынке?»
– Ага, – кивнул Хосе. «Папа сказал, что на обед поросенка хочет, она пошла покупать».
– Поросенка, – иронически улыбнулась Эстелла.
Обедала она у себя в комнате, одна, а потом Хосе постучался к ней: «Пора заниматься!».
Эстелла слушала, как он читает Псалмы, когда дверь чуть приоткрылась. Муж стоял на пороге. «Мы спать идем, – сказал он, – Мануэла устала сегодня. Уложишь его? – он кивнул на сына.
Бесстрастное лицо индианки, что стояла чуть позади ее мужа, было спокойным, даже ресницы ее не вздрагивали. Эстелла посмотрела на уже заметно выдающийся вперед живот женщины, и сказала: «Да, конечно».
Дверь закрылась, и вскоре из-за тонкой стены донесся мерный скрип кровати и женские стоны. Эстелла сглотнула, мечтая заткнуть уши, и ласково сказала Хосе: «Вот, напиши еще одну строчку, помолимся, да и в постель».
Мальчик на мгновение прижался теплой щекой к ее руке и стал писать.
Когда Хосе заснул, а в доме воцарилась тишина, Эстелла закрыла дверь своей комнаты на засов, и, встав на колени, поддев половицу ножом, достала свои заметки. Она очинила перо и стала шифровать – медленно, аккуратно.
Завтра ее уже ждали в Кальяо – с донесением.
Священник зашел в свою келью – маленькую, аккуратную, чисто выбеленную, и посмотрел в окно. Над холмами, что отделяли город от океана, играл чудный – лазоревый, багровый, – закат. Медный диск солнца опускался вниз, освещая дорогу серого камня, что вела отсюда в Кальяо.
Колокола били к вечерне и священник, перекрестившись, встал на колени перед распятием темного дерева.
Как всегда, он молился за ее душу.
– Я не могу, – сказал он тогда Джону, – яростно, жестко. Они сидели в таверне, при бойне – здесь, в трущобах, за Тибром было безопасно.
– Он тебя ищет, – тихо ответил разведчик. «Он спрашивал в курии. Ты не иголка в стоге сена, Джованни, ты уважаемый римский гражданин, тебя все знают».
Джон помедлил и сказал: «Это единственный выход. Прямо отсюда ты пойдешь к какому-нибудь своему знакомцу из коллегии кардиналов, и скажешь, что хочешь постричься.
Внезапное озарение, тебе во сне явился святой Франциск Ассизский, в общем, не мне тебя учить. И сразу езжай в монастырь – куда-нибудь в горы, подальше».
– А потом что? – он хмуро отпил вина.
– Я распущу слухи, что тебя казнили – так будет спокойней, – ответил разведчик. «А через год все уляжется и ради Бога – приезжай в Лондон, венчайся со своей дамой сердца, и живите тихо в деревне»
– Я не могу с ней повенчаться. Пока, – еще более хмуро ответил Джованни. «Это Мария, жена Куэрво».
– Вот же тебя угораздило, – хмыкнул Джон. «Ну, вы оба не мальчики, разберетесь без кровопролития, думаю. Но ей тоже пусть сообщат о казни – если кто-то, хоть словом проговорится о том, что ты жив – тебя ничто не спасет. И я не спасу».
Через два дня он стал послушником. А зимой, – он до сих пор помнил то пронизывающее, ледяное горное утро, – он спустился из аббатства в деревню, и нашел в тайнике, что показал ему Джон – записку. Краткую и ясную.
Он прочел несколько строк, и тщательно разорвав бумагу, пустив ее клочки по ветру, стал возвращаться в монастырь, прося Бога только об одном – чтобы его сердце остановилось прямо здесь, среди серых, скованных холодом камней.
Джованни тогда остановился и прошептал: «Господи, и дитя тоже. Ну, за что же ты так, Господи. Ведь это могла быть моя дочь. Моя девочка, – он стиснул зубы, и потом, на следующий день, оказавшись у тайника, положил туда ответ – тоже короткий. Тогда он и принял обет молчания – на год.
– Девочка, – прошептал сейчас он. Джованни молился и за нее тоже – хоть она и умерла некрещеной, без имени, хоть он и не знал – его ли было то дитя, – но все равно молился.
«Иначе, – подумал он, поднимаясь, – я не могу».
Он еще раз посмотрел на дорогу в Кальяо, и, вздохнув, сел за стол – за те несколько дней, что он здесь провел, в трибунал святой инквизиции уже принесли пачку доносов – большинство из них было написано безграмотными почерками, с ошибками, и надо было во всех них разобраться, прежде чем назначать заседание.
Давид вымыл руки в серебряном тазу и ласково посмотрел на зардевшуюся девушку. «Вот и все, донья Каталина, видите – ничего страшного. Бояться нечего, вы совершенно здоровы».
Она вздохнула, и, улыбнувшись, сказала: «Спасибо вам большое, дон Диего, вы такой замечательный врач!»
– Ну, иди, милая, – жена вице-губернатора погладила дочь по голове, – переодевайся к обеду, сейчас уже и за стол.
Девушка присела, уже у двери, и, все еще смущаясь, бросив взгляд на Давида, – вышла.
– Право, донья Исабель, – Давид улыбнулся, – она просто подросток. Все это пройдет, когда она выйдет замуж. Я видел много таких пациенток – он стал собирать инструменты, – как только они ложатся в брачную постель, – их и не узнать. Тем более, если она быстро забеременеет».
Донья Исабель повертела в сухих руках кружевной платок. «Ах, дон Диего, – вздохнула женщина, – все же она у нас единственная дочь. Сыновья выросли, кто в Панаме, кто в Новой Андалузии, служат короне, а Каталина родилась, когда мне было уже под сорок, мы и не ожидали ее. Все же ей только шестнадцать лет…».
– Ну, – Давид пожал плечами, – если тянуть, то все ее, – он помедлил, – неприятности только усугубятся. Женщина должна носить, рожать и кормить – только так она будет здоровой».
– Да и за кого тут выходить замуж? – его собеседница пожала плечами. «Все порядочные мужчины приезжают в колонии с женами, – вот, как вы, например. Не отдавать же девочку за какого-то солдата. Ну, пойдемте, а то донья Эстелла, верно, соскучилась уже, – мой муж кого угодно заговорит».
Давид ничего не ответил, только коротко поклонился, пропуская женщину вперед.
В зале, несмотря на то, что осень только начиналась, был зажжен камин. «Вы не представляете, донья Эстелла, как уже холодно в горах, – вице-губернатор разлил вино.
«Пейте, это только вчера привезли из Кальяо, на тех кораблях, что пришли за серебром».
– Отличное, – улыбнулась Эстер, пробуя сухое, терпкое красное.
Оно оставляло на языке привкус дуба и немного – дыма. Женщина вдруг подумала о низком, голубом небе над веселыми, мягкими холмами, о медленно текущей среди них реке, о золотых листьях, падающих с деревьев, и почти услышала шелест крыльев птиц, растворяющихся в прозрачной, осенней лазури.
– Вы улыбаетесь, – рассмеялся вице-губернатор.
– Пахнет Старым Светом, дон Фернандо, – вздохнула женщина и выпила еще. «Вы говорили, что на рудниках зябко?»
– Ужасно, – вице-губернатор поежился. «Но, с Божьей помощью, донья Эстелла, это месторождение будет давать нам значительно больше руды – мы пока только начинаем его разрабатывать».
– А выплавлять металл вы будете на месте? – поинтересовалась женщина. «Или повезете сюда, в Лиму?»
– Нет, зачем, – дон Фернандо, – такой же низенький и сухощавый, как его жена, – пожал плечами. «Там стоит мастерская, так, что слитки прямо с рудников отправятся в Кальяо – на мулах. Пока что раз в неделю, по пятницам, а там посмотрим».
– А это не опасно? – Эстер потянулась за печеньем. «Перевозить серебро только с проводниками, без охраны».
– С каждым караваном я отправляю пять десятков вооруженных солдат – гордо заметил вице-губернатор. «Так что никто и не посмеет приблизиться к испанскому серебру, донья Эстелла – пока я тут, оно будет в целости и сохранности».
– Вы истинный слуга его величества, – горячо сказала Эстелла, – такими людьми, как вы, надо гордиться.
Вице-губернатор зарделся, и, улыбнувшись, поднявшись, сказал: «Ну, нас должно быть, ждут в столовой. Рыба свежая, донья Эстелла, утром еще в океане плавала»
– Вы нас балуете, – лукаво сказала женщина.
На часах собора пробило полночь. Донья Исабель отложила письмо, что писала старшему сыну – он служил в колониальной администрации в Панаме, и вздохнула. Дверь осторожно заскрипела. Муж вошел со свечой в руках, и молча, не глядя на нее, стал раздеваться.
– Дон Диего посоветовал обвенчать Каталину, – женщина так и лежала на боку, опустив голову в ночном чепце на руку. «Говорит, не надо с этим тянуть, а то все будет только ухудшаться. Я думала написать Мигуэлю – может, там, в Панаме он знает кого-то подходящего?»