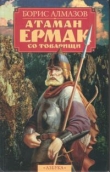Текст книги "Вельяминовы. Начало пути. Книга 2"
Автор книги: Нелли Шульман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 64 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
– Почти, – грустно ответил парень. «Теперь, как матушка уехала, только мы с вами, Федор Савельевич, и остались – математики, окромя нас, и не знает никто».
– Надо мне с тобой оной больше заниматься, – задумчиво проговорил зодчий. «Года через три я тебе хочу дать что-то свое построить, там уже меня не будет, самому придется».
– Я справлюсь, – сглотнув, сказал парень. «Справлюсь, Федор Савельевич».
Мужчина положил руку ему на плечо, и Федор чуть прижался к нему, – совсем ненадолго, на единое мгновение.
Войдя в избу, он первым делом снял со стола рисунки с чертежами, и подвинул его ближе к окну. Едва бросив взгляд в соседнюю горницу, он захлопнул дверь – не было сил смотреть на ту лавку. Свет был хорошим, и, раскладывая краски с кистями, Федор Савельевич подумал, что до вечера, наверное, уже и закончит.
Он сходил к знакомым богомазам в Спасо-Андрониковский монастырь, на Яузу, и, перешучиваясь с ними, – сердце болело так, что, казалось, сейчас остановится, – собрал все, что ему могло понадобиться. Доска была славная, липовая, в полтора вершка, уже покрытая левкасом и отшлифованная.
Краски были хорошие, на желтках, кисти – тонкие, и Федор Савельевич, посмотрев на свои большие руки, вдруг подумал: «А если не получится? То ведь не чертеж, то лицо человеческое».
Однако его загрубелые, привыкшие к долоту и молотку пальцы оказались неожиданно ловкими. Прорисовывая контур, он вспомнил ее шепот, ее губы, приникшие к его лицу, то, как билось ее сердце, – совсем рядом, и остановился на мгновение.
Вытерев рукавом рубашки лицо, Федор стал аккуратно закрашивать поле – нежно-зеленым, травяным цветом. Положено было писать ее в плате, однако он, зная, что никто, кроме него, сию икону не увидит, делать этого не стал.
Бронзовые, волнистые волосы спускались на плечи, была она в одной белой сорочке и держала на руках дитя – приникнув к нему щекой, как на иконе евангелиста Луки, что стояла в Успенском соборе Кремля.
Дитя, с кудрявыми, русыми волосами, сероглазое, прижималось к ней, обхватив мать за шею. Последними он написал глаза – изумрудные, не опущенные долу, а глядящие прямо и твердо – на него.
Федор убрался и положил икону на стол – Марфа чуть улыбалась краем тонких губ, обняв младенца, защищая его своей рукой.
Он увидел в окне вечернее небо, и, опустившись на лавку, просто смотрел на нее – долго, пока в избе не стало совсем темно, пока он уже ничего не разбирал – из-за слез, переполнивших глаза, слез, которые он так и не позволил себе пролить.
Часть четвертая
Тюменский острог, весна 1585 года
На востоке, над бесконечной, еще заснеженной равниной едва виднелась слабая полоска восхода. Тура была еще покрыта льдом, темный, сумрачный лес подступал прямо к берегу, и только вдалеке, почти за горизонтом слышен был крик какой-то птицы – одинокий, печальный.
– Пусто все же здесь, – один из дозорных поежился, запахнув меховой тулуп. «Там, – он кивнул на запад, – все же деревни. Вона у нас, под Москвой, идешь, – и церковка, а за ней – другая, на холм взберешься, и видишь, – люди тут живут. А здесь что? – парень вздохнул, подышав на руки.
– Вот смотри, – рассудительно ответил второй, – высокий, мощный, – вот, я ж ярославский сам. Тако же и на Волге сначала было – одна река текла, и ничего более. А потом народ пришел, селиться начал, дома ставить, кузницы. Батюшка мой покойный, – парень перекрестился, – хороший мастер был, и меня научил. Тако же и здесь станет, дай время только.
– Что ж ты тогда на большую дорогу-то пошел, а, Григорий Никитич, раз ты мастеровым был? – ехидно спросил первый парень.
– По дурости, – нехотя ответил Григорий. «Семнадцать лет мне было, разума в голове не было. Сейчас конечно, я мужик взрослый, два десятка скоро, да и вон, – он махнул рукой вниз, на крепостцу, – вся кузница наша на мне, куда тут о баловстве-то думать. Жалко только, что Ермак Тимофеевич меня с отрядами не отпускает, – он помрачнел.
– А оружие кто нам ковать будет? – сердито спросил первый юноша. «А подковы для коней?».
– Тебе хорошо, – вздохнул Григорий, – сейчас Волк со своими вернется, ты пойдешь. А я тут сижу, – он вгляделся в белое пространство, что лежало вокруг них, и сказал: «Нет, померещилось».
– Волк-то молодец, как раз Великий Пост закончится, он и повенчается уже, – завистливо сказал первый парень. «Должен был опосля Покрова, но атаман его на север послал, к остякам тамошним. Ты к Василисе-то ездил его?»
Григорий покраснел. «Конечно. Кажную неделю у них бываю, как он и наказывал».
– Смотри-ка, – вгляделся первый дозорный, – и вправду, не привиделось тебе, идет кто-то.
Как бы и не Волк».
Григорий перегнулся вниз и закричал: «Эй, там, просыпайтесь! Пищали к бою приготовьте, на всякий случай».
– Нет, сказал первый парень, вглядываясь в людей, что медленно поднимались по обрывистому склону Туры, – это наши. Только вот, – он нахмурился, и пересчитал их, – не хватает у них кого-то.
В горнице было жарко натоплено. Ермак Тимофеевич, зевая, потирая со сна лицо, развернул карту и спросил: «До коего места вы дошли-то?».
– Вот сюда, – показал кто-то из отряда. «Далее, на север, сказали нам остяки, и не живет никто. По Тоболу дошли до Иртыша, а там уже – до огромной реки, остяки ее Ас называют.
Там и зазимовали».
Ермак усмехнулся, поглаживая бороду. «Вон, оно, значит как. Что Обдорский край есть, – мы давно знаем, он, вместе с Югорией во время оно Новгороду Великому подчинялся, а опосля того – царям московским. Так вот, значит, откуда река-та сия течет, что Обью именуется. Ну что ж, – он погладил карту, – сие вести хорошие, спасибо вам за это? С Волком что? – Ермак чуть помрачнел.
– Как буран был, так он вперед пошел, дорогу разведать, – ответил один из юношей, – и не вернулся. Мы его пять дней на том месте ждали, все вокруг обыскали – не было его.
– Замерз, должно, и снегом занесло. Ну, вечная ему память, – Ермак разлил водки и поставил на стол горшок с икрой. «Ну, отдыхайте тогда пока, недели через две Тура вскрываться начнет, должно быть, теперь уж, пока дороги не просохнут, навряд ли куда-то пойдем далеко, так, охотиться будем, и все».
Над крепостцей разносился мерный звук била. Григорий догнал Ермака Тимофеевича уже у самой церквушки, и тихо спросил: «Атаман, а что про Волка – правда, это?».
– Правда, – тяжело вздохнул Ермак, перекрестившись на маленький, деревянный купол. «Ты вот что, Григорий, – как ты его друг был самолучший, – поезжай-ка в стойбище, к Василисе. А то бедная девка уж, наверное, для приданого и сшила все, а тут такое дело».
– Упокой его Господь, – вздохнул Григорий. «И вправду, бесстрашный человек был Михайло Данилович, и погиб с честью».
Он чуть постоял на пороге церковки, и, пробормотав про себя что-то, сжав кулаки, шагнул внутрь.
Григорий шел вниз по замерзшей Туре, изредка останавливаясь, чтобы поправить лыжи – короткие и широкие, подбитые оленьей шкурой. «А если откажет она? – вдруг подумал парень. «Куда мне с Волком равняться – тот и красавец был, и смелый, и язык хорошо у него был подвешен. А я что?». Он внезапно разозлился и даже в сердцах сплюнул в снег. «Дом у меня хороший, теплый, крепкий, мастер я, каких поискать, чего я ною-то? А что Василису я более жизни люблю – если б Волк вернулся, я бы и слова о сем не сказал, другу дорогу переходить невместно. А ежели я сейчас промолчу, так потом корить себя до конца дней буду».
Он нащупал в кармане мешочки с порохом – для отца Василисы, – и, посмотрев на дымки, что поднимались над лесом, стал выбираться на берег.
– С плохими новостями я пришел, Ньохес, – тихо сказал Григорий, когда они уже выпили. В чуме никого не было, младшие дети спали за оленьим пологом, а Василиса с матерью еще не вернулись с рыбалки.
– Что такое? – темные глаза остяка, и без того узкие, чуть прищурились.
– Волк погиб, – Григорий посмотрел на водку и налил себе еще. «Для храбрости», – подумал он, и продолжил: «В буране пропал, замерз, даже тело не нашли».
– Упокой его Господь, – неуверенно проговорил Ньохес и перекрестился. Григорий только сейчас заметил маленький деревянный крест на его шее. Остяк поймал его взгляд и улыбнулся: «Говорил я Волку покойному – дочка покрестится, а может, и мы за ней. Ну и окрестились, все. Николаем меня теперь зовут».
– За это надо выпить, – решительно сказал Григорий и вдруг улыбнулся: «Все же хороший у нас батюшка Никифор, правильный. Насильно-то крестить – то дело последнее, надо, чтобы сами приходили, вот, как эти».
– Я что хотел сказать, Николай, – вздохнул парень после недолгого молчания. «Я ведь тако же – и дом у меня хороший, и мастер я на все руки, к тому же, как я кузнец, так Ермак Тимофеевич меня с отрядами не посылает, в крепости я больше».
Остяк испытующе посмотрел на Григория. Тот покраснел и пробормотал: «Конечно, с Волком мне не равняться, не красавец я».
Мужчина чуть усмехнулся и потрепал юношу по плечу. «Охотник ты меткий?».
– Птицу в полете снимаю, – подняв голову, ответил тот. «Никакой нужды она со мной знать не будет, а что люблю я ее – думал я, куда мне, поставь меня рядом с Волком, так понятно, на кого смотреть будут».
– Пей еще, – велел Ньохес. «Вот вернется сейчас – и все это ей скажи. Пусть решает. А мне, – остяк улыбнулся, – мне ты по душе, Григорий».
Они стояли на берегу реки, всматриваясь в бесконечную, снежную равнину. Выглянуло солнце, и девушка отодвинула капюшон парки. Мягкие, цвета сажи волосы рассыпались по плечам, и юноша вдохнул их свежий, едва слышный запах. «Будто в лесу идешь, – подумал он.
Василиса все глядела куда-то вдаль, и Григорий заметил, что на длинных, черных ресницах повисла слеза – маленькая, будто капель. «Вот, значит, как, – вздохнула она, перебирая смуглыми пальцами бусины простого ожерелья – красного, из высушенных ягод. Между ними на снурке висел крестик.
– Спасибо, Григорий Никитич, что сказали мне. Храни господь душу его». Девушка говорила медленно, подбирая слова, и парень увидел, что слеза оторвалась от ресниц и покатилась по гладкой щеке.
– Василиса Николаевна, – он сглотнул и заставил себя взглянуть на нее. «Василиса Николаевна, вы же знаете, я жизнь за вас отдам, коли нужда такая придет. Никогда я вас не обижу, ни словом единым, и ежели вы на меня хоть посмотрите, мне ничего и не надо более».
Девушка молчала, и вдруг, вздохнув, нашла его большую руку и сжала – крепко. «Хорошо, – она все смотрела на реку, и Григорий почувствовал, как она чуть придвигается к нему.
Он робко, едва дыша, обнял Василису за плечи, не смея даже поверить своему счастью, и увидел, что девушка улыбается – мимолетно, едва заметно, словно единый луч света во мгле северной ночи.
Солнце выглянуло из-за низких, серых туч, и лед на Туре вдруг заиграл золотом. «Скоро и весна, – нежно сказала Василиса. «Скоро и тепло».
– Да, – прошептал Григорий, перебирая в руках ее горячие, тонкие пальцы. «Да, милая моя».
Ему снилась Марфа. Ермак редко видел ее, а когда видел – всегда в той избе, в Чердыни, где она сидела на лавке и кормила Федосью. Дитя смотрело на него раскосыми глазами, и атаман, еще во сне, подумал: «Виноват я. Надо было грамотцу послать Марфе Федоровне, что нет у нее дочки более».
Он поднял веки и полежал, закинув руки за голову, ощущая тепло избы, чуть вздохнув. «А с кем посылать? Никто за Большой Камень и не ходил с тех пор, из наших. Сначала ждал я – может, объявится, а теперь вона – второй год идет. Сгинула девка, а жалко – молодая какая, красивая, и дитя, наверное, в могилу унесла».
Атаман чуть приподнялся и глотнул воды. Хороша она была, из Туры взятая – чистая, сладкая, и Ермак отпил еще. «Летом, – приговорил он, ставя оловянную кружку на стол.
«Летом и спосылаю грамотцу Марфе».
В дверь заколотили. Ермак взглянул в щель промеж ставен – только начал подниматься тусклый, неуверенный рассвет.
– Что еще там? – зевнул он, одеваясь, впуская в избу Григория.
– Рать по Туре вверх идет, – сказал юноша замерзшими, побледневшими губами. «Кажись, остяки восстали».
– Ну-ну, – хмыкнул Ермак, проверяя ручницу. «Ежели правда сие, так не повенчаешься ты сегодня, Григорий Никитич. Василиса-то здесь, в крепостце?».
– Еще вчера на закате приехали, всей семьей, – ответил парень. «У меня в избе живут».
– Ну, посмотрим, что там за рать, – Ермак накинул тулуп и пошел к дозорной вышке.
Лед реки был усеян черными, быстро передвигающимися точками. «Сотни три, не меньше, – присвистнул Ермак и велел: «Пищали к бою! И будите всех, быстро!».
Атаман посмотрел на уже рыхлый, волглый снег и подумал: «Вот же смотри – уже и Пасху справили, и не ранняя она в этом году была, а все равно – не тает. Но весной пахнет».
Он вдохнул чуть заметный ветерок с востока, и, нагнувшись, взглянув на дружинников, тихо сказал: «Без команды моей никому не стрелять, может, и миром еще разойдемся».
– Миром, – недоверчиво пробурчал кто-то снизу, но спорить с Ермаком не решился.
От остяцкой рати отделилась одна, маленькая отсюда, издали, фигурка, и быстро пошла к воротам крепости.
– Сейчас ведь как лук вытащит, – сочно выругался один из дружинников.
– А ну тихо! – одернул его атаман и сощурил глаза, – человек, в малице, остановился под обрывом, и замахав над головой руками, что-то закричал.
Ермак прислушался: «Что за…, – он чуть было не выругался и велел: «Ворота откройте!»
– Атаман! – было, попытались его остановить.
– Откройте, я сказал! – он быстро спустился с вышки, и, скользя по крутому берегу Туры, сбежал вниз, на лед.
Зеленые глаза играли светом восходящего солнца, смуглые щеки раскраснелись, и Федосья, – атаман опешил, – бросилась к нему на шею. «Ермак Тимофеевич! – сказала она, чуть задыхаясь, – мы с миром пришли, с миром!».
– Ты жива, значит, – пробормотал атаман и вдруг помрачнел: «Иван Иванович преставился, Федосеюшка. Ты уж прости меня, что невеселую весть принес тебе».
Высокие скулы застыли и Федосья, не глядя на атамана, проговорила: «Видела я все, Ермак Тимофеевич. Они ж мне руки связали и на глазах моих все это делали. Я перед ними на коленях стояла, молила – убейте его, а они только смеялись». Девушка перекрестилась и сказал: «Вечная ему память».
– А с дитем твоим что? – осторожно, ласково спросил Ермак.
– Не жил мой Ванечка, – уголок ее губы чуть дернулся и атаман, обняв девушку, сказал: «Ну, не плачь, родная, на все воля Божия».
– Спасибо, Ермак Тимофеевич, – Федосья встряхнула темными, убранными под капюшон парки, косами и сказала: «Отец мой здесь. Под руку царскую отдает тех остяков, что к северу и востоку живут, и сам тако же – в верности хочет поклясться».
– Атаман, – раздался сзади низкий, красивый голос.
«А Федосья, сразу видно, дочка ему, – подумал Ермак, разглядывая Тайбохтоя. «Силен, конечно, хоша и вон, как у меня – уж седина в голове, наверное, на пятый десяток идет».
Атаман поклонился вождю, и радушно сказал: «Ну, ежели так, князь, милости прошу нашего хлеба-соли отведать, гостями нашими будете».
Крепость преобразилась – везде, на узких улочках, под стенами, – горели костры, на льду реки остяки разбили временный лагерь, и кто-то из дружинников, стоя на вышке, с сожалением сказал: «Эх, чтобы им с семьями приехать, с дочками! Так бы все и переженились тут».
– Ну, – крикнули ему снизу, – как они теперь ясак нам привозить будут, дак и познакомимся.
– Ты, Федосья, – велел Ермак, ставя на стол заедки, – за толмача будешь. Хоша батюшка твой по-русски и говорит немного, а все равно – еще не поймем чего-то, дело-то какое великое делаем, в подданные царя их принимаем.
Тайбохтой вгляделся в карту, что расстелил перед ним Ермак, и медленно, но правильно сказал: «Карта хорошая у тебя, атаман, но вот тут – он показал на север, – еще земля есть, там люди живут, с оленями. И вот тут, – палец прочертил линию на северо-восток, – тут горы есть, озеро есть, большое. А там, – Тайбохтой показал дальше, – там царство льдов, дух смерти там обитает».
– Был ты там? – спросил Ермак, наливая вождю водки.
Тот отодвинул стакан. «Это пусть русские пьют, нам нельзя этого, остяки не привыкли. А я, атаман, – Тайбохтой чуть улыбнулся, – я много где был. Жизнь долгая, земля – большая, олени – резвые, чего и не поездить. Вот, смотри, – он потянулся за угольком и набросал на деревянном столе грубую карту.
– Понял, – тихо сказал Ермак, рассматривая рисунок. «Хорошо ты сие делаешь, князь».
– Мать ее научила, – Тайбохтой кивнул на Федосью, – Локка я ее звал, лиса – по-нашему.
Русская была, из-за Камня Большого.
– Знаю я ее, – усмехнулся Ермак и почувствовал, что невольно краснеет.
– Вот оно как, – только и сказал Тайбохтой, отрезав себе большой кусок мороженой рыбы.
Договор, написанный Ермаком и Тайбохтоем, читали вслух, на берегу Туры, стоя в открытых воротах крепости. Батюшка Никифор вынес на стол икону Спаса Нерукотворного, и атаман, закончив читать, наклонился и поцеловал образ.
– В сем даю нерушимое слово свое, как атамана дружины сибирской, – громко сказал Ермак, – что вы теперь, тако же, как и мы – насельники земли нашей, под защитой руки царей московских, и никто не смеет вас принудить, али обидеть. А ежели нападет кто на вас – так мы вас защищать будем, коли же войной решит царь идти – так вы тоже в войско его встанете. Кто захочет веру православную принять – приходите, двери наши для вас всегда открыты, а кто при своих богах родовых захочет остаться, – то дело его, неволить не будем.
Федосья сказала то же самое на остяцком языке, и воины Тайбохтоя закричали что-то одобрительное.
Вождь кивнул, дочери и заговорил.
– А в сем нерушимое мое слово, – волнуясь, часто дыша, начала Федосья, – что мы по доброй воле и с открытым сердцем вступаем под руку русского царя и даем ему шерть, тако же – присягу, в нашей преданности и обещаемся платить ясак два раза в год. Коли царь воевать пойдет – то обязуемся воинов ему дать хороших, сколь есть силы у нас.
Тайбохтой улыбнулся и, достав из-за плеча лук, прицелившись, сбил птицу, парившую над крепостью. Ножом, взрезав ее грудь, он достал сердце и сказал: «И в сем клянемся этой жертвой».
Дружинники Ермака дали залп из пищалей, а остяцкие воины осыпали снег на склонах Туры стрелами.
Ермак улыбнулся и хлопнул Тайбохтоя по плечу: «Ну, все, теперь и погулять можно!».
Григорий вдруг, смущенно, зашептал что-то на ухо атаману.
– Ну, сам и пригласи его, – удивился тот, – что стесняешься. Это ж теперь нашей страны люди, такие же, как и мы. На одной земле живем, одними семьями.
Парень, повертев в руках шапку, покраснев, сказал, глядя в темные глаза Тайбохтоя: «Ваша милость, как вы есть гость наш и человек знатный, дак, может, на венчании моем побудете-то?».
Вождь усмехнулся. «Да уж слышали мы, там, на Тоболе, с оленями вести быстро бегут. Тебя как зовут-то?».
– Григорий, – зардевшись, сказал юноша.
– А ну-ка, иди сюда, Ньохес, – Тайбохтой поманил к себе остяка. «Хорошего зятя выбрал, молодец. Да и дочь у тебя славная, бери, – вождь потянул из кармана кучку не ограненных аметистов, – пусть носит».
– А вас как величают? – спросила Васхэ на остяцком языке, смущаясь, не поднимая глаз.
«Ланки, – ответила Федосья, улыбаясь, украшая распущенные волосы девушки венком из кедровых ветвей. «Белка, то есть. А по-русски – Федосья Петровна».
– Аметисты мужу своему отдашь, он мастеровой, руки хорошие у него, пусть ожерелье тебе сделает, – Федосья одернула подол сшитого из тонкой оленьей кожи, украшенного бисером, сарафана девушки и кивнула матери Васхэ: «Ну, пора и под венец вашу дочку вести».
Григорий взял тонкую, нежную руку Василисы и вдруг, слушая голос батюшки Никифора, закрыв глаза, подумал: «Господи, и за что счастье мне такое? На земле своей в жены любимую брать, чтобы дети наши тут росли, чтобы шли дальше – вперед нас, до самого края ее, чтобы жили все в мире и спокойствии».
Он вздохнул и почувствовал, что девушка мягко, ласково гладит его ладонь.
– Возвеличися, жених, якоже Авраам, и благословися, якоже Исаак, и умножися, якоже Иаков, ходи в мире и делай в правде заповеди Божия, – произнес батюшка, и взглянув в темные глаза Василисы, продолжил:
– И ты, невесто, возвеличися, якоже Сарра, и возвеселися, якоже Ревекка, и умножися, якоже Рахиль, веселящися о своем муже, хранящи пределы закона, зане тако благоволи Бог.
Василиса улыбнулась, приложившись к маленькому, скромному образу Богородицы, и священник, тоже улыбнувшись, сказал: «Ну вот, а теперь, как вы есть муж и жена, венчанные, перед Богом и людьми, так можете поцеловать друг друга».
Григорий наклонился, – жена была много ниже его, и, вдохнув запах хвои и свежести, чуть коснулся ее губ – мягких, прохладных, как весенний ветер.
Лошадь, таща за собой соху, медленно двигалась по вскопанному полю.
– Хорошо, что мы семена-то привезли, – сказал один из дружинников, что сидели в воротах крепости, наблюдая за пахотой, приводя в порядок оружие. «Рожь тут должна взойти, лето в прошлом году было жаркое, такое же и в этом будет, наверное. Хоша хлеба свежевыпеченного поедим, а то соскучился уже».
– Григорий Никитич вона, – кивнул второй парень, – мельницу ветряную ладит, сказал, надо будет наверх по Туре подняться, камни для жерновов поискать, как закончит он. Вот повенчаюсь опосля Покрова, Груню свою научу тесто творить, – парень потянулся, – прямо глаза закрываю и вижу – каравай на столе стоит».
– Надо будет, как атаман вернется, новые стены зачать ладить, – озабоченно сказал первый.
«Вон, строиться все стали, тесно уже».
– С Волка избой что делать-то? – угрюмо спросил его приятель. «На бревна ее, может, раскатать, все же место занимает, и хорошее – он же одним из первых дом себе срубил».
– Челн на Туре! – раздался крик сверху, с вышки.
– Ясак, что ли, привезли? – хмыкнул кто-то из парней. «Да рано вроде, по осени только должны, а сейчас вона – Юрьев день еще не пришел. Овец бы, кстати, с юга-то пригнать, все скотина, какая-никакая, опять же, и бабы прясть бы смогли, пока мы тут лен еще посеем».
Высокий, широкоплечий мужчина вытащил челн на каменистый берег и стал быстро подниматься вверх по обрыву.
– Господи Иисусе Христе, – проговорил непослушными губами кто-то из парней. «Неужто он?».
– Ты ж в буране замерз, – сглотнув, сказал второй, поднимаясь.
Голубые, ясные глаза усмехнулись, и мужчина, огладив кудрявую, белокурую бороду, чуть присвистнул: «Чтобы Михайло Волк преставился, поболе надо, чем буран, парни». Он поправил шкуру, что висела у него на плече – невиданную, дымчато-серую с темными пятнами, и спросил:
– Василиса-то моя как? Небось, все глаза выплакала, голубка? В стойбище она, с отцом?».
– Ты это, – замялся один из дружинников. «Ты к Григорию сходи. К Григорию, Никитичу то есть, – поправился юноша. «Он знает».
– Занемогла, что ли? Али…, – мужчина перекрестился. «Господи спаси и помилуй».
Он быстрым шагом пошел в крепостцу, а юноши переглянулись. «И атамана, как на грех, нет сейчас, и батюшка уехал к остякам, – вздохнул кто-то из парней. «Не дай Господь, еще кровь прольется, Волк – он мужик хоша и спокойный, но бьет-то без промаха».
– Тако же и Григорий Никитич, – вздохнул его приятель.
– Вот так, – сказал Григорий, чертя угольком на столе. «Такая будет мельница, счастье мое».
Василиса, с дымящимся горшком в руках, наклонилась и посмотрела через его плечо. «И от ветра будет крутиться?», – восхищенно спросила она.
– Угу, – мужчина отложил уголек и вдохнул запах. «Это те утки, что с утра я принес? – смешливо спросил он. «Теперь каждый день на рассвете стану подниматься, коли так вкусно будет».
– На рассвете-то может, и не надо, – девушка улыбнулась, придвигая мужу обед. Григорий бросил на нее один взгляд и рассмеялся: «А ну иди сюда, счастье».
Она тут же устроилась у него на коленях, и Григорий, поцеловав ее в смуглую, теплую щеку, прошептал: «Сама же гнала меня сегодня, проснулась ни свет ни заря, отец, мол, ждет, охотиться уговорились. А так, думаешь, я бы оттуда встал? – он кивнул на широкую лавку.
«Да никогда в жизни, милая. А ну, рот открывай, – он зачерпнул ложкой из горшка и Василиса, смущаясь, сказала: «Да я бы потом, опосля тебя».
– Ну, уж нет, – он и сам попробовал. Утки, тушеные в печи с диким луком и черемшой, были хороши, и Григорий лениво подумал: «Ох, сейчас бы водки стаканчик, а потом ставни закрыть, Василису на лавку отнести, и пусть оно там хоть огнем гори. Нет, – мужчина вздохнул, – надо на кузницу, а потом бревна для мельницы тесать. Ну, ничего, вечером».
– Я, как приберусь, пойду рыбачить, – будто прочитав его мысли, сказала жена. «Соль у нас есть, к вечеру как раз рыба хорошая будет».
– Вот как вернусь, – сказал Григорий, доев, – так на Туре, в том месте тихом искупаемся, ладно? А потом рыбы твоей отведаю. Ну и еще кое-чего, – он ласково погладил жену пониже спины.
– Баню бы срубить, – вздохнула девушка, сметая со стола кости от уток.
– И срублю, – пообещал муж. «Там работы дня на два, не более. На той неделе и срублю, я же, как строился, особливо для нее место приготовил».
Он встал и, обняв жену, прижался щекой к ее темным, покрытым алым платочком, волосам.
«Господи, – тихо сказал он, – так бы и не отпускал тебя вовек».
Василиса, потянувшись, поцеловала его, – долго, и Григорий с сожалением сказал: «Ну, все, счастье, пошел я, и так уж в кузнице заждались, должно быть».
На пороге раздался какой-то шорох, и мужчина увидел, как расширились в страхе темные глаза жены.
– Вон оно, значит, как, – тихо сказал Волк, оглядывая маленькую, чистую горницу. Лавка была прикрыта меховым одеялом, перед иконами в красном углу горела лампадка, от печи пахло сытостью и теплом.
– Михайло, – Григорий положил большую руку на плечи жены и почувствовал, как приникла к нему девушка. «Ее пугать не надо, – спокойно подумал мужчина. «Ежели что – выйдем за ограду, и там уж – будь что будет».
Василиса молчала, оглядывая, стоящих друг против друга мужчин и внезапно, чуть слышно проговорила: «Сказали, что бураном тебя замело».
– Да нет, – ехидно сказал Волк, – как видишь, Василиса, жив я, и здоров. Ты, я смотрю, тако же. Давно повенчались ли?
– Опосля Пасхи, – сглотнув, ответил Григорий.
– Ну, желаю счастья, – Волк бросил под ноги девушке шкуру – богатую, с длинным мехом, и, запустив руку в карман, высыпал на выскобленные половицы горсть золотых самородков.
«Подарок, – сказал он коротко, и, повернувшись, так хлопнул дверью, что, – показалось Григорию, – с избы слетела крыша.
Дома было грязно и запущено, и Волк, сходив в амбары, выставил ведро водки на берегу Туры, у костра.
– Атаман-то где? – спросил он, наполняя кружки.
– Поехал с вождем остяцким, Тайбохтоем, и дочкой его, вниз, по Тоболу – с тамошними насельниками знакомиться. И батюшка Никифор с ними тоже – есть там люди, что окреститься хотят. Мы же, Волк, в дружбе теперь с остяками, клятву верности они дали, – сказал один из дружинников.
– Слушай, – другой парень выпил, – а что за шкура-то у тебя была, тут таких зверей и не видывал никто?
– То, – лениво сказал Волк, – ирбиз, как его местные называют, он в горах живет. Я его самолично убил. Добрался я, парни, до того места, где река Ас начинается, – из двух рек, кои сливаются, жил на озерах чистоты такой, что дно видно, всходил на горы, что снегом круглый год покрыты.
– А все, потому, – он усмехнулся, – что в ту ночь, как буран был, пазори на небе играли. Я-то ученый, я знаю – коли пазори ходят, то на матку не гляди, все одно врет. А тут небо-то тучами затянуто. Ну и пошел вместо полночи на полдень, свой отряд миновал, не заметя, а там уж…, – он махнул рукой и, выпив – залпом, зачерпнул ладонью икры из миски.
– А что за дочка у вождя остяцкого? – смешливо спросил Волк. «Красивая? Как с венцами брачными у меня не сладилось, так все равно надо мне руку женскую – вона, в избе как неуютно, не то, что у Гришки, – Волк, было, хотел выругаться, но сдержался и, посмотрев на темную, спокойную Туру, чуть вздохнул.
– Да знаешь ты ее, – рассмеялся кто-то. «То Федосья Петровна, вдова атамана Кольцо».
– Жива она, значит, – Волк подумал и налил себе еще. «Не чаял я».
– Вот тебе к ней и пристроиться, – посоветовал кто-то. «Баба она, сразу видно, горячая, ладная, а вдова – как говорится, человек мирской. Так что ты, Волк, времени не теряй».
Мужчина тяжело молчал, глядя на костер.
– К тому же, – добавил кто-то, – она уж под кем только не полежала – и под Кучумом самим, говорят, и с остяками более года болталась, так что там, Волк, дорожка протоптанная, взламывать двери не надо».
Раздался хохот, и тут же, перекрывая его, – крик боли. Волк поморщился, подув на разбитые костяшки кулака, и, наклонившись к дружиннику, что выплевывал на берег кровь изо рта, проговорил: «Ежели ты, сука, хоша что дурное еще про Федосью Петровну скажешь, я тебе язык рукой своей вырву, и съесть заставлю, понял?».
Парень испуганно кивнул головой.
– Вот и славно, – Волк поднялся и, добавив: «Тако же и со всеми остальными будет», пошел, – не поворачиваясь, не прощаясь, – вверх, в крепостцу.
Челн медленно плыл вверх по течению Туры. Ермак Тимофеевич и батюшка Никифор сидели на веслах, а Федосья ловко рулила, одновременно оглядывая берега – здесь низкие, пойменные, покрытые сочной, зеленеющей травой.
– Коров бы сюда, – вздохнула девушка. «Или хоть коз, Ермак Тимофеевич. Вон, после Покрова, сколько дружинников венчается, а у них детки народятся вскорости».
Атаман усмехнулся. «То ж, Федосья, надо чрез Большой Камень стадо гнать, дело долгое».
– Ну и погнали бы, – сердито сказала девушка. «А то, как мы тут жить собираемся? Хорошо вон, семена еще привезли. Овец надо тако же, Григорий Никитич обещал ткацкий стан начать ладить, пока из крапивы ткать можно, коли льна не посадили».
Батюшка Никифор ласково посмотрел на Федосью, и сказал: «А вы бы, Федосья Петровна, окромя стана ткацкого еще бы мне с детками-то помогли, вы ж и читать, и писать умеете, и на остяцком языке говорите, я бы взрослых учил, а вы – ребятишек».
– И помогу, – девушка поправила тонкой оленьей кожи платочек и, подняв голову, проговорила: «Лето, какое жаркое выдалось, сейчас бы дождей парочку, и рожь хорошо взойдет, озимых тут не посадишь – холодно, а яровые как раз взойти должны, к осени и с хлебом будем».
– Хорошо ты правишь, – вдруг сказал Ермак. «Батюшка научил?».
– Да, мы с ним по реке Ас спускались, там течение быстрее будет, да и глубже она, – девушка вздохнула. «Жалко, конечно, что батюшка на Тоболе не остался, на восход пошел, однако он такой – на одном месте долго сидеть не хочет».
Когда они уже шли наверх, к воротам крепостцы, Ермак, отстав, хмуро сказал Федосье: «Ты вот что, я сейчас десятков пять человек возьму, по Иртышу вниз сплаваю, к устью Вагая, там, отец твой сказал, Кучума видели. А вернусь, и опосля Успения на Москву двинемся».