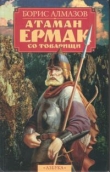Текст книги "Вельяминовы. Начало пути. Книга 2"
Автор книги: Нелли Шульман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 64 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
– Ермак Тимофеевич! – возмущенно сказала девушка, остановившись. «Говорили об этом уже, и знаете – не поеду я. Нравится мне тут». Она посмотрел на широкую, зеленоватую Туру и еще раз добавила, – твердо: «Нравится».
– Послушай, – мягко сказал Ермак, – я ведь уйду сейчас, да и зимой меня тут не будет, зимой самая война у нас. Хоша ты и при батюшке Никифоре жить станешь, однако же, все равно – парни молодые, горячие, ты вдовеешь, а тебе ж вон только восемнадцать сравнялось. Тако же и батюшка твой велел, говорили мы с ним».
– А сие на что? – запальчиво спросила девушка, чуть вытащив из-за пояса кривой нож в кожаном чехле, с рукояткой рыбьего зуба. «Ты не думай, атаман, я свою честь защитить смогу».
– Сие спрячь, – коротко велел Ермак, – и не показывай более. И не спорь со мной, Федосья, – коли нет у тебя мужа венчанного, дак тебе при матери надо быть, а не тут болтаться, хоша, конечно, с остяками ты у меня первая помощница.
Он поднял голову и закричал: «Все ли ладно?».
– Да все хорошо, – ответили с вышки, и, посмеиваясь, добавили: «Волк вернулся, атаман».
– Господи! – Ермак перекрестился. «Тихо там у них было?».
– Да вроде миром разошлись, – дозорный перегнулся вниз, – однако же, не здороваются теперь.
Атаман усмехнулся, повернувшись к Федосье. «Василиса, что с Гришкой нашим повенчалась – то невеста Волка была. Ну, отряд его пришел, Великим Постом еще, и сказали, что Михайло в буране замерз. Вот и получилась, – он почесал в седоватой бороде, – каша. Ну, ничего, мужики взрослые, разберутся.
Девушки сидели на дворе и чистили рыбу.
– Ланки, нун кунтэ менлен? – спросила, вздохнув, Василиса.
– После Успения уезжаю, – Федосья выпотрошила большого муксуна и сказала: «Давай юколу сделаем, сейчас жарко, как раз хорошо просушится. Зимой поедите».
Разрезав тушку на два пласта, она потянулась и поцеловала соседку: «Ну, что ты расстраиваешься? После Покрова вон, сколько свадеб будет, одна не останешься».
Василиса, покраснев, зашептала что-то Федосье в ухо.
– Погоди, – спокойно сказала та, потянувшись за еще одной рыбиной. «Третий месяц, как замужем, и хочешь, чтобы вот так сразу все случилось. Оно ж, Василиса, как Господь решит, так и будет».
Та улыбнулась: «Да уж скорей бы!»
Федосья подтолкнула ее: «Да погуляй пока, тебе ж только семнадцатый год идет, успеешь с чадами-то насидеться».
Василиса засыпала уложенную в берестяной туесок рыбу солью и тихо сказала: «Хоть бы Волк с отрядом ушел, а то стыдно ему в глаза смотреть».
– А чего это тебе стыдно? – Федосья принялась развешивать рыбу на деревянном шесте с прибитыми к нему плашками. «Ты ж по любви венчалась, а, что Волк злится – то дело его, не твое».
– По любви, конечно, – вскинув голову, проговорила девушка. «Он у меня добрый, – она вдруг зарделась, и, добавила: «Хорошо с ним».
– Да видно, – ласково сказала Федосья. «Ты ж вон – сияешь вся, как на него смотришь. Ну, пошли, – она подняла испачканные чешуей руки, – помоемся, да сети чинить надо».
Ермак высунулся в окошко и поглядел на играющий над берегом Туры закат.
– А все равно, – он пробормотал, – ночи-то зябкие, от реки ветерком тянет. Наливай, Михайло.
Волк разлил водку и тихо сказал: «Ну, нет моих сил, Ермак Тимофеевич, тут быть. Отправьте меня куда, хоша одного. Я ж каждый день их вижу – так бы голову ему и снес, однако то дело греховное».
– Один ты никуда не пойдешь, на то и дружина, чтобы вместе воевать, – коротко ответил атаман. «В этот раз свезло тебе, Михайло, поди, вон, свечку за сие в церкви поставь. Как вернусь я с Вагая, на Москву отправлюсь, тогда собирай отряд, иди, куда хочется тебе, а пока – тут будь, под рукой. Мало ли что, – Ермак чуть помрачнел.
– Давай, – он порезал кинжалом вяленую оленину, – рассказывай, что ты там видел, на юге. И вот, – атаман поднялся и принес из поставца лист бумаги, – бери уголь, рисуй, я Федосье Петровне потом отдам, она перебелит».
– Умеет она? – заинтересованно спросил Волк, набрасывая контуры рек.
– Она и читать умеет, и писать, не то, что ты, – хмуро ответил атаман, следя за длинными, красивыми пальцами мужчины.
– Завтра к батюшке пойду, – краснея, ответил тот. «Я тем годом еще думал научиться, так вот вышло…»
– Ну, вот и сиди, занимайся, раз ты здесь пока, – кисло заметил атаман. «Взрослый мужик, а имя свое подписать не можешь».
– Золота там, в горах, много, – сказал Волк, пережевывая крепкими зубами мясо. «Что я принес, – то мелочь, там его лопатой грести можно».
– Однако же, – атаман взглянул на карту, – чтобы туда добраться, надо чрез Кучума пройти – он в тех степях отирается, мерзавец. Говорю же, Волк, – свезло тебе.
– Кончать с Кучумом надо, – вздохнул Михайло.
– Ну, вот и покончим к Успению, с Божьей помощью, – Ермак зевнул и перекрестил рот.
«Давай спать, а то я сегодня до рассвета встал, да еще греб против течения сколько».
Волк поднялся, и, уже на пороге, сказал: «К Федосье Петровне схожу».
– Не надо, Михайло, – предостерегающе проговорил атаман. «Зачем? Умер Иван Иванович, и умер, зачем ей раны бередить, зачем знать сие?».
– Затем, что иначе я в глаза ей смотреть не смогу, – ответил мужчина, и закрыл за собой дверь.
Федосья, привалившись к бревенчатой стене своей боковуши, сидя с ногами на покрытой шкурами лавке, писала при неверном, мерцающем огоньке свечи.
– Заяц, – она покусала перо, и нарисовала животное. «Эх, сюда бы Федю!», – вздохнула девушка. «Он бы все быстро обделал, и красиво тако же, не то что, я». «Чевэр» – написала Федосья с правой стороны тетради и продолжила: «Волк…»
– Я тут, – раздался смешливый голос с порога.
– Михайло Данилович! – ахнула девушка, быстро завязывая платок. «Заходите, милости прошу, может, поесть чего хотите?»
– Я с атаманом трапезничал, благодарствую, Федосья Петровна, – Волк протянул ей свернутый лист бумаги. «Вот, я тут карту нарисовал тех мест, где бродил, но как она есть кривая, так Ермак Тимофеевич просил ее перебелить».
– Хорошо, – она поднялась. «Да вы садитесь, Михайло Данилович, – указала Федосья на лавку у маленького стола. «Тут я облачение для батюшки Никифора чиню, сдвиньте его просто».
Волк сел, бросив на стол большие руки, и сказал, не отводя от нее взгляда: «Федосья Петровна, я мужа вашего убил».
Михайло внезапно подумал, смотря в зеленые, мерцающие глаза, что не стоит говорить, каким они с Ермаком нашли атамана, но Федосья, чуть вздохнув, прервала его: «Я же знаю все, Михайло Данилович, я просила их, плакала…, – девушка помолчала и решительно закончила: «Сие вы Ивану Ивановичу милость сделали, спасибо вам. Хоша недолго он мучился».
– Все равно, – жестко сказал Волк, – я кровь безоружного человека пролил. Сие грех, Федосья Петровна.
– Я видела, как глаза ему выкалывали, как пальцы отрубали, – девушка внезапно поднялась и Волк – тоже встал. «Как увозили меня, слышала – он смерти просил. Я вам, Михайло Данилович, желаю, чтобы, коли нужда придет – так с вами рядом такой человек, как вы, оказался.
– Страшные вещи вы говорите, Федосья Петровна, – он заметил, как застыли ее смуглые скулы.
Девушка вздохнула и тихо ответила: «Это потому, что я, Михайло Данилович, теперь знаю, что люди делать-то могут».
– То не люди были, – кратко проговорил Волк и чуть склонил голову: «Почивайте спокойно, Федосья Петровна».
Она, было, взяла в руки тетрадь, но отложила, прислушиваясь к звуку его шагов во дворе.
Внизу, на реке, плеснула какая-то рыбина, лениво перекликались дозорные, и Федосья, распахнув ставни, увидела лунную дорожку на темной воде Туры.
Она набросила на плечи оленью шкуру и, зевнув, подумала: «А далее что? Матушка, в Лондоне, доберусь я туда. Ну, замуж выйду, наверное. Не хочу я уезжать. Тут земли много, просторно, батюшка тако же рядом – хоша и далеко он сейчас, но сказал, что навещать меня будет. Не уеду, – она тряхнула головой, и вдруг услышала девичий смех на косогоре.
– Эй, полуночники, спать идите, – крикнули с вышки.
– Вода такая теплая – томно сказала Василиса, – ровно как молоко оленье на морозе, да, Гриша?
Григорий Никитич сказал что-то, – неразборчиво, – и жена расхохоталась.
– Они счастливые, – Федосья вытянулась на лавке, устроившись на бочок, как в детстве, положив голову на руку. «Вот бы и мне так, хоша когда-нибудь».
– Ну вот, – Григорий Никитич отступил на шаг. «Вот вам мялица для крапивы, трепало, щипцы и гребень, как и просили. Прялку и стан ткацкий налажу, как высушится она».
Федосья закинула голову и посмотрела на стены амбара, увешанные собранными стеблями.
– То не конец, – сказала она кисло Василисе, – потом еще раз вымачивать надо, опять высушивать, а уж после этого – треста получится. Из нее прясть и будем. Но это потом, а сейчас пошли, травы буду тебе показывать, коими недуги лечат».
– Федосья, – спросила девушка, когда они углубились в лес, – а чего ты замуж не вышла, как с батюшкой своим кочевала? Под ним воинов сильных много, охотников хороших. Тяжело же одной тебе.
– Да не сильно тяжело, Василисушка, – Федосья наклонилась и сорвала цветок. «Да и замуж выходить по любви надо, сама же знаешь. Конечно, бывает так, – девушка чуть покраснела, – что и потом любовь приходит, но все равно – лучше уж я одна буду, чем так венчаться, – она махнула рукой.
– Тихо, – Василиса прислушалась, – едет кто, спрячемся, давай.
– Да кто тут может ехать-то, окромя наших? – подняла бровь Федосья, но все же положила пальцы на рукоять ножа.
Всадник, с привешенной к седлу коня связкой уток, улыбнулся: «Гуляете, Федосья Петровна?».
– Травы целебные сбираем, Михайло Данилович, – сухо сказала Феодосия и добавила: «А что это вы с Василисой Николаевной не здороваетесь, а она рядом со мной стоит?».
Волк, молча, смерил Василису взглядом – от маленьких, обутых в сапожки оленьей кожи ног, до алого платочка на голове, – и проехал мимо.
– Говорила я тебе, – прошептала Василиса и тихо заплакала. «И Грише говорила – давай к батюшке уйдем, в стойбище, Волк все равно нам тут жить не даст, изведет. Гриша мастер, какой, разве ж атаман его отпустит?».
– Ерунду порешь, – сочно сказала старшая девушка. «Никто никуда уходить не будет, а Волк ваш – дурак просто. Моя матушка вона одиннадцать лет думала, что отчима моего в живых уже нет, двоих детей родила, а как встретились они – и стали вместе жить, как положено. А ведь они с отчимом моим повенчаны были, не то, что вы с Волком. Слезы утри и слушай меня, когда уеду я – у тебя все травы будут, на случай чего».
– А с Волком, – загадочно улыбнулась Федосья, когда они, стоя на коленях, выкапывали корни, – сие дело поправимое.
– Йем улем! – хором сказали остяцкие дети, – три мальчика и две девочки, – выбегая из маленькой горницы батюшки Никифора, где занималась с ними Федосья.
– До свидания! – улыбнулась она, и встав, закрыв свою тетрадь, застыла, – из-за стены доносился мужской голос, по складам читавший начало Евангелия от Матфея.
Девушка подождала немного, и, выйдя на крыльцо, прислонилась к столбику.
– Федосья Петровна! – сказал Волк. Она обернулась, и, глядя в его веселые, голубые глаза, сказала: «Смотрите, какая погода на дворе хорошая, так бы и на конях прокатиться.
Помните, как мы с вами в степи-то скакали?»
– Хотите? – он подался вперед. «Я тогда вас за воротами ждать буду, кобылку вам смирную брать, как и в тот раз? – он ухмыльнулся, и Федосья вдруг вспомнила большой, яркий сноп осенних листьев, что Волк привез ей тогда, совсем давно.
– Да вы же знаете, Михайло Данилович, можно и резвую лошадь, – девушка посмотрела на него, – он был лишь чуть повыше, и добавила: «Я со всяким конем справлюсь».
Они медленно ехали по высокому берегу Туры. «Никогда в жизни, Федосья Петровна, я таких гор не видел, – сказал ей Волк, – представляете, стоите вы, и там, – он показал рукой, – в отдалении – как будто в сказке какой, и вправду – до небес поднимаются. И снег там, на вершинах, круглый год лежит».
Федосья вспомнила Монблан, который мать показывала ей, когда они жили в Женеве, и чуть улыбнулась.
– Не верите? – обиженно спросил Волк. «Тако же и парни – говорили, мол, ты ври да не завирайся, не бывает таких гор. А я вот этими глазами на них смотрел».
– Ну отчего же, Михайло Данилович, верю, – мягко сказала девушка. «А что за люди там живут?».
– Хорошие люди, – Волк улыбнулся. «На здешних немного похожи, однако там тепло, леса только на склонах гор растут, а так, – степь, так у них не чумы, а юрты, как у татар. И лошади – невысокие, но резвые и выносливые. А так добрые люди, меня приютили, хоша я с ними и на пальцах говорил».
– Вы, я слышала, с батюшкой Никифором занимаетесь? – спросила девушка.
Волк покраснел, – нежно, и пробурчал в бороду: «Ну да, раз уж все равно атаман меня пока никуда не отпускает».
– Хотите, я вам помогать буду? – Федосья искоса взглянула на него. «Мне сие нетрудно, Михайло Данилович».
– Ну, ежели вам времени не жалко, – неуверенно сказал мужчина.
– Да я опосля Успения все равно на Москву поеду, с атаманом, так что не жалко, конечно, – вздохнула Федосья.
– Вот как, – коротко сказал Волк и остановил лошадь.
Внизу медленно текла Тура, на горизонте вилась серебристая лента Тобола, и Федосья, вдохнул свежий, вечерний воздух, сказала: «Хорошо!».
Леса на другом берегу реки – огромные, бескрайние, стояли все в свежей зелени, и девушка, нагнувшись, собирая цветы, проговорила: «Завтра детки придут, поставлю в горницу на стол, красиво же».
Волк улыбнулся и сказал, глядя на горизонт: «А помните, как я вам свою одежду давал? Вам эта, – мужчина кивнул на штаны и рубашку Федосьи, сшитые из оленьей кожи, – тако же хорошо».
– Это я сама сшила, как с батюшкой жила, – девушка вскочила в седло. «Ну, давайте трогаться, поздно уже».
– Поздно, да, – пробормотал Волк, следуя за ней. Темные волосы девушки были сколоты на затылке и прикрыты косынкой, стройные плечи чуть покачивались в такт шагам лошади, и она вдруг, обернувшись на мужчину, усмешливо сказала: «Я спою, Михайло Данилович».
Волк знал только несколько слов на остяцком языке, и просто слушал, даже не пытаясь понять. У нее был нежный, высокий голос, – будто, подумалось ему, у соловья.
– А о чем вы пели, Федосья Петровна? – спросил Михайло, когда они подъезжали к воротам крепостцы.
– А сие, Михайло Данилович, – дело мое, – капризно выпятив вишневую губу, сказала девушка и повела лошадей на конюшню.
– Все равно выведаю, – глядя ей вслед, пообещал себе Волк.
– Вот так, – Федосья, что сидела напротив Волка, показала ему перо. «Так и держите, Михаил Данилович, так удобнее».
– Как по мне, так саблей удобнее, – пробормотал мужчина, и сдул со лба прядку белокурых, играющих золотом в майском солнце, волос.
– Жарко-то как, смотрите, – сказала Федосья. «Троица на той неделе, а уже такое тепло. Надо будет перед праздником в лес пойти, веток березовых наломать, чтобы церковь украсить».
Волк оторвался от листа бумаги и гордо сказал: «Ну, посмотрите, Федосья Петровна».
Она наклонилась – совсем рядом с ним, и Михайло почувствовал запах цветов – или это были те, что стояли на столе – в простом глиняном горшке? Он украдкой вдохнул еще раз – ее волосы пахли чем-то кружащим голову, легким.
– Вот, – девушка улыбнулась, – уже лучше, Михайло Данилович. Видите, научились свое имя подписывать, и совсем быстро. Теперь давайте я вам слова говорить буду, а вы – пишите.
Короткие слова, – добавила Федосья, заметив панику в его глазах, – у вас получится.
– С ошибками будет, – угрюмо проговорил Волк, берясь за перо.
– Тоже ничего страшного, – легко улыбнулась Федосья.
– А у меня именины скоро, – сказал Волк, закончив, посыпая бумагу речным, мелким песком.
«На мученика Михаила Савваита, как раз накануне Троицы в этом году».
– Девятнадцать лет же вам, да? – спросила девушка.
– Помните, Федосья Петровна, – мужчина чуть покраснел.
– Помню, конечно, Михаил Данилович. Она вдруг чуть вздохнула: «А там и Ермак Тимофеевич уже на Иртыш отправляется, после праздника».
– Там пост Петровский начнется, – обернулся Волк на пороге.
– Ну да, – недоуменно подтвердила Федосья. «А что вам пост, Михаил Данилович, он же каждый год».
– Да так, – коротко ответил Волк, и, поклонившись, вышел.
Он сидел у окошка, вдыхая свежий ветер с реки, чиня в белесом свете летнего вечера свой кафтан.
Волк отложил иглу и вслушался. Высокий, красивый голос пел что-то на остяцком языке, – совсем рядом. «Смотри-ка, такая же песня, – пробормотал он, и вдруг, решительно поднявшись, вышел.
Григорий Никитич жил в соседней избе, и Волк долго мялся на дворе, прежде чем постучать в ставню.
– Чего тебе? – угрюмо сказал парень, открывая дверь. «Ежели тебе, что до меня надо – пойдем за ворота, а хозяйку мою ты пугать не смей, не позволю».
Михайло почувствовал, что краснеет. «В горницу-то дай зайти, – попросил он.
– Ужинаем мы, – Гришка все еще стоял в сенях. «Тут говори, и так вон, ты ее, – он кивнул на дверь, – до слез довел, боится она».
– Незачем меня бояться, – глядя в сторону, ответил Волк. «Что было, то прошло, Григорий Никитич, я обиды на тебя, али Василису Николаевну более не держу. Дело у меня до нее есть, помощь нужна».
Василиса встала из-за стола, и, сглотнув, перебирая рукой, аметистовое ожерелье на смуглой шейке, проговорила: «Может, трапезу с нами разделите с нами, Михаил Данилович?». Она взглянула на мужа, и Григорий кивнул головой.
– Вкусно готовите, Василиса Николаевна, – похвалил Волк, облизывая пальцы.
– Сие Гриша, – она смутилась, – ну Григорий Никитич, с утра на охоту ходил, а я уток в печи томлю, они тогда мягкие получаются.
– Я тут глину нашел на Туре, чуток повыше нас по течению, – сказал Григорий Никитич, разливая водку, – хорошая глина, с песком как раз для горшков сгодится. Схожу к атаману, поговорю с ним, чтобы печь на берегу устроить.
– Так гончарный круг же надо, – нахмурился Волк.
– Сие ерунда, – Григорий выпил, – его я быстро налажу. Опять же и остякам горшки занадобятся.
– Вот я про остяков, – неуверенно начал Михайло. «Вы тут песню слышали, ну, Федосья Петровна ее пела?».
Красивые губы Василисы чуть улыбнулись. «Хорошо она поет, Михайло Данилович, да?».
– Хорошо, – хмуро сказал мужчина. «А про что сия песня, Василиса Николаевна?».
В раскрытые ставни было видно, как на том берегу Туры, за лесами, спускается вниз темно-золотое солнце. Василиса посмотрела на медленно темнеющее небо и ответила:
– Называется – песня птицы. Ее девушки поют, когда о любимом думают. Вот какие там слова: «Сколько я буду еще петь, и мечтать о нем? Утром восходит заря, я спешу собирать ягоды, и в полдень я возвращаюсь домой, разве я могу своего любимого оставить? Вечером, когда погаснет заря, я начинаю рассказывать сказки – каждая о моем любимом».
– Спасибо, Василиса Николаевна, – после долгого молчания сказал Волк и поднялся. «И за трапезу спасибо вам. Ты, Гриша, – он посмотрел на друга, – как зачнешь печь делать, то зови, раз я пока тут – помогу тебе».
Мужчины пожали друг другу руки, и, когда Волк вышел, Григорий, посмотрев ему вслед, сказал жене: «Что это Волк, вроде и на себя не похож?».
Та устроилась у мужа на коленях, и, обняв его, прошептала: «Томится, видно же».
– Пойдем, – сказал Григорий решительно, легко подхватывая девушку на руки, – я тоже что-то томиться начал, на тебя глядя, да и пост уже скоро, счастье мое, а я загодя наесться хочу.
Волк ловко бросил аркан на верхушку молодой березы и пригнул ее к земле. «Спасибо, Михаил Данилович, – сказала Федосья, и достав нож, принялась срезать покрытые еще клейкими листочками ветви.
– Вот как красиво будет, батюшка порадуется, – сказала девушка, глядя на охапку ветвей.
«Остяки же, кто крестился, на праздник приезжают, с семьями, много народу будет, нам с Василисой Николаевной цельный день готовить придется, атаман же столы ставит, и для дружины, и для гостей».
Волк неожиданно, запинаясь, сказал: «Федосья Петровна, а почему вы на Москву уезжаете?
Остались бы. Или плохо вам тут?».
– Мне тут хорошо, Михаил Данилович, – ответила девушка, глядя в синее небо, с белыми, ровно пух облаками. «Очень хорошо. Однако ж я вдовею, невместно мне одной-то среди мужчин жить, надо под материнское крыло вернуться».
– А если б вы повенчались – остались бы? – мужчина покраснел.
– Осталась бы, конечно, – усмехнулась Федосья, – куда бы я от мужа-то поехала? Да вот не зовет никто, Михаил Данилович.
Она вдруг, вспомнив что-то, потянула из кармана кожаные, искусно вышитые ножны для кинжала: «Держите, Михаил Данилович, с днем ангела вас!».
Волк коснулся рукой ее руки – мягкой, с длинными, смуглыми пальцами, и почувствовал, что его щеки запылали.
– Спасибо, Федосья Петровна, – сказал он, еле слышно. «Спасибо вам. А вот, – он вдруг закашлялся. «Ежели бы, скажем я, вас венчаться позвал – вы бы, наверное, отказали, да? Я ведь не нравлюсь вам».
Она долго молчала, все еще глядя в небо, и, наконец, ответила: «Вы, Михаил Данилович, не знаете многого, что было со мной. Я вам расскажу, а вы уж потом решайте – по сердцу вам сие, или нет».
Волк сидел рядом, покусывая травинку, искоса глядя на ее чуть алеющие щеки. Она часто, глубоко дышала, и мужчина увидел, как поблескивает на солнце ее золотой крестик – крохотный, будто детский.
«Хватит, – вдруг обозлился он. «Что ж, я не мужик, сижу и слушаю, как моя любимая опять мучается – оно ж и говорить о сем – боль неизбывная».
– Ну, вот что, – прервал ее Волк, – сие мне, Федосья Петровна, вот совершенно неважно, и не надо упоминать это более, оно прошло, и не вернется. Вы мне только ответьте – люб я вам, али нет?».
Она вдруг протянула руку, и, достав травинку, что он покусывал, лукаво улыбнувшись, обвила ее вокруг своего пальца.
Волк взял ее ладонь в свои большие руки и спросил: «Можно?».
Федосья кивнула, и он поцеловал ее пальцы, прижался губами к запястью, и вдруг сказал:
«Господи, да бывает ли счастье такое?».
– От тебя гарью пахнет, – сказала Федосья, улыбаясь, зарывшись лицом в его белокурые, мягкие волосы. «Вы там жгли что-что, на реке?».
– Печь для глины пробовали, – Волк взял ее лицо в ладони. «Какая ж ты у меня красивая, Федосья, сейчас как начну тебя целовать, и остановиться не смогу, до самого венчания, и после него – тако же».
– Как Покров пройдет, повенчаемся? – спросила она, обнимая его.
– Еще чего, – сочно ответил Волк, откидываясь на спину, устраивая ее у себя на плече.
«Опосля Троицы неделя еще есть, Федосья ты моя Петровна».
– Потом же пост, – озабоченно сказала девушка.
– А потом еще один, – сварливо сказал Михайло, целуя ее. «Я так долго ждать, не намерен, любовь моя, я хочу, чтобы все было сейчас, и сразу, понятно?»
– Понятно, – выдохнула она, снимая платок, распуская темные косы.
В пятницу на Троицкой седмице они повенчались.