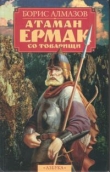Текст книги "Вельяминовы. Начало пути. Книга 2"
Автор книги: Нелли Шульман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 64 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
– Я сейчас приду, – сказала она спящему Никитке. «Водички наберу, и сразу приду. А потом Федосье Петровне избу помоем и погулять пойдем, хорошо?».
Мальчик чуть вздохнул и заснул, казалось, еще крепче. Василиса подхватила деревянное ведро, и выбежала на улицу.
– Только б не заплакал, – подумала она, спеша к реке. «Еще и меня рядом не будет, испугается ведь. Ну, ничего, падать ему там некуда, ничего. Зимой следующей уж и ходить начнет, медвежонок мой».
Девушка опустила ведро в холодную, черную гладь воды, и, рассматривая свое отражение, вдруг улыбнулась: «Хоша бы Гриша скорее приехал, соскучилась я уже. Права Федосья – без мужа и спится плохо, хоть и Никитка под боком, а все равно – одиноко».
Она удобнее подхватила ношу и стала медленно, осторожно подниматься по скользким ступеням деревянной лестницы, что вела в крепостцу.
«Вернулись, никак? – Яков Чулков приостановился, заметив приоткрытую дверь, что вела в избу Федосьи Петровны. «Как это охранники их пропустили, я ж велел – как зайдут в крепостцу, так немедля меня известить. Вот же разленились тут все, и вправду – даже если Кучум тут с войском появится, не приведи Господь, так они его не заметят».
Он чуть стукнул в дверь и прислушался. В избе было тихо. Яков Иванович медленно толкнул ее и увидел спящего на полу горницы ребенка.
– Ну-ну, Василиса, – усмехнулся он, шагнув через порог, – вот ты мне и попалась. А Федосья Петровна, смотрю, охотится еще. Ну, пущай птицу бьет, как вернется с батюшкой своим – все равно от меня не уйдет».
Он прислонился к стене и стал ждать, вычищая кинжалом ногти.
Василиса втащила в избу ведро и замерла – шкура была пуста. «Господи!», – она перекрестилась и оглянулась вокруг.
– Никитка? – позвала она. «Ты где, Никитушка?».
– Что ж ты за мать-то? – услышала она шутливый, мягкий голос наместника. Никитка лежал у него на руках.
– Убежала, а дитя бросила. А если б заплакал он? Хорошо, я мимо проходил, увидел, что дверь у Федосьи Петровны открыта, заглянул посмотреть – в порядке ли все».
– Да я за водой ходила, Яков Иванович, – смутившись, ответила девушка. «Спасибо вам, что за дитем-то присмотрели».
Она потянулась к Никитке, который как раз начал просыпаться, и, еще не плача, оглядывал незнакомого человека раскосыми, темненькими глазками.
Чулков посмотрел на ведро с ледяной водой, что стояло на полу между ними, и вдруг рассмеялся: «Знаешь ты, что сие – кошка? Нет же их у вас в стойбищах, собаки только?».
– Григорий Никитич рассказывал, да, – недоуменно ответила Василиса. «А что?».
– Так значит, никогда ты не видела, как котят топят? – усмехнулся Чулков и одним быстрым, неуловимым движением опустил голову Никитки в воду.
– Нет! – закричала девушка и бросилась на Чулкова, но тот, оттолкнув ее, вынул отчаянно плачущего, мокрого Никитку и сказал: «В следующий раз утоплю».
– Ваша милость, – разрыдалась Василиса, стоя на коленях, – не надо, не надо, пожалуйста.
Он есть хочет, дайте его мне.
Никитка кричал, и девушка с ужасом увидела слезы на его щеках – крупные, обиженные.
– Ты смотри, Василиса, – улыбнулся наместник, – сейчас люди услышат, мужу твоему потом расскажут, что, – как только он за ворота, ты с полюбовником в пустой избе встречаешься.
Она уже ничего не слышала – она протянула руки к плачущему сыну и обессилено сказала:
«Он же заболеет так, ваша милость, его надо в шкуру завернуть и грудь дать. Я все сделаю, что вам надо, все, только дитя мое пусть не страдает».
– Ну, так раздевайся, и сарафан подыми – велел Чулков.
Девушка стояла, опершись о стол, смотря на успокоившегося, сухого Никитку. Он прикорнул у ее груди, сытый, и Василиса услышала сзади голос наместника: «Ну, он у тебя спит давно уже. Клади на пол его и сама ложись».
Василиса сдвинула ноги, распрямилась, и молча, устроив рядом с собой Никитку, опустилась на шкуру.
Она протянула руку к ребенку, и, отвернув лицо, смотрела на мирно дремлющего сына – закусив губу, сдерживая слезы.
– Завтра придешь сюда, опосля вечерни, – велел потом Яков Иванович, вставая с нее. «И не болтай, а то твой муж от меня все, как было, узнает. И как крутила ты передо мной хвостом, и как на шею бросилась. Сына-то он себе оставит, а тебя на все четыре стороны выгонит, пойдешь обратно в свое стойбище, в дерьме там прозябать, и ребенка более не увидишь.
Поняла?»
Василиса молчала. Чулков наклонился и хлестнул ее по щеке: «Поняла?».
Она кивнула. «Три раза в неделю приходить будешь», – сказал он, одеваясь.
– Так Пост же Великий идет, – слабым, еле слышным голосом сказала девушка.
– Отмолю, – усмехнувшись, коротко ответил наместник.
Когда дверь за ним захлопнулась, Василиса взглянула на милое, спокойное личико сына, и, скорчившись на боку, вытерла сарафаном липкие, испачканные ноги. Она подтянула колени к животу и зарыдала – без слез, закусив руку, чтобы не разбудить ребенка.
– Смотрите-ка, батюшка, – Федосья сдвинула капюшон малицы и вдохнула чистый, напоенный солнцем воздух, – еще даже луна не прошла, а как погода-то поменялась, сразу видно, весна скоро.
Тайбохтой только коротко улыбнулся, затягивая ремни оленьей кожи на горе мороженой птицы, что возвышалась на нартах. «Это весна обманная еще, Ланки, еще бураны могут подняться такие, что из чума носа не покажешь».
Федосья потрогала носком сапожка ноздреватый, рыхлый сугроб. «А весны-то хочется, – улыбнулась она. «Может, все же останетесь, батюшка, Волк уж скоро вернуться должен, повидаетесь».
– Да и так уж я слишком долго на одном месте пробыл, – отец проверил упряжь и сказал: «Ну, вставай, вместе с тобой нарты потянем, а олени пусть тут побудут. Вернусь, чум сложу, и дальше отправлюсь, земли много вокруг. Следующим годом приеду, может, уж к тому времени и внука нового увижу», – он ласково улыбнулся дочери.
– На то воля Божья, – буркнула Федосья, и, примериваясь к широкому шагу отца, потянула нарты по тропинке, что вела к берегу Туры.
Никитка потер кулачками глазки и, все еще не выпуская изо рта соска, задремал. В распахнутые ставни вливался свежий, прохладный воздух, и Василиса, сглотнув, стараясь не плакать, подумала: «Господи, а ведь не успеешь оглянуться, и Пасха. И Гриша вернется, как же мне в глаза ему смотреть, что делать? Я бы в стойбище ушла, после сего-то разве будет он со мной жить, так батюшки с матушкой нет поблизости, а чужие разве примут меня с дитем? Не моего рода они, зачем им меня кормить с Никиткой?»
Она застыла, чуть покачивая ребенка, вспоминая, как стояла на коленях в Федосьиной горнице, умоляя его, тихо, беззвучно плача.
– Не будешь приходить в лес, все мужу твоему расскажу, – коротко бросил ей Яков Иванович.
«Ну, рот открывай, делай свое дело, научилась, я смотрю, с кузнецом-то твоим».
– Дак что мне мужу-то говорить, – после, стирая слезы со щек, спросила Василиса. «Куда иду-то я?».
– Придумаешь что-нибудь, – пробормотал Яков Иванович, тяжело дыша, заворачивая на спину ее сарафан. Василиса прижалась лицом к деревянному, хорошо обструганному столу, и, вдруг вспомнив, как они пекли здесь пироги с Федосьей и Груней, чуть не разрыдалась вслух.
– А Груня, наверное, к родителям, вернулась, – вздохнула девушка, укладывая ребенка в колыбель. «Господи, ну как же мне дальше-то быть?».
Она посмотрела в темные, строгие глаза Богородицы, что глядели на нее из красного угла, и вспомнила слова Федосьи: «От стыда никто из баб еще не умирал».
«А медвежонка моего как бросить?», – Василиса съежилась на лавке, обхватив руками колени. «Пресвятая матушка, заступница, ну помоги ты мне, научи меня!».
Девушка вцепилась зубами в костяшки пальцев и вдруг, уронив голову в колени, вспомнила, как здесь же, в этой горнице, слабо, чуть мерцая, горела свеча, в ту ночь, после ее венчания.
– Счастье мое, – тихо, одними губами сказал ей Гриша, гладя ее по растрепанным, темным волосам. «Как я люблю тебя, так я, и сказать не могу».
Василиса вдруг почувствовала слезы у себя на ресницах, и чуть всхлипнула.
– Больно еще? – муж прижал ее к себе – нежно, ласково. «Ты отдохни, счастье, поспи, давай, я за руку тебя просто подержу».
– Не больно, – целуя его, ответила Василиса. «Это как, – она вдруг задумалась, – как после зимы в первый раз солнце увидеть. Так тепло, так хорошо, так бы и стояла, и грелась под ним. Вот, – она почувствовала, что краснеет, и спрятала лицо у мужа на плече, – ты мне солнце и показал».
– Ну, так давай еще раз покажу, – девушка почувствовала в полутьме его улыбку, и сама рассмеялась: «До утра-то придется показывать».
Гриша, устраивая ее удобнее, заметил: «И днем тако же, мне атаман заради венчания разрешил в кузницу-то завтра не приходить. Но, Василиса Николаевна, ты уж меня покорми, с утра-то, а, то у тебя тут, – он коротко показал, – где, и девушка застонала, – вкусно, но одним этим сыт не будешь».
Василиса, едва слышно рыдая, раскачиваясь, посмотрела на потолок избы. «Выдержит», – подумала она, вставая, забираясь на лавку, осторожно снимая с очепа колыбель. Никитка даже не проснулся.
– Он сытый, – подумала девушка, глядя на темные, загнутые реснички. «Долго проспит.
Дверь открытой оставлю, как заплачет, услышит кто-нибудь. Господи, что же я делаю, сие грех смертный.
Лучше уж уйти с Никиткой в лес, замерзнуть там вместе. А он чем виноват? Кто покормит-то его? Хотя нет, кто рядом с крепостцей из наших остяков, живет – там младенцы есть. Ну, слава Богу, – она положила сыночка на пол, и единое мгновение смотрела на его лицо – пристально.
– Медвежонок мой, – пробормотала Василиса, и, нежно устроив Никитку под лавкой, выглянула в сени. Приоткрыв дверь во двор, девушка медленно взяла с полки, что устроил Гриша, моток веревки, и, вернувшись в горницу, придвинула стол поближе к крюку, что торчал из потолка.
– С лавки-то не дотянусь, – коротко подумала она, устраивая петлю. Девушка забралась на стол, и, встав на цыпочки, привязала веревку на крюк. «Я легкая, – холодно вспомнила Василиса, и накинула петлю на шею.
– Ты вот что, – распорядился отец, разгружая нарты у ворот крепостцы, – возьми сразу птицы какой, и к Васхэ иди, а то в твой лабаз все не уместится. А я остальное отнесу.
– А нарты как же? – озабоченно спросила Федосья, набирая в руки рябчиков.
Тайбохтой рассмеялся. «Вашим людям они не нужны, а наши чужие нарты не возьмут, это как у вас коня украсть – хуже греха нет».
– Как поохотились, Федосья Петровна? – крикнули ей с вышки.
– С Божьей помощью, до Троицы мяса хватит, – ответила она, стараясь удержать тяжелые, скользкие тушки.
Дружинник подождал, пока Тайбохтой с дочерью войдет в крепостцу, и шепнул товарищу:
«Беги до Якова Ивановича, скажи – тут они».
Федосья толкнула дверь горницы и, подняв голову, увидела прямо перед собой темные, измученные глаза подруги.
Рябчики с грохотом полетели на пол, Никитка, проснувшись от шума, обиженно заплакал, и Федосья сухо сказала: «У тебя дите заливается, не слышишь, что ли? А ну грудь ему дай немедля!».
Василиса медленно сняла петлю и сонно, не глядя на подругу, проговорила: «Сейчас покормлю, и потом все сделаю».
– Сделаешь, сделаешь, – уверила ее Федосья, и, когда девушка оказалась на полу, отвесила ей хлесткую пощечину.
– Ой! – вскрикнула Василиса, держась за щеку. «Ты что меня бьешь?».
– Да я б тебя убила, будь моя воля, – сочно сказала Федосья, поднимая орущего Никитку, и расстегивая на Василисе сарафан.
Та подняла глаза, и, увидев крюк с раскачивающейся на нем петлей, побледнела. «Что это?», – спросила Василиса, указывая на потолок. «Откуда оно здесь?».
Федосья погладила шумно сосущего мальчика по русым локонам, и, вздохнув, ответила:
«Сие ты сама сотворила, подружка. А теперь корми, и все мне рассказывай, ничего не таи в себе».
Тайбохтой развесил птицу по стенам лабаза, и, отступив на шаг, усмехнулся: «Ну, теперь не проголодаются».
Он заглянул в бочку с квашеной рыбой, и, поведя носом, сказал сам себе: «Надо Ланки напомнить, чтобы до весны ее съели, иначе дух пустит. Так, – он оглянулся, – юкола есть у них, соль тоже, жира медвежьего вдосталь, могу ехать спокойно».
– Ваша милость, – раздался сзади робкий, юношеский голос. «Ваша милость..
– Что такое? – нахмурился Тайбохтой, оглядывая с ног до головы мнущихся на дворе дружинников.
– Его милость наместник воеводы сибирского с вами поговорить желает, к себе на чарку просит, – проговорил юноша. «В избу воеводскую».
– Ермака Тимофеевича избу то есть, – иронически улыбаясь, поправил его Тайбохтой. «Ну что ж, пойдем, поговорим с его милостью наместником, посмотрим, что ему надо-то».
Он легко подхватил лук со стрелами и вышел, хлопнув калиткой.
– И не холодно ему, – пробормотал один из дружинников, глядя, на обнаженные до плеч, сильные, смуглые, разукрашенные татуировками, руки мужчины, что шел впереди них.
– Говорят, он белку в глаз бьет, и птицу в полете за версту снимает, – прошептал второй.
– Правильно говорят, – не оборачиваясь, заметил Тайбохтой.
Федосья прижала к своему плечу голову Василисы и сказала: «Ну не дура ли? Как есть дура – дитя свое бросать вздумала. А если б я не пришла вовремя? Ну что тебе в голову взбрело-то?»
– Да как жить-то мне теперь? – Василиса вытерла лицо подолом сарафана и тут же опять расплакалась. «Ежели он Грише расскажет, тот меня сразу на улицу выгонит. И Никитку не отдаст. Что мне делать-то после этого. А он сказал, – если не буду, ну…, – девушка покраснела, – то муж мой все узнает».
– Ах, подруженька, – Федосья ласково покачала девушку, – ужель ты думаешь, что Гриша хоть слово одно дурное тебе скажет? Он же любит тебя, и Никитку больше жизни – как он на вас смотрит-то, так любая баба твоему счастью позавидует.
– Да Гриша теперь и не коснется меня, – Василиса опустила лицо в ладони, – я ж теперь на всю жизнь запачканная. Уйти бы, так без Никитки я не могу.
– Уйти тебе надо, конечно, – задумчиво проговорила старшая девушка, – сбирайся-ка милая.
Ну, так, чтобы налегке ты была, но все нужное с собой возьми. А что пачканная ты, или еще какая – сие ерунда. Григорий Никитич твой мужик умный, это для него неважно будет.
– Он, – Василиса горько мотнула головой в сторону улицы, – сказал, что я, – девушка покраснела, и закончила, шепотом, – блядь теперь, а не жена честная».
– А ты его слушай больше, – кисло заметила Федосья и вдруг приостановилась: «Сиди-ка ты тут, носа никуда не высовывай, а я за батюшкой Никифором схожу».
– Не надо! – шепотом крикнула Василиса, вцепившись в рукав Федосьиной малицы. «Это ж стыд, какой, разве можно ему говорить!».
– Нужно, – ответила Федосья, затягивая капюшон. «Чулков, мерзавец этот, меня и слушать не будет, а священник, может, хоша приструнит его. Ты-то сейчас уйдешь, я отца своего попрошу, чтобы до Пасхи не уезжал, с ним будешь жить, в чуме, а там и Гриша вернется.
Однако ж тут и другие женки есть, неохота, чтобы наместник, – Федосья усмехнулась, – их поганил».
Тайбохтой обвел глазами богатую горницу и задумчиво сказал: «Во времена Ермака Тимофеевича тут проще было».
– Прошли те времена, – коротко заметил развалившийся на лавке Чулков. Он налил себе водки и добавил: «Ты почему веру христианскую не принимаешь, остяк? На тебя смотря, и другие инородцы в заблуждениях своих остаются».
– На юге, за горами, народ есть, сами себя хань называют, – улыбнулся Тайбохтой. «Много их, как звезд на небе, дружить с ними надо, придет время – они сильными станут. У них вера с тех времен, о которых и сказать нельзя – как давно были они. И дальше, там совсем горы высокие, небеса подпирают – там тоже вера древняя. И у нас, остяков, такая же вера. А ваша вера что? – вождь вдруг улыбнулся. «Для вас она хорошо, так и живите с ней. А я со своими богами жить буду. И в договоре, что у нас с атаманом был, то же сказано».
– Ну, смотри, – нахмурился Чулков, и вдруг спросил: «Кучум где? Он тебя сюда выведать все послал, ворота наши его войску открыть?».
– В степях, наверное, обретается, – пожал плечами Тайбохтой. «Я его давно не видел, я человек мирный, кочую, воевать мне с вами не надо, иначе, зачем бы я остяков своих под вашу руку привел?».
Чулков вдруг оглядел мощную, высокую фигуру мужчины и хлопнул в ладоши.
– В острог его, – приказал наместник десятку стрельцов, что появились из сеней. «Там и поговорим о хане Кучуме, да и о другом – тоже».
Федосья шагнула чрез порог горницы отца Никифора и застыла – прямо на нее смотрели презрительные, голубые глаза Якова Чулкова.
– А, вот и дочка-то нашего остяка явилась, не иначе, как сказали ей уже, что в остроге князь Тайбохтой сидит, – наместник ухмыльнулся.
Девушка почувствовала, что бледнеет, и схватилась за косяк двери. «Да за что, ваша милость? – сказала она, едва слышно. «Отец мой человек мирный, что воевал он с нами – дак то дело прошлое, он же сам с Ермаком Тимофеевичем задружился».
– Задружился, чтобы для Кучума соглядатаем быть, – ответил Чулков. «Да и тебя, Федосья Петровна, надо поспрашивать – не для того ли ты в крепостцу вернулась, чтобы отрядам Кучума ворота открыть?»
– А как же, – вдруг, вскинув голову, проговорила Федосья, – издевательски. «Мне, ваша милость, наверное, так по душе пришлось, когда Кучум с Карачей меня вдвоем, непраздную, насиловали, что я хочу повторить сие. И нужник у хана чистить мне понравилось, и задницу ему языком вылизывать. Для сего и вернулась, да, а как же».
Чулков вдруг покраснел и отвернулся от нее.
– Батюшка мой, – жестко продолжила Федосья, – кочует, и не с Кучумом не знается. Тако же и я. Нет у вас никакого права моего отца в остроге держать, я, ежели надо, до царя Федора Иоанновича дойду, а правды добьюсь, – она вздернула подбородок.
– Крестится твой отец, тогда и выпущу его, – буркнул Чулков. «Глядя на него, и остальные остяки в святую церковь не приходят, а нам сего не надобно».
– Ну, ваша милость Яков Иванович, так быстро все не делается, – раздался из сеней голос батюшки Никифора. «Поговорил я с Тайбохтоем-то, упорствует он, надо его увещевать, – мягко, а на сие время требуется».
– А ты не тяни, поп, – буркнул Чулков. «Вона, прорубь на Туре, окунуть его и дело с концом».
– Зачем силой-то, ваша милость, – еще более ласково сказал священник, – дайте срок, он сам раскается и придет в ограду веры истинной. А до сего времени я навещать его буду, разговаривать, – каждый день.
– Быстрее давай, – велел Чулков, и, не глядя на Федосью, вышел из горницы.
– Вот что, девочка, – глаза батюшки Никифора, – карие, спокойные, – были совсем рядом, и Федосья почувствовала его жесткие пальцы у себя на плече, – неделю мы с твоим батюшкой потянем еще, а более – не сможем. Так что велел он тебе брать его оленей, нарты, и отправляться в Тобольск – за мужем твоим, без него нам не обойтись.
– Батюшка! – ахнула Федосья.
– Иисус силой нам приводить никого не заповедовал, – вздохнул батюшка, – грех это – людей против воли-то их крестить.
– И вот еще что – Чулков велел тебя из крепостцы не выпускать, в заложниках, так сказать, оставить, но ты не волнуйся. У меня калиточка тайная есть в стене, я, как твой муж их рубил, попросил мне ее сделать – с требами я, бывает, и ночью хожу, умирающего причастить, что ж мне дозорных каждый раз тревожить. И калиточка та на моем дворе заднем, окромя меня и Волка про нее и не знает никто, – батюшка улыбнулся.
– Еще одного человека вывести надо будет, – сглотнула Федосья и внезапно сказала:
«Спасибо вам, батюшка».
– Как отца твоего вызволим, дак благодарить и будешь, – священник улыбнулся.
– Ну что ж ты раньше ко мне не пришла, девочка? – батюшка Никифор погладил головенку Никитки, что спокойно спал у него на руках, и взглянул на Василису. «Еще и руки на себя наложить вздумала, сие ж грех какой. Как ты дитя-то свое сиротить могла?».
– Стыдно было, батюшка, – девушка тихо, горько разрыдалась. «Даже говорить о сем – и то стыдно».
– А младенца грудного без материнской любви да ласки оставить, – то не стыдно, – ядовито проговорил батюшка. «Сие не стыд и не позор – коли б ты девица была невинная, то да – девство свое даже под страхом смерти хранить надо, святая мученица Агафия нам тому примером.
– А так, – батюшка вздохнул, – дитя же у тебя, тут о нем думать надо, не о себе. Ну, до Пасхи Святой теперь читай каждый день по сорок раз «Богородице, Дево», и по сорок раз «Верую».
И молись заступнице своей, святой отроковице Василисе Никомидийской, ибо она младше тебя была, а веру свою и в пещи огненной стоя, сохранила».
– А как же Григорий Никитич? – опустив прикрытую платочком голову, спросила девушка.
«Нельзя ж после такого мне с ним жить, уйти надо».
– Что Бог соединил, того человек не разрушит, – коротко ответил батюшка, и, чуть помолчав, добавил: «Вон мы думаем – мученики святые за веру страдали, во рву львином, али на арене игрищ языческих. А Бог, Василиса, бывает, и по-другому человека испытывает – и к сему тоже готовым надо быть».
Батюшка чуть погладил ее по смуглой, еще влажной от слез щеке, и ворчливо сказал: «Ну, пошли, дитя-то забирай у меня, подружка твоя вон, в сенях уже, травы свои принесла, как и велел я ей. Пока трапезничают все, надо вас вывести-то».
– А зачем травы? – тихо спросила Федосья, когда они уже стояли на дворе у батюшки Никифора.
– Пригодятся, – ответил тот, и открыв калитку, перекрестив девушек, подтолкнул их: «Ну, может, свидимся еще».
– Так, – Федосья распрямилась и посмотрела на стоящий в глубине леса, на крохотной опушке чум. «Тут не найдет тебя никто, хоша бы всю округу обыскали. Огонь у тебя есть, следи, чтобы не потух, дров вокруг вдосталь. Еда тако же, ежели надо, у батюшки тут еще лук есть, настреляешь».
Василиса покачала спящего в перевязи Никитку и тихо спросила: «А буран если? Вона, как выходили мы, так тучи над Турой были – черные».
– Ну, буран, – Федосья стала запрягать оленей. «Сиди, корми, спи, – там, – она кивнула на чум, – все равно тепло, сама знаешь».
– А ты как же? – тихо спросила Василиса, уцепившись за руку старшей девушки. «Как ты до Тобола-то доберешься?».
– С Божьей помощью, – коротко ответила та, и, нагнувшись, поцеловала подругу. «Все, олени у моего батюшки быстрые, за два дня, али три и обернемся. Ничего не бойся».
– На нарты мужские села, – следя за удаляющимися в снежное пространство оленями, пробормотала Василиса. «Ну, точно понесла, я еще, когда подумала, что кровей у нее нет».
Девушка посмотрела на нежное, румяное от холода личико сына и тихо сказала: «Ну, будем батюшку твоего ждать, а что уж он решит – то, одному Господу ведомо».
Она приказала себе не плакать и вернулась в чум, где уже горел костер в очаге – жарко, весело.
– Ну, еще немножко, – попросила Федосья, чуть тыкая палкой оленей. «Через буран же вы меня провезли, так поднатужьтесь уже».
Она затянула плотнее капюшон малицы и оглядела нарты. «Ну, двоих-то выдержат, – пробормотала она, – а я рядом побегу. Все равно ни Волк, ни Гриша с оленями обращаться не умеют, пущай сидят себе спокойно».
Буран уходил на север, туда, где над горизонтом висели серые, еще набухшие снегом тучи.
«Нарты-то у батюшки крепкие, – улыбнулась Федосья, – сразу видно, под себя делал. Вона, как начало мести, я оленей-то к ним привязала, заползла под них и шкурами накрылась – и миновала самая пурга-то. А потом потихоньку поехали».
Она оглянулась на чуть заметную полоску заката за спиной и приподнялась, вглядываясь в холмы на той стороне покрытого толстым льдом слияния рек. Бревенчатые, высокие стены крепостцы чуть играли золотым светом свежего дерева.
– Сразу видно, Волка работа, – улыбнулась девушка. «Он на совесть строит. Вот только подождать надо, не след мне в ворота-то ломиться, все ж воевода там. Вон там, в лесочке, оленей привяжу, да и посмотрю – рано или поздно кто-то из них на реку-то выйдет».
Волк и Гриша стояли над прорубью. «Вот смотри, – Волк нагнулся и смел со льда снег, – как Вася, упокой Господи душу его, утонул, оттепель была, лед тут подтаял немножко. Кто на краю стоял – того следы и остались. А потом морозы ударили, снегом замело. А сие, – мужчина потянул из правого кармана полушубка какой-то листок, – я с пальцев бедного Васи срисовал.
– Одно и то же, – сказал Гриша, сравнивая рисунок гвоздей на подошве. «И у кого это сапоги такие? – зловеще спросил Григорий Никитич.
– А сие, – Волк вытянул из левого кармана еще один лист, – я от воеводы Данилы Ивановича принес. А все потому, что дверь-то в палаты закрыта была на засов, а в сенях не было никого. Глянь, – он протянул другу отпечаток.
Гриша выматерился, – тихо, – и сказал: «И как это ты додумался, Волк?».
– Повязали меня так, – Михайло усмехнулся в белокурую, покрытую инеем бороду. «Ты ж, Григорий Никитич, не в обиду тебе будь сказано, на третьем деле своем и попался, а я с четырнадцати лет на большой дороге гулял».
Мужчины медленно пошли по тропинке обратно к берегу.
– Ну вот, – Волк засунул руки в карманы, – слушай. Той весной под Москвой все в грязи тонуло, а после Пасхи как отрезало – ни одного дождя, и жара несусветная. Ну, взял я обоз, что в Смоленск с золотом шел, и, значит, думаю – денег до Успения хватит мне, погуляю вдоволь.
Спускаюсь по Красной площади как-то раз, и вижу – стоит мужик гладкий, на Троицкую церковь дивится, по одеже видно – поляк, али немец какой. Купцы иностранцы, кто с Английского двора, али со слободы – те уж наученные, кису напоказ не выставляют. А тут сразу понятно – гость, значит, первопрестольной столицы.
Ну, я к нему подваливаю, и говорю – мол, девицы у нас на Москве красивые. А я и тех из оных знаю, что не только красивые, но и веселые, могу мол, познакомить.
– Это по-каковски ты ему говорил-то? – усмехнулся Гриша.
– Я на пальцах, Григорий Никитич, с любым человеком объяснюсь, – вздернул бровь Волк, – будь он хоша басурманин, хоша кто. Лицо у меня такое, – на губах Волка заиграла улыбка, – доверяют мне люди. Это от матушки моей, упокой господи душу ее. Ну вот, завел я его в Замоскворечье, только кинжалом успокоил, как на тебе – из-за поворота стрельцы одвуконь.
Когда надо, их не дождешься, а не надо – они тут как тут, – рассмеялся Волк.
– А я над трупом с кинжалом в руках стою. Ну, Москву я знаю, ушел бы от них, да ногу подвернул, – Михайло хотел ругнуться, но сдержался. Привозят меня в Приказ Разбойный, а там дьяк, Анисим, старый знакомец мой, смотрит на меня этак ласково и говорит: «А ты сапоги-то покажи свои, Михайло Данилович». А сапоги у меня сафьяновые были, дорогие, я ж говорю, щеголь я был известный.
Ну, кладу ему ноги на стол и улыбаюсь: «Милости прошу, Анисим Федорович, хоша все подошвы рассмотрите». А эта сука бряк на стол мне оттиск моей же подошвы, и смеется гаденько: «Сие на смоленской дороге нашли, Волк, в том самом месте, где обоз с золотом как скрозь землю провалился». Представляешь, он раствор, коим кирпичи скрепляют, в мой след залил».
– Умно, – присвистнул Гриша.
– Да, я из-за сего умника чуть на плаху не лег, – кисло ответил Волк и вдруг оживился: «А я тогда, в остроге, вот о чем подумал. Сейчас идешь на дело, ну, руками, понятно, за все хватаешься, следы свои оставляешь. А вот смотри – Михайло вынул кинжал и уколол себя в палец. «Скажем, в крови я измазался, и палец к чему-то приложил, ну, например, к тебе, ежели ты труп. Руку дай».
– Спасибо, – ехидно отозвался Григорий, но сняв рукавицу, протянул кисть. «Видишь, вот эти линии тоненькие, – указал Волк на отпечаток пальца, – мнится мне, что у всех людей разные они. Коли найдут способ их сличать, то нам, татям, несладко придется».
– Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело Его, – пробормотал Гриша. «Однако ж, что линии твои, что подошвы рисунок – все это, Волк, пустое – воевода нам с тобой в лицо посмеется, а потом тако же – в прорубь столкнет».
– Ну, это он не на тех напал, – присвистнул Волк и вдруг остановился: «Смотри-ка, кто это?».
Они сидели на перевернутых нартах и молчали. «Ну вот, что, – наконец, сказал Волк, – не хочется мне за старое браться, а, видно, никак иначе батюшку твоего не вызволить. Гриша тогда пусть тут остается, а я с тобой поеду, и сделаю, все, что надо, Федосья».
– Григорию Никитичу тоже придется, – вздохнула девушка, глядя на еле заметные в спустившемся сумраке стены крепостцы.
– Случилось что? – мужчина поднялся и посмотрел на девушку. Федосья заметила, как побледнело его лицо, и тихо ответила: «С Никиткой все хорошо. А Василиса…, она сама тебе все скажет».
«Теперь будет мучиться всю дорогу до Тюмени, – Федосья взглянула на него. «Но нет, не могу я ему ничего говорить – то Василисы дело, не мое».
– А где Груня? – вдруг, обеспокоенно, спросила она. «К родителям, что ли, отсюда уехала?
Дак у нее и оленей не было, а лошадей тут мало – кто ей даст?».
– К родителям, – кисло ответил Волк. «Да уж если бы. Аграфена Ивановна теперь птица высокого полета, – калачи ест, и пряниками закусывает. В подхозяйки к воеводе пошла».
– Он ведь женат! – ахнула Федосья.
– Жена, Федосья Петровна, как говорится, не стена – подвинется, если надо, – мрачно сказал Гриша. «Вона, как раз ночь спускается, у воеводских палат постойте – сами все услышите».
– Так Великий Пост же, – ужаснулась девушка.
– Кому Пост, – ядовито отозвался ей муж, – а кому и Масленица круглый год.
Федосья задумалась и решительно тряхнула капюшоном малицы: «Тут переночую, под нартами, а завтра с утра пойду к ней. Она добрая, не откажет, поговорит с воеводой – ежели он грамотцу напишет, в коей велит моего батюшку отпустить, то так лучше будет».
– Ну, сходи, – вздохнул Волк, – может и получится чего, я тоже не хочу кровь-то проливать, не дело это.
– Нате, – Федосья порылась на нартах, и протянула мужчинам мешочек, – ягод возьмите, из дома захватила, хоша и замерзшие, а все равно, – вкусно.
Волк отсыпал себе горсть в карман, и сказал другу: «Ты иди вперед, я сейчас».
Он посмотрел на жену, что устало, сгорбившись, сидела на нартах, и, опустившись рядом, достав ее руку из меховой рукавицы, прижавшись к ней щекой, сказал: «Ты не бойся. Коли Волк что обещал, – так он делает».
– Я знаю, – проговорила жена, и только крепче прижалась к нему. На стенах крепостцы стали зажигать огромные, видные за несколько верст, факелы, а они все сидели рядом, смотря на то, как на снегу играют отблески огня.
Груня убрала со стола, и, напевая что-то, принялась перестилать большую, пышную, мягкую постель.
Девушка вдруг приостановилась и чуть покраснела, держа подушку в руках. «А как жена его приедет, так я тут и не поживу более, – подумала она. «Ну, ничего, до меня дорога недолгая будет – через двор перейти, да и Данило Иванович сказал, что с ней не спит уж давно. Со мной будет, – Аграфена присела на кровать и, обняв подушку, вздохнула. «Я скучать по нему стану, привыкла уже, каждую ночь-то вместе».