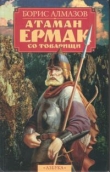Текст книги "Вельяминовы. Начало пути. Книга 2"
Автор книги: Нелли Шульман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 64 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
Он вытянулся на лавке, закинув руки за голову, и посмотрел на бревенчатый потолок горницы. В углу, у печи, шуршали тараканы. Было тихо, дружина уже спала и Кольцо вдруг усмехнулся: «Ну, ничего, вскорости у меня уже Федосья под боком лежать будет. Сладкая она, сразу видно, да горячая. Девка молодая, прекословить мне не будет, ну а скажет чего – плети отведает, у меня с этим просто».
– Матушка, – Федосья постучалась в дверь Марфиной опочивальни. Мать сидела за столом с пером в руке. Она перевернула бумаги, и, улыбнувшись, сказала: «Заходи, что там у тебя?»
«Может, сказать все же?», – отчаянно подумала Федосья, глядя на улыбающееся лицо матери. «Постарела как, – горько поняла девушка, увидев резкие морщины в уголках красивого рта. «Нет, зачем, и так, как батюшка преставился, у нее хлопот полон рот, почто ее волновать-то еще и этим? Сама все сделаю, не ребенок же я».
– Матушка, – Федосья присела, – как у вас сейчас забот много, со сборами моими и Федиными, и Петенька вон еще грудной, – она кивнула на колыбель, – так, может, я девочек возьму в подмосковную? Лето уже на дворе, и жаркое, вон какое, что ж им тут-то сидеть. А я за ними присмотрю, не волнуйтесь. И на реку с ними буду ходить, и в лес».
– Да я вот тоже о сем думала, – мать погрызла перо. «Да и тебе, наверное, погулять охота, – она усмехнулась, – а не на поварне-то стоять день-деньской».
Федосья покраснела.
– Опять же, – ласково проговорила мать, – как повенчаешься, так уже не погуляешь. Мужа обихаживать надо будет, пасынки твои, и Федор, хоша и в школе, но приедут к вам зимой, как отдохнуть их распустят, а ты, может к тому времени, и понесешь уже.
Девушка помолчала, и, вздохнув, перебирая в руках подол сарафана, ответила: «Да и мне тоже с сестрами-то побыть хочется, теперь год я их не увижу»
– Да, – мать поднялась и глянула в окно. «И вправду, вон какая жара на дворе стоит, ровно и не июнь. Дождей с Красной Горки не было уже. Ну, сбирайтесь, езжайте, месяц там побудьте, а то и более. Ключницу с вами отправлю, а охраны там достанет. Но ты там смотри, за девчонками присматривай, Лизавета, – та домовитая, да спокойная, а двойняшки, сама знаешь, лихие у нас. Ну и занимайся с ними, конечно».
Феодосия улыбнулась, и, вдруг, поднявшись, обняла мать. «Все хорошо будет, матушка, – сказала девушка, целуя нежный, белый лоб, обрамленный черным платом. «Все будет хорошо, не волнуйтесь».
– Оно и верно, – пробормотала Марфа, глядя в спину дочери, – пускай их лето побалуются-то, на то и детство, чтобы веселиться». Она вздохнула и продолжила шифровать.
Девчонки, подпрыгивая, сбежали вниз по косогору к реке, и закричали: «Купаться, купаться!».
У излучины, на берегу белого песка, была устроена свежесрубленная, еще пахнущая смолой купальня. «Вот тут и плескайтесь», – распорядилась Феодосия, раздеваясь. «Течение быстрое, глубоко, не приведи Господь, еще случится что».
Параша первой прыгнула в темную, свежую воду и блаженно улыбнулась, переворачиваясь на спину: «Хорошо-то как!»
– Тут места мало, – капризно заявила Марья, снимая рубашку. «И закрыто со всех сторон, не поплавать вдоволь».
– Зато без рубашки можно, – улыбнулась Федосья, закалывая на голове толстые косы. «Вода, какая теплая», – Лиза осторожно, аккуратно попробовала ее ногой, и тут же, завизжав, полетела с мостков вниз – младшая сестра толкнула ее и плюхнулась следом.
– Совсем голову ты, Марья, потеряла, – обиженно заявила Лиза, вынырнув. «Я себе косы замочила».
Лазоревые глаза девочки засияли смехом, и она, фыркнув, ответила: «На то и купание, чтобы промокнуть».
– А ну не смей! – велела Лиза, но было поздно – Марья и подплывшая к ней Параша стали брызгать на старшую сестру водой.
Они вдруг прервались и Лиза восторженно сказала: «Какая ты, Федосья, красивая!»
Девушка, спускаясь по мосткам в воду, только покраснела: «Скажете тоже!»
– Мне нравится, что ты смуглая, – вздохнула Лиза. «И Прасковья тако же. А мы с Марьей белые, ровно сметана».
– Это тоже красиво, – независимо заметила белокурая девочка, вздернув острый подбородок.
«И волосы у меня красивые – у вас у всех темные, а у меня – будто лен. Матушка рассказывала, такие у бабушки нашей были, Федосьи Никитичны».
– У тебя хоть веснушек нет, – выпятила губу Лиза. «А меня вон – всю обсыпало, – она горестно указала себе на нос.
– Ну и что? – Параша подплыла к ним, и уцепилась за мостки. «У маменьки вон тоже веснушки, а у тебя, Лизавета, они потому, что ты рыжая».
– Это Федя рыжий, – краснея, сказала, девочка.
– Ну, ты тоже немножко. А все равно ты красивая, – Параша вдруг поцеловала сестру в холодную щеку.
– Да вы все красивые, – улыбнулась Федосья, – что спорите-то?
– А вот мы сейчас тебя утопим! – вдруг, весело взвизгнула Марья, и прыгнула старшей сестре на спину. «Помогайте мне!».
– Совсем ума лишились, – смеясь, еще успела проговорить Федосья, погружаясь на песчаное дно.
Лиза отчаянно, глубоко зевнула, и, прижав к себе белую кошку, призналась: «Спать, как хочется!»
Двойняшки уже дремали, в открытое окно горницы вливался свежий вечерний воздух, небо на закате окрасилось в чудный, зеленовато-золотистый цвет, и на нем уже всходили первые, слабо мерцающие звезды.
Федосья прислушалась – где-то в лесу, у озера, кричал коростель. На дворе, быстро мелькая крыльями, порхали ласточки.
– Ну и спи, – ласково сказала она сестре. «Сегодня накупались, набегались, на конях наездились – вон, Марья с Парашей за трапезой стали носом клевать».
– А сказку? – Лизавета взяла смуглые, длинные пальцы и стала нежно их перебирать. «Про Ивана-царевича?».
Федосья прилегла рядом на лавке, и, слушая легкое дыхание сестры, начала рассказывать.
«Заснула», – вдруг улыбнулась она, смотря на то, как подрагивают темные, длинные ресницы.
Остановившись на пороге, она перекрестила девочек и вдруг улыбнулась: «Скорей бы уж повенчаться, да своих принести. Господи, только бы детки у меня здоровые были! Смотришь на них и волнуешься – маленькие такие, вдруг случится что».
Девушка спустилась в трапезную, и, улыбнувшись, сказала ключнице: «Заснули все. Я пойду, на озеро прогуляюсь, цветов соберу, в горницы завтра поставим».
– Вы только душегрею наденьте, боярышня, – озабоченно посоветовала женщина, – роса выпала уже, вдруг, не приведи Господь, простынете. Погуляйте, конечно, а то вы с ними цельный день, а они шумные у нас, кто угодно устанет».
Федосья вышла из ворот усадьбы, и вдруг застыла – солнце огромным, расплавленным, медным диском опускалось за луга на той стороне реки, издалека, с лесных болот доносился резкий, пронзительный голос выпи. Томная, разгоряченная, летняя земля, казалось, дрожала под ее ногами. Она встряхнула головой и быстро пошла по дороге в сторону озера.
– Сие неверно, – ехидно сказал Федор, и перечеркнул цифру. «Коли ты нам привез жердей еловых три сотни связок, по три копейки за связку, так это будет девять сотен копеек, а не тысяча. Сие ребенок – и тот подсчитает, ты кого тут обманывать собрался?».
– Округлил я, – мужик мялся в дверях рабочей горницы. Вокруг было чисто и прибрано, только на всем – на столе, на лавках, на печи, лежал серый налет каменной пыли.
– Хорошо округлил, – заметил Федор, – на сотню копеек можно долго прожить припеваючи. Мы тут не свои деньги тратим, а казенные, а их сохранять надо, а не разворовывать. Страна у нас хоша и богатая, а даже копейкой и той – бросаться не следует. Переписывай счет, – велел он поставщику.
– Федор! – рабочий просунул голову в дверь. «Пошли, там заминка».
Выйдя во двор, Федор мельком увидел колоду с застывшим в нем раствором. Из твердой массы торчала деревянная палка.
– Сию бы колоду на голову тому надеть, кто бросил ее, – ругнулся парень и стал быстро подниматься наверх по лесам.
Стена возвышалась над ним белой громадой, раздавался визг пилы, коей резали камень, пахло раствором, и Федор, на мгновение, закрыв глаза, пробормотал: «Хорошо!».
Федор Савельевич стоял наверху, разложив чертежи, пристроив по углам камни – ветер, внизу легкий, тут свистел в ушах, и заставлял хвататься за жерди раскачивающихся под ногами лесов.
– Вот смотри, тезка, – задумчиво сказал зодчий. «У нас тут впереди речушка – хоша и мелкая, а все ж неприятная. Думал я вниз ее загнать – так в Каменном Приказе говорят, что, мол, народ тут в слободе привык к оной, белье на ней стирает, ну и так далее, сам понимаешь».
Федор потер подбородок. «Тогда, Федор Савельевич, надо план-то этого отрезка заново переделывать. У нас тут башен не было, а, ежели речушку оставлять, так это либо башню над оной строить надо, либо вообще две возводить, и мост перекидывать. Как по мне, так вниз бы ее, и дело с концом».
– Как по мне, так тоже, – рассмеялся зодчий, – и я уж и начертил, как сие сделать надо. Однако ж чтобы в Каменном приказе решили что-то, надо нам с тобой им показать – как сие выглядеть будет, ежели речушку мы оставляем. Сможешь денька через два чертежи-то показать – и с одной башней, и с двумя?
– Смогу, конечно, – рассмеялся Федор. «Ежели башни обычные, как все, что мы строим, так я их с закрытыми глазами черчу. Мост тоже дело нехитрое».
– Ну и славно, – зодчий потрепал его по голове. «А мы пока на тот конец стены рабочих отсюда перекинем, чтобы не простаивали. Ты мне вот еще что скажи – ты ж говорил, что у тебя Витрувия книги есть?».
– Есть, конечно, – мальчик улыбнулся. «Мне матушка их давно купила».
– Мне один чертеж оттуда нужен, как бы вот его заполучить? – спросил Федор Савельевич.
«Может, у тебя дома-то можно копию снять?».
– Да я бы сюда принес, – удивился Федор.
– Сюда как раз не след, книга дорогая, хорошая, не дай Бог, что случится, – озабоченно сказал зодчий.
– Давайте тогда, на обед к нам приходите, – улыбнулся мальчик. «Заодно и с матушкой моей познакомитесь, а то вы ж только мельком виделись. Сестры мои в подмосковной сейчас, мешать не будут нам».
– Мельком, – твердое, решительное лицо Федора Савельевича вдруг дрогнуло улыбкой. «Это точно, Федор Петрович, мельком. Ну, ничего, сие дело поправимое, – сказал он. «Ты с жердями-то разобрался?»
– Ага, – кивнул Федор. «На сотню копеек хотел нас нагреть».
– А я тебе говорил, – наставительно заметил Федор Савельевич, – на Москве строишь – по десяти раз проверять все надо. Тут народ такой – вороватый сверх меры, особливо, когда деньги не свои, а казенные».
Он вдруг прервался и, взглянув на серебристую ленту Яузы, ворчливо сказал: «Чертежи-то, кои я тебе сделать велел – ты дома их приготовь, небось, по матушке соскучился-то? Да и поешь там хоть вволю».
– Спасибо, – усмехнулся Федор, положив большую, не детскую руку на грубое дерево лесов.
– Вот так крутишься – с жердями, с речушками, с ворами всякими, с дураками из Каменного приказа, – тихо сказал Конь. «А потом, как леса снимаешь, назад отходишь, и думаешь – Господи Всемогущий, ну неужто это я построил? Ведь не было ничего тут, а потом я пришел, и придумал, – как оно будет. И стало так».
– Да, – тихо проговорил мальчик, и еще раз повторил: «Спасибо вам, Федор Савельевич».
Федосья остановилась у порога старого, покосившегося сеновала и тихо позвала: «Иван Иванович!».
– Федосья Петровна, – он стоял, прислонившись к стене, и в свете заката его глаза казались совсем темными – будто густая синева вечернего неба. «Я цветов вам принес», – просто сказал атаман и протянул ей огромный – будто сноп, – сладко пахнущий ворох.
– Спасибо, – Федосья зарделась и опустила глаза. «Я пришла сказать, – она вздохнула и помолчала, – спасибо вам за грамотцу, что прислали вы, но сговорена я уже, венчаюсь осенью».
– Вот оно как, значит, – горько проговорил Кольцо. «Ну, счастья вам, Федосья Петровна». Он опустил голову, и Феодосия с ужасом увидела, как заблестели его глаза.
– Иван Иванович! – быстро сказала девушка. «Ну, пожалуйста! Правда, вы еще встретите хорошую девицу, полюбите ее…».
«Ты давай, – приказал себе Кольцо, – если ее попросить, как следует, она сразу на спину уляжется. Бабы – они такие, кого им жалко, тем и дают».
– Кого ж я встречу, Федосья Петровна, – глухо, не глядя на нее, сказал Кольцо. «Мы скоро в Сибирь обратно – а там, кроме, стрел да сабель, встречать некого. Вот и получится, что погибну я, а любви-то и не изведаю».
Атаман взглянул в ее мерцающие, раскосые глаза, и вдруг вспомнил остяцкую девчонку, что держал при себе прошлой зимой. У той тоже были такие очи – ровно как у кошки, вздернутые к вискам, только темные.
Как пришла им пора возвращаться в Кашлык, он утопил девку в проруби – путь на юг был долгим, а Ермак Тимофеевич запрещал держать баб в стане. Девка умерла быстро – тем более, что он пару раз ударил ее саблей по голове, – только вот ее взгляд, – черный, как дымящаяся на морозе вода реки, – Кольцо иногда видел во снах.
Он встряхнул головой и твердо сказал: «Ну что ж, так тому и быть. Значит, судьба у меня такая. Прощайте, Федосья Петровна, не поминайте лихом, а я, как любил вас, так и любить буду, до смертного часа моего».
Он, было, повернулся уходить, но краем глаза заметил, как часто и взволнованно дышит боярышня.
«Хорошо, – спокойно сказал себе Кольцо, – а теперь надо осторожно, чтобы не спугнуть».
– Иван Иванович, – жалобно сказала Федосья, – разве то моя вина…, Если б я не сговорена была. Я ведь тоже своего нареченного люблю.
– Ну что ж, – тихо ответил атаман, – значит, повезло ему – не сказать как. Коли вы бы меня любили, Федосья Петровна, я бы на руках вас носил, в золоте-серебре купал, в шелка-бархаты одевал. Коли любили бы вы меня, дак счастливей меня не было бы человека на всем белом свете. А так, – он махнул рукой, – только и остается, что умереть».
– Не надо! – Федосья внезапно уцепилась за рукав его кафтана. «Грех сие!».
– Грех, – горестно ответил Кольцо, – это человека надежды лишать, Федосья Петровна. Зачем жить-то коли, оной нет? Ежели я вам совсем не нравлюсь, – он вдруг гордо вскинул красивую голову, – то дело другое, однако же, показалось мне, что я вам тоже по душе пришелся, хоть самую чуточку?
Пришлись, – краснея, сказала девушка. «Но у меня нареченный есть».
Она вдруг поежилась, запахнув душегрею. Кольцо снял с себя кафтан, оставшись в одной рубашке, и накинул его на плечи девушке. «Там теплее, – сказал он, указывая внутрь сеновала, – не замерзнете, Федосья Петровна».
– Ну, разве если ненадолго, – озабоченно сказала девушка, – а то мне в усадьбу надо, поздно уже.
– Ну конечно, ненадолго, – уверил ее атаман, усмехнувшись про себя. «Нет, ночевать я с ней тут не буду, – холодно подумал он, устраивая Федосью на сене, – хватятся еще. Целку сломаю, и пусть идет себе восвояси, завтра сама прибежит, опосля такого ей деваться некуда будет».
– Ну, так ежели пришелся, Федосья Петровна, – атаман сел вроде рядом с ней, а вроде – и поодаль, глядя на играющий яркими цветами в проеме двери закат, – может, вы мне хоша руку пожать вашу разрешите?
– Ну, если только пожать? – неуверенно сказала девушка, протягивая ему тонкие, смуглые пальцы. Кольцо стал нежно их перебирать, и вдруг – Федосья даже ахнуть не успела, – прижался к ним губами.
– Иван Иванович, – она потянула руку к себе, – невместно ж это!
– Теперь и умирать не страшно, – еле слышно сказал атаман, и руку – отпустил. «А если б я вас поцеловал, Федосья Петровна, – клянусь, – более ничего в жизни мне и не надо было бы».
«Я ж уеду – вдруг, пронзительно, подумала Федосья. «А он на смерть идет, там, в Сибири у себя. Ну что ж от единого поцелуя будет – ничего. Как же это можно – такой жестокой быть, вона, чуть не плачет он».
– Ну, разве если разок только, – пробормотала Федосья, закрывая вспыхнувшее лицо рукавом.
«Молодец, – похвалил себя Кольцо. «Теперича не торопись, девка сторожкая, целку бережет, матерью вышколена. Оно и хорошо, – будет жена верная и покорная, как оной и положено».
Он медленно, нежно поцеловал вишневые, пухлые губы боярышни. Та задрожала вся. «В первый раз-то целуется, – усмехнулся про себя атаман, – не умеет ничего еще. Оно и славно, я таких девок люблю, обучу, как мне надобно».
– Понравилось? – тихо, ласково спросил он, оторвавшись от ее губ.
Девушка только кивнула и опустила голову, спрятав глаза. Воротник сорочки приоткрывал смуглую, высокую шею, и, Кольцо, взяв ее за руку, – боярышня оной не отняла, – прижался губами к ее гладкой коже.
– Иван Иванович! – та, было, попыталась отодвинуться, но атаман положил ее ладошку куда надобно, и с удовлетворением увидел, как взлетели вверх красиво изогнутые, темные брови.
– Это что? – наивно спросила Федосья.
«Господи ты, Боже мой, – чуть не застонал Кольцо, а вслух сказал: «Оное бывает, коли рядом с такой, как вы Федосья Петровна, сидеть, коли целоваться так, как целовались мы.
Вы, может, посмотреть, хотите?».
Та зарделась вся, до кончиков нежных, маленьких ушей, и тихо прошептала: «Разве только одним глазком».
Ее зеленые глаза распахнулись от изумления и Федосья, сглотнув, сказала: «Маменька меня учила, что так бывает, но я, я… – она не закончила и опять покраснела – еще гуще.
– А ведь вы мне можете сладко сделать, Федосья Петровна, – грустно сказала атаман, – но ведь не захотите, наверное. Я же вас и пальцем не трону, вот те крест.
– Я не умею, – опустив взгляд, сказала девушка. «Не понравится вам».
«А ну терпи, – приказал себе Кольцо, – недолго осталось». «Понравится! – горячо уверил он девушку. «Да я о сем и мечтать не мог, Федосья Петровна!».
Он положил ее ладошку куда надо, и сцепил, зубы, – делать она, действительно, ничего не умела.
– Вам хорошо? – озабоченно спросила Федосья Петровна.
– Очень, – уверил ее Кольцо и молящее сказал: «Ежели б я мог хоша раз на вас посмотреть…».
Он сбросил рубашку и продолжил: «Вы ж на меня смотрите…».
Девушка вздохнула и приспустила сорочку, немного ее расстегнув. Кольцо увидел начало высокой, смуглой груди и, помедлив, сказал: «Красивей вас, Федосья Петровна, никого на свете нет!»
Боярышня покраснела и пробормотала: «Неправда это!»
– Да разве ж я б мог вам неправду сказать! – горячо воскликнул Кольцо. «Никогда в жизни я бы оного не сделал! Ну, хотите, я вас всю – с головы до ног, – расцелую, и более ничего не надо мне!»
– Только поцелуете? – жалобно спросила Федосья.
– Конечно! – искренне ответил атаман.
Девушка вздохнула и стала расстегивать сарафан. «А ну потерпи еще! – приказал себе Кольцо. «Недолго осталось».
Соски у нее были вишневые и острые, живот – смуглый и плоский, ноги – длинные, и вся она – несмотря на рост, – под стать Кольцу, и стройность, была мягкая, будто пух.
Нацеловавшись вдосталь, – боярышня покраснела аж красивой, с острыми лопатками, спиной, – он шепнул: «Давайте, Федосья Петровна, я вам тоже сладко сделаю, хочется же вам».
– Невместно же, – слабо сказала боярышня, но Кольцо закрыл ей рот поцелуем и тихо ответил: «Так пальцем же, что ж от пальца-то будет? Ничего, Федосья Петровна».
Она была вся горячая и влажная, и Кольцо с удивлением услышал слабый, низкий стон.
«Если Федосью Петровну обучить, как следует, – усмешливо подумал атаман, – и не скучно с ней будет. Ну, ничего, дорога за Большой Камень долгая, как раз времени хватит».
– Федосеюшка, – ласково прошептал он, – пусти к себе, хоша на ненадолго, вот те крест, ничего делать не буду, просто полежу, и все».
Боярышня неразборчиво что-то проговорила, и Кольцо, устроив ее удобнее, развел в стороны длинные, стройные ноги. «Вот так, – усмехнулся он, нажимая посильнее и целуя ее – глубоко, долго, – вот так, боярышня!»
Федосья внезапно очнулась – боль была короткой, но острой, – и поняла, что жизнь ее сейчас разделилась на две части. Там, за дверью сеновала, в сияющем закате, ее более никто не ждал – она осталась одна, и никто на всем белом свете не смог бы ей сейчас помочь. Она откинула голову назад и заплакала – быстрыми, горячими слезами.
С ней было хорошо, – подумал Кольцо, – она была сладкая, горячая, тесная, – пока еще. В конце она закусила пухлые губы, сдерживая крик.
Он вытерся сеном и привел ее в порядок. Боярышня сжалась вся в комочек, и всхлипывала, уткнувшись лицом в сгиб локтя. Он лег рядом и поцеловал нежную шейку – сейчас надо было поласкаться.
– Обесчестили вы меня, – сквозь рыданья сказала Федосья. «А ведь обещали, клялись…».
Кольцо чуть не рассмеялся вслух, но вовремя себя одернул. «Так Федосеюшка, – ответил он, целуя ее, – ты ж такая сладкая, ну не удержался я, ну прости, милая. Ничего, сейчас венцом это дело покроем – и бояться нечего».
– Ведь сговорена я, Иван Иванович, – расплакалась Федосья. «Обещана ж я, говорила я вам…».
– Ну, Федосья, – он чуть отодвинулся, – коли ты свое девство не соблюла, так я тут не причем.
Сама передо мной разделась, сама и ноги раздвинула, я тебя не насильничал. А я тебя в жены хоша завтра возьму, слово мое крепкое».
У девки тряслись плечи, и Кольцу даже стало немножко ее жалко. «Вот же дура, – вздохнул он про себя, – нет, коли она мне дочерей родит, уж я над ними с плетью буду стоять, чтобы сего не получилось. Ну конечно, отца у девки нет, некому следить за ней».
– Ну, ну, – грубовато сказал он, – ну, не плачь. Повенчаемся, и все хорошо будет».
Она, сглотнув, прижалась к нему поближе, и Кольцо усмехнулся про себя: «Ох, зря ты сие делаешь, Федосья».
– Ты ножки– то раздвинь, – шепнул он, – ты сладкая такая, что еще хочется.
Девка, было, замотала головой, но Кольцо, властно положив руку, куда надо, сказал: «Ты не ломайся, Федосеюшка. Это целочке ломаться пристало, а ты не оная более. Ты теперь баба, а у бабы доля одна – мужику давать».
Федосья покорно развела ноги, и, почувствовав его в себе, уткнулась лицом в мягкое, душистое сено, скрывая рыдания.
– Вот, видишь, – Марфа потянулась и погладила сына по голове, – хоша и пару дней, а на материнских харчах побудешь. Как чертежи-то твои?
– Да они готовы, почти, – Федор зевнул, и крепко, сладко потянулся. «Матушка, а можно Федор Савельевич у нас отобедает завтра? Надо ему Витрувия книгу, что есть у меня, а на стройку ее носить не след – вдруг что случится».
– Ну конечно, – Марфа улыбнулась. «Пусть приходит, хоша не мельком его увижу, а познакомимся, как следует – все ж учитель твой».
Сын вдруг помрачнел. «И чего это уезжать мне надо? – пробурчал он, глядя в окно горницы.
«Я бы, вместо школы, лучше б еще у Федора Савельевича остался, али в Лондоне, куда на стройку нанялся. Зачем мне эта латынь, толк от нее какой сейчас?».
– Ежели ты потом в университет хочешь пойти, – спокойно ответила мать, – например, в Италию поехать, – латынь все же надо знать. Ну и потом, учение – оно еще никому не мешало, кабы женщин в университеты принимали, я б сама пошла, хоша и сейчас, – она вдруг улыбнулась. – Вот, математикой я ж занимаюсь с тобой, хоть и тебе хорошо от сего, и мне тоже, а в Болонье, али в Падуе – ты там еще больше узнаешь.
– В Италию бы я хотел, конечно, – задумчиво сказал Федор. «И все равно – я батюшке, как он при смерти был, обещал заботиться о тебе, а теперь, выходит, свое обещание не сдержу?
Нехорошо это получается».
– Да что со мной случится! – отмахнулась Марфа. «Ты лучше подумай, что, вона, Федосья в Англию поедет, в августе уже, хоша и под присмотром будет на корабле, а все равно – то люди чужие. А ты брат».
– Это верно, – Федор вдруг, рассмеявшись, наклонился над колыбелью Петеньки и пощекотал его. Младенец расхохотался. «А ты, – серьезно сказал Федор, – ты как в Лондон приедешь, так уже своими ногами будешь ходить! Я тебя, Петька, и не узнаю!». Он поднял брата и вдруг, ласково, сказал: «Матушка, а как он на отца-то похож!»
– Он похож на батюшку, да, – Марфа нежно приняла сына. «Глаза-то как у Воронцовых, они вона и у Марьи нашей такие, – лазоревые».
– А я? – вдруг спросил Федор. «Я на своего отца похож? Не помню ж я его».
– На Селима? – Марфа дала Петеньке грудь. «Да, Федя, похож ты на него – стать у вас одна, и глаза голубые, и волосы у твоего отца тоже, – она усмехнулась, – рыжие были. А что ты высокий такой, да большой – тут и Селим таков был, и батюшка мой покойный, Федор Васильевич.
Ну, давай, сейчас он, – Марфа кивнула на Петеньку, – поест, а потом мы с тобой за математику засядем, я, пока тебя не было, целый учебник сочинила на досуге, посмотрим, справишься ли.
– Справлюсь, – независимо ответил Федор и принялся очинять перо.
– У вас на стройке, небось, так не кормят, Федор Савельевич, – усмехнулась Марфа, и налила добавки. «Хоша и пост еще, а все равно – и постное можно вкусно готовить»
– У нас на стройке, Марфа Федоровна, – зодчий улыбнулся, – харчи казенные. Это значит, боярин себе в карман чего положил, опосля него – дьяк, опосля – подрядчик, который харч поставляет, ну, а уж что осталось – сие до нас и доходит. Немного, надо сказать, – мужчина принялся за вторую тарелку щей.
– А ты чего, ровно как на иголках сидишь, – обратилась Марфа к сыну, – крутишься весь?
– Да придумал я тут кое-чего, – начал Федор.
– Нарисовать хочешь? – ласково спросила мать. «Ну, иди, ежели проголодаешься, так я вас потом с Федором Савельевичем покормлю еще».
Федор, наскоро пробормотав молитву, и, поклонившись, матери, взбежал наверх, в свою горницу.
– И так всегда, Марфа улыбнулась. «Бывает, говоришь с ним по делу, какому, он на тебя смотрит, а лицо – будто и не здесь он. Головой кивает, правда, но, ежели спросить чего потом по сему делу – не помнит».
– Я тоже в детстве такой был, – зодчий вдруг улыбнулся. Улыбка у него была красивая, и насмешливое, сухое лицо сразу смягчилось. «Я ведь Федора годами, тоже уже на стройке работал. Я сам смоленский, потом уж в Александровой слободе был, у государя, а сейчас вот – в Москву перебрался».
– А как Белый Город закончите, что далее будет? – поинтересовалась Марфа.
– О, далее, Марфа Федоровна, работы много, – отозвался зодчий. «Царь хочет в Смоленске крепостные стены возвести, пару монастырей перестроить надо, тут, под Москвой, Борис Федорович Годунов усадьбу свою, что близ Можайска, меня пригласил украсить. Жаль, конечно, что Федор ваш уезжает, лучше помощника у меня не было, а лет так через пять он и сам строить сможет.
– В шестнадцать-то лет? – ахнула Марфа.
Серые глаза зодчего посерьезнели. «Дар у вашего сына, Марфа Федоровна, великий, и то хорошо, что вы ему на стройку пойти разрешили, – неслыханно этого для сына-то боярского.
Впрочем, он у нас там Воронцов, Федор, у нас просто все, без чинов».
– Как не разрешить, – улыбнулась Марфа, – он в три года еще мосты строил, да башни. А что уезжает он, Федор Савельевич, так вы сами говорили, что у итальянцев учились, тако же и Федор – как школу закончит, так в университет туда поедет, в Италию.
– На Москву-то не вернется уже, – вздохнул Конь, и вдруг, внимательно посмотрев на Марфу, спросил: «Федор мне говорил, вы математикой с ним занимаетесь? У него с расчетами хорошо очень, большой он мне в этом помощник».
– Да, – Марфа махнула рукой, чтобы убирали со стола, – я даже учебник целый составила для него, сейчас вот решает, сидит, пока отпустили вы его домой.
– А если бы я вас попросил для стройки нам считать кое-что? – зодчий взглянул на Марфу. «А то у нас с математикой только у меня и Федора хорошо, остальные только складывать и отнимать умеют, и то на пальцах. А нам площади надо рассчитывать, углы, другие вещи всякие – ежели я, али сын ваш это делаем, так работа замедляется. А не хотелось бы. Вот только платить мы много не сможем…»
– И вовсе ничего не надо, – Марфа решительно поднялась. «В деньгах, благодарение Господу, – она перекрестилась, – у меня нужды нет, а помочь такому делу, как ваше – сие честь для меня. Федя мне будет приносить-то расчеты, кои вам понадобятся?
– Когда он, а когда, может, Марфа Федоровна, вы и мне разрешите? – зодчий был много выше ее и Марфа, подняв голову, улыбнулась: «Приходите, конечно, Федор Савельевич, я вам всегда рада».
Она прислушалась и нежно сказала: «Сыночек мой младший проснулся, пора покормить его».
– Я к Феде тогда поднимусь, – сказал ей вслед Конь, и, вдохнув запах летних цветов, усмешливо прошептал: «А вот как я сюда расчеты буду носить – сие мне неведомо. Ну, впрочем, хочу мучиться – и буду, сего мне никто запретить не может».
– Федор Савельевич, – мальчик свесил рыжую голову вниз. «Я чертеж нашел, какой вам нужен был».
– Иду, спасибо тебе, – отозвался зодчий, и, в последний раз взглянув в ту сторону, куда ушла Марфа, чуть улыбнулся своим мыслям.
Девчонки бегали по озерному мелководью, задрав подолы, гоняясь друг за другом. Федосья посмотрела на них, и, незаметно повернув голову, в сторону тропинки, что вела к сеновалу, вздохнула. С того вечера они встречались еще три раза, а потом ему надо было ехать на Москву.
– Но ты, – велел Кольцо, – ежели что, ежели увидеть меня захочешь, так грамотцу спосылай.
Тут в деревне соседней ямщик есть, тоже Иваном зовут, я ему золота дал, он все обделает, как надо.
Федосья вздохнула и, приподнявшись на локте, сказала: «Что ж с нами будет-то, Ваня?».
Да ничего не будет, – рассмеялся Кольцо, поворачивая ее спиной. «Повенчаемся, будем вместе жить, деток растить. Что еще может быть-то?».
«Я не хочу», – зло сказала тогда себе Федосья, сдерживаясь, чтобы не стонать. «Не хочу за него замуж. А как – матушке все рассказать? Господи, и что ж она мне ответит? Или не рассказывать – просто уехать в Лондон, и все? Но ведь он, же поймет!»
– А ты, Федосеюшка, что стесняешься? – прошептал ей Кольцо. «Тут народа на версты вокруг нет, ты кричи, коли хочешь», – он усмехнулся, и, потрогав ее в нужном месте, услышал нежный, слабый стон.
«Вот так», – пробормотал Кольцо, переворачивая ее спиной вверх, подминая ее под себя.
«Вот так, Федосья!».
– Ты чего грустишь! – Лиза подбежала к ней. «Айда, с нами!».
«Ну, может, ошиблась я, – думала Федосья, гоняясь за девчонками. «Может, следующим месяцем придут. А там мне уже в Лондон ехать надо! Грамотцу я ему пошлю, конечно, а вот что дальше делать-то, Господи!»
– Поймала! – она, расхохотавшись, заключила в объятья Марью. «Пойдемте, полдничать надо, а потом – заниматься».
Девчонки побежали по дороге к усадьбе, а Федосья шла следом, наклоняясь, срывая цветы, слушая и не слыша бесконечную трель жаворонка в высоком, летнем небе.
.
– Ну вот, – сказала Марфа, разгибаясь, – иди сюда, покажу тебе, в коем сундуке, что лежит, ежели вдруг на корабле тебе это понадобится.
Федосья сидела у окна, бездумно накручивая на палец кончик толстой, темной косы.
– Вон оно значит, как, – сказал Кольцо, смешливо глядя на нее. «Ну, теперь, Федосья, честным, пиром, да за свадебку, иначе никак нельзя».
Она молчала, отвернувшись, чувствуя, как слезы капают на щеки.
– Надо мне сватов заслать, – атаман потянул ее к себе. «Как раз до Успенского поста и повенчаемся, время есть еще. А потом со мной поедешь, мы сейчас крепостцу на Тюменском волоке ставить будем, там дом нам возведу, большой, стены вокруг хорошие будут, жить там не страшно. Перезимуешь, а там и дитя принесешь. Ты кого хочешь – парня, али девку?