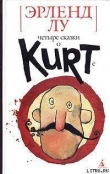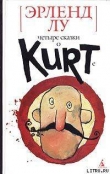Текст книги "Тьма века сего (СИ)"
Автор книги: Надежда Попова
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 45 (всего у книги 53 страниц)
Солнце могло бы вспомнить, как великаны стояли в ряд, а перед ними прохаживался человек с хмурым лицом, а потом за их спинами звучал взрыв – и кто-то из них вскрикивал, кто-то бросался наземь, закрыв руками голову, кто-то отскакивал прочь… Человек с хмурым лицом дожидался, пока все утихнет, а потом указывал пальцем: «Ты, ты, ты и ты – свободны», и растерянные рослые парни, озираясь, уходили, а хмурый человек снова и снова прохаживался вдоль ряда оставшихся, дотошно всматриваясь в лица, а потом командовал: «Все! Бегом вон до той бочки и обратно, четыре раза. Кто первый – сегодня же получит недельное жалованье. Пошли!», и великаны бежали, спеша и задевая друг друга на поворотах, и кто-то выставил локоть, когда один из собратьев-верзил стал обходить его на последних шагах, и с силой толкнул, и тот запнулся, едва не упав… Хмурый человек снова прохаживался взад-вперед, оглядывая тяжело дышащих людей, а потом кивал: «Ты – вон отсюда», и тот, оторопело потирая локоть, медленно уходил прочь, что-то раздраженно шепча себе под нос, и хмурый человек командовал снова: «Еще раз. Бегом!».
А потом оставшиеся – меньше десятка – собирались подле него кружком и, притихнув, слушали. Кто-то кивал в ответ на вопрос сразу, кто-то задумывался, кто-то переспрашивал. Готовы ли стать заменой доппельзольднерам – с тем же риском и оплатой вполовину выше? Да… Да… «Но я никогда даже не держал цвайхандера в руках», – возражал кто-то, и хмурый человек хмуро улыбался: «И не придется».
И так повторялось и повторялось, и порой оставшихся для беседы бывало трое или двое, а потом солнце могло бы припомнить широкое поле (снова поле…), и шеренга великанов, каждый с камнем размером с полтора кулака, и рядом с каждым горка камней, и другой хмурый человек командует: «Los![203]203
Давай (вперед, поехали, начали)! (нем.).
[Закрыть]», и великаны широко размахиваются и швыряют камни – кто дальше, кто ближе, но каждый далеко, очень далеко, и хмурый человек одобрительно поджимает губы и кивает, и командует снова, снова, снова, и все повторяется завтра и послезавтра, и спустя неделю и еще одну… А потом то же поле и те же великаны, но теперь они бегут и лишь потом мечут камень, и снова, снова, и завтра, и спустя неделю, и три, а потом они же, но с сумками на плечах – тщательно подогнанными, не бьющими по бедру, снова бегут и швыряют, бегут и швыряют…
А потом вместо камней были металлические шары, и снова бег, взмах, мгновенная задержка, бросок – и взрывы, и хмурый человек хмурится и окрикивает: «Шрёдер! Ты и в бою будешь так же жмуриться?! Смотреть во все глаза! Головы в плечи не вжимать, если вам эти головы дороги!», и все начинается сначала…
Солнце могло бы вспомнить и то, что видело задолго до того сквозь распахнутое окно – за окном в комнате были люди, и тот, в синем тапперте, сидел за столом, постукивая пальцами по гладким доскам, и слушал одного из сидящих напротив. «Во влажном виде он просто горит, взрывается только в сухом, но взрывается от удара или очень сильного сотрясения, то есть, перевозить – или влажным, или нежнее, чем дорогое вино». «А как же в бой?» – спрашивал человек в синем. «Наши парни исхитряются, – пожимал плечами сидящий у самого края стола воин с кривым сизым шрамом поперек лица. – Несколько раз ходили с такими кугелями[204]204
Die Kugel – шар, ядро (нем.).
[Закрыть] на вервольфов, неплохое подспорье. Используем редко лишь потому, что больно шумно, а шуметь можно не всегда, да и драться приходится все больше либо в лесу, либо в городе, там особо со взрывами играться не с руки… Но точно вам говорю, ничего неисполнимого в этом нет; главное – не лупить по сумке с ними кулаком». «Посему конструировать с ним разрывные ядра не получится, – не дожидаясь вопросов, говорил кто-то. – Рванет прямо в стволе». «А что там изобретатель? – спрашивал человек в синем. – У него, сколь я помню, были идеи насчет совершенствования вещества или изготовления из него иного вещества, более удобного и более мощного?». Собеседник вздыхал и кривил губы, и снова вздыхал. «Досовершенствовался изобретатель. Насколько близок он был к своей цели, мы не знаем, а теперь уже и не узнаем. Снесло всю лабораторию вместе с записями, теперь наши люди работают сами, на основе его старых расчетов».
«Использовать вместо пороха для самого выстрела не выйдет?», – спрашивал человек в синем тапперте, и собеседник качал головой: «Стволы не выдержат, Ваше Высочество. Помните, как разнесло трибуны в Праге? Вот так же будет и со стволами. Пока не случится прорыва в усовершенствовании пушек – не стоит и пытаться. Подобрать нужную порцию вещества, само собою, можно, но какой смысл, коли по мощи выйдет, как тот же порох?». Человек в синем кивал, тоже тяжело вздыхая, и еще один собеседник неловко разводил руками: «Мы работаем над сплавами, но пока идет не слишком хорошо. То, что мы сделали сейчас, усовершенствовав купленное у Ордена – я вас уверяю, это уже лучшие пушки в Европе, стоит что-то изменить – и потеряем либо в мощи, либо в дальности, и уж наверняка в точности. Дальше надо думать, долго думать, пробовать, испытывать… К Австрии не успеем, даже если в ближайшее время будут какие-то успехи, а они покамест не сильно вдохновляют. Это дело многих денег и не одного года времени». «Людей подготовить куда быстрее, – наставительно вклинивался человек со шрамом и усмехался, и шрам тянул верхнюю губу в сторону, делая усмешку похожей на оскал. – Человек может всё, Ваше Высочество, помните? Даже то, чего не могут пушки». Человек в синем молчал, раздумывая, потом решительно вздыхал и оглядывал сидящих напротив. «Отберите людей. До последнего не говорить, зачем. Подготовку вести вдалеке от прочих, тайно, будущим кугельверферам[205]205
От werfen (нем.) – «метать». «Метатели шаров/ядер».
[Закрыть] дать четкие указания: о происходящем – не распространяться». «Будем гонять на пушечном стрельбище», – кивал один из собеседников, и солнце смотрело в окно, равнодушно освещая озабоченные лица.
А потом солнце смотрело, как великаны стояли в ряд, а перед ними прохаживался человек с хмурым лицом, и вот теперь оно снова это видело – те же великаны, бегущие вперед, те же взрывы, расцветающие теперь не в вытоптанной траве, а в гуще людских тел…
Перед тем, как тучи сомкнулись, обратившись сплошным беспросветным покровом, солнце успело увидеть, что великаны больше не взмахивают руками, а тянут из ножен короткие мечи, и две темных массы внизу, на стылом поле, сходятся одна с другой, как волна с каменистым морским берегом во время свирепого зимнего шторма.
А потом пришел и сам шторм. Темные тучи почернели, ледяная пыль разгорячилась, и солнце приготовилось услышать молнию – и снова замерло растерянно, ибо не было молнии, не разразилось напряжение вспышкой, не загремело в небесах; далеко внизу, под тучевым ковром, зашипев, вдруг возник плюющийся искрами огненный шар, потом еще один, чуть дальше – еще и еще, шары росли и светлели, теряя огненный окрас, и когда один из них стал ярко-голубым, он сорвался с небес вниз, с шипением и оглушительным треском врезавшись в наступающее войско.
Следом за ним сорвался второй и третий, и над полем снова прокатился грохот, будто все пушки обеих сторон заговорили разом, и вспыхнуло пламенем и искрами, и человеческие тела скомкало, расшвыряло, поломало, как старых кукол, смяв строй. Еще четыре шара низринулись из поднебесья, но на полпути вдруг замедлились, застопорились, закрутившись на месте, будто угодив в невидимый смерч. Три из них, точно запущенные такой же незримой мощной рукой, развернулись и ухнули в австрийское войско, а четвертый зашипел, побелел, вспыхнул над головами, распластавшись вскипевшим огненным покровом, и исчез.
Солнце не видело, что творится там, под пологом теряющих напряжение туч, но это было уже неважно – теперь происходило то, что оно видело бессчетное количество раз за все те столетия, что вставало над полями, холмами, рощами и лугами: две лавины, ощетиненные сталью, врезались друг в друга, и человеческие жизни и судьбы таяли, растворялись в этом море мечей, доспехов и голосов, сливаясь в единые множества, в легионы, отряды, крылья, фланги. Земля, промерзшая за ночь, не желала впитывать кровь, и ноги съезжали по вязкой жиже, запинались за тела и обороненное оружие, бойцы оступались и оскальзывались, кто-то падал, кто-то исхитрялся устоять, где-то хрипели раненые и задавленные, надсадно кричали живые, заглушая грохот, лязг и скрежет.
Где-то запел рог, что-то сместилось в человеческом скопище, под светлеющим пластом туч заржали кони – крикливо, надрывно, яростно, будто и у них, безрассудных тварей, был свой клич, и клич этот катился над полем, в единый миг превратившимся в ад. Если бы солнце могло взглянуть вниз, оно увидело бы того, кто прежде был в синем тапперте; увидело, но не узнало бы – теперь он был в миланском доспехе, и лицо было скрыто, и некогда светлую броню уже кто-то окрасил красным; конь под ним недовольно пыхтел и фырчал от попавшей в ноздри крови, но послушно повиновался седоку, напирая, отступая, замирая на месте и тяжело перемахивая через мертвых и полуживых под копытами. Солнце увидело бы, что с десяток конных воинов норовит держаться ближе к человеку в миланском доспехе, оградить, не выпустить его вперед и не допустить к нему чужаков, но конь храпел, фыркал недовольно и вырывался из кольца собратьев, унося седока дальше, и десяток конных настигали его и окружали снова.
Оно увидело бы тех верзил, что расцвечивали огнем ряды неприятеля – теперь кугельверферы были в самой гуще, и мечи в их руках сеяли смерть и увечья обильно, густо, щедро, будто всадники Апокалипсиса спешились и решили потешиться напоследок. Оно ощутило бы, как задрожал снова воздух – уже не стылый, согретый дыханием десятков тысяч людей и коней – и в самой глубине наступающего войска словно прокатилась волна, и люди пошатнулись, кто-то упал, оказавшись под ногами своих, кому-то не дали упасть, а кто-то не смог, и плотным строем человеческих тел их понесло дальше, не то обеспамятевших, не то мертвых. Потом воздух вздрогнул снова, и навстречу ему ринулась ответная волна – не ощутимая идущими и бегущими вперед людьми, и даже солнце, наверное, не смогло бы заметить, увидеть, понять, что сейчас там, над полем, над головами, шлемами, остриями пик и щитами, идет своя битва – краткими, но мощными штурмами, порой успешными, порой разбивавшимися о прочные заслоны и встречные атаки…
Тучи уже не чернели – покрывали небо серой шерстяной ватой; под облаками над наступающим конным крылом загорелись и зашипели еще три шара, уже мельче, темнее, уже не голубые, а бело-желтые. Один рухнул вниз, и над полем пронесся лошадиный визг, заглушивший людской крик, второй шар взорвался над самыми головами, оглушив, а третий так и остался в вышине, теряя белизну, краснея, мечась под темным ковром туч и умирая, пока не выдохся, став яркой огненной точкой, а после и исчезнув.
Серая шерстяная вата нахмурилась, отодвинув солнце выше, собралась пухлыми складками, напыжилась – и вниз полетели тяжелые капли. Капли били редко, негусто, не долетая до земли, оседая на телах и доспехах, и люди внизу не замечали небесной влаги, не чувствуя, что кропит лица и руки, холодная вода или горячая кровь. Над полем снова запели сигнальные трубы и рога, высоко на древках закачались флаги, и рассеянная пехота противника у правого крыла собралась снова, перестроилась, и опять задрожал воздух; человек в миланском доспехе на миг замер, пошатнулся, и окружавшие его конные сомкнулись, чья-то рука ухватила коня за узду, желая развернуть, и человек встряхнулся, рванул поводья на себя и снова вылетел вперед, едва не оставив своих охранителей далеко за спиной.
Неистово раскачивался стяг на левом фланге австрийского войска и пыталась о чем-то докричаться труба, но наступающие конные медленным упрямым клином уже отрезали этот ломоть от прочей армии, окружив, и внутри этой стальной ограды две конницы смешались, слились, и теперь одна планомерно, вдумчиво крошила и втаптывала в землю другую.
Летящие с небес капли стали крупнее и гуще, серая шерстяная вата растянулась, расправилась и деловито закропила гремящее поле. Поле парило под башмаками и подковами, чавкала и дрожала расплавленная кровью земля, уже не сцепленная корнями умерших трав – подошвы и копыта разорвали, взрыли земную твердь, и по разворошенному дерну наступали все новые и новые подошвы и копыта, и новые тела валились под ноги, подставляя лица сочащейся с небес воде.
Взмахнул крылом намокший тяжелый баннер, взвыл рожок, и пехота главного легиона покачнулась нестройной волной, расступилась будто нехотя, подалась назад. Миновало мгновение – бесконечное, как эта серая пелена над головами – и в прореху потек тонкий ручеек конных рыцарей Хоэнцоллерна, расплываясь за рядами пеших, раскатываясь, точно свернутое полотно, и уже широким потоком хлынул в ряды австрийцев.
Капли с небес зачастили сильнее, ударяя в лица, сползая холодными змеями за шиворот, с трудом уходя в землю, лошади храпели и жмурились, но неслись вперед, повинуясь седокам. Снова заголосил сигнал – и сумей солнце вновь взглянуть вниз, оно увидело бы, как на левом фланге наступающих показалась тонкая бело-стальная кромка. Она приближалась и ширилась, и расстилалась, распухая в широкую полосу, и в конницу противника врезался клин верховых в белых ваппенроках с черными крестами.
Орден собрал всех, кто смог бы успеть на эту войну. Орден объявил, что благословенны братья, которые в великой поспешности немедля соединятся с войском Императора, и нимало не будут порицаемы те братья, которые в усердии нагонят воинство Господне на марше, пусть бы даже и кони их пали от изнеможения, а тем братьям пришлось сражаться пешими, но таковые из братьев, кто не пожелает прислушаться к гласу Понтифика, по неверию, тайному зловерию или лености, ещё вчера прокляты навечно, покрыты несмываемым позором и повинны смерти. У Ордена, в конце концов, все еще был должок за Грюнфельде… И сейчас солнце могло бы увидеть, сколь многие явились долг оплатить.
Хоэнцоллерн и орденские завернули коней, проигнорировав пехоту, устремившись на остатки конницы, передовой легион двинулся в атаку снова, и в правое крыло влились две тысячи свежих клинков: Жижка повел в наступление своих гуситов. Если бы солнце могло это видеть, оно ужаснулось бы виду этих лиц, этих глаз, осиянных болезненной, одержимой, неуместной радостью пополам с гневом, оглохло бы от криков ярости и наверняка решило бы, что одних лишь этих двух тысяч безумцев могло бы хватить, чтобы смести с лица земли все живое.
С вышины заструилось сильнее, и казалось, что небесная влага растворяет, рассеивает вставшее в оборону войско – еще недавно плотная масса людей и коней как-то вдруг, внезапно распалась, раздробилась на островки. На берега островков набегали волны, накатывали, сжимали, откатывали назад и набегали снова, и с каждой волной островки таяли, сжимались, убавлялись. Волны редели и вновь сгущались, подпитанные свежими ручьями, охватывали гаснущие островки…
Солнце над серой пеленой уже давно взобралось на вершину своего дневного пути и замерло, терпеливо поджидая, когда серая вата избавится от насильно скопленной влаги. Оно не видело, как там, на поле, исчез сначала один островок, потом другой, и в раздробленной темной массе пролегли два широких коридора, и вдалеке, у оконечности одного из них, кто-то вырвался верхом из общей свалки, кто-то так же окруженный всадниками, как и человек в миланском доспехе. Он на мгновение застыл на месте, и если бы солнце могло бросить взор сквозь серую пелену, оно увидело бы, как далеко у правого крыла австрийцев, уже почти смятого и растоптанного, так же замер тот, кого оно прежде видело на поле и в комнате, и миланский доспех его поблек от крови и грязи и местами помят, и шлем не то потерян, не то сброшен.
Солнце могло бы подумать, что время остановилось для этих двоих, и это, быть может, так и было.
Время остановилось, а потом понеслось вскачь, и вскачь понесся вырвавшийся из свалки всадник, окруженный охраной – прочь от тающих островков, от превратившейся в резню битвы, к видневшимся вдалеке холмам. Рыцарь в миланском доспехе рванулся вперед, явно стремясь догнать, но один из окружавших его воинов успел раньше – настиг, перехватил коня за узду, и тот забил копытами, возмущенно и нетерпеливо, и рыцарь в миланском доспехе гневно выкрикнул что-то, но рука держала крепко, и кулак не разжался.
Верховой беглец уже исчез вдалеке, и за ним потянулся неплотный косяк всадников; не будь серой пелены, солнце могло бы видеть, как они погоняют утомленных коней, обойдя холм, миновав собственный лагерь с обозом, устремившись дальше, ни разу не обернувшись назад, туда, где захлебывалось в набегающих волнах поредевшее войско…
Глава 42
Лесистые отложистые холмы и распростертое меж ними поле пребывали здесь эпоха за эпохой, извечные, неизменные, и ждали своего часа, и вот – час пробил…
Первыми начали сдаваться видевшие, как бежал Альбрехт с кучкой приближенных, бросив свою армию на растерзание. Как эта новость исхитрялась расходиться по охваченному резней полю, по раздробленным куцым огрызкам австрийского войска – неведомо, но оружие там и тут бросалось под ноги, на вымокшую землю и тела павших. А быть может, и никак не расходилась тяжелая весть, а попросту даже самому отчаянному рубаке, самому преданному сыну этой земли уже было очевидно, что битва проиграна, а его смерть ничего не решит.
Около тысячи простых бойцов и рыцарей успели вырваться и даже не отступить – удрать, неуправляемо, врассыпную. Их не преследовали, окружали и сжимали оставшихся.
Где-то еще пытались противиться чьи-то клинки, но уже катился над лесистыми отложистыми холмами и распростертым меж ними полем победный клич, и последние островки отчаянного, безнадежного сопротивления затихали, и поднимались руки, открывая ладони, дрожащие от напряжения…
Дождь все так же падал – неспешно, равнодушно, смешиваясь с кровью на телах и земле, смывая жирную грязь с живых и мертвых. Фридрих запрокинул лицо к небу, прикрыв глаза и слизнув влагу с губ; влага была мерзкой на вкус и хрустела на зубах песчинками, растекалась по языку смесью горечи и соли. Примятый шлем, мешавший дышать и видеть, в бою пришлось бросить, и сейчас с волос за ворот, пропитывая одежду, убегали ленивые холодные струи.
Где-то кто-то кричал, громко стонал, кто-то откровенно, не по-мужски, плакал навзрыд, вдалеке захлебывалась ржанием чья-то лошадь, но после грохота битвы мир вокруг казался тихим. Просто в этой тишине кто-то кричал и плакал…
– Мы победили!
Он медленно открыл глаза, опустив голову, и с трудом собрал взгляд на рыцаре перед собой. На его доспехи было страшно смотреть – с такими повреждениями он должен был лежать где-то там, в этом ворохе порубленных и измятых тел, а не лихо гарцевать на пышущем жаром жеребце, не улыбаться из-за поднятого забрала, не салютовать окровавленным мечом…
– Мы победили! – еще громче крикнул фон Хоэнцоллерн и засмеялся – хрипло, сорванно, но искренне, с неприкрытой радостью. – Что за похоронный вид, мы, черт возьми, победили, кайзер Фриц!
Маркграф запнулся, запоздало устыдившись непрошенной фамильярности, и Фридрих растянул улыбку в ответ:
– Да. Мы победили.
– Эх, какая была возможность красиво пасть! – снова засмеялся маркграф. – Слава, почести семье, а то и песню, может, сложили бы… Но не судьба!
– Придется слушать песню о своих подвигах лично, – с напускным сожалением согласился Фридрих.
Тот громко, неприлично заржал и, развернув коня, устремился к тому, что прежде было правым флангом, перекрикиваясь по пути с кем-то из уцелевших.
– Вы победили, – негромко сказал голос справа, и Фридрих, не оборачиваясь, качнул головой:
– Нет, Линхарт. Он все сказал верно. Мы победили.
Бессменный адъютор фон Тирфельдер не возразил, не согласился, лишь молча двинул коня так, чтобы быть чуть впереди, и вокруг снова воцарилась тишина, в которой кто-то кричал и плакал…
Истошно кричащая лошадь умолкла – кто-то прервал ее мучения или смерть пришла, наконец, сама. Редели и становились тише и людские крики, и все слышнее – дождь, шлепавший по раскисшей земле и барабанящий по доспехам…
Невдалеке сгрудившиеся в подобие отряда легионеры разом обернулись к всаднику в миланском доспехе, кто-то крикнул что-то неразборчивое, и десятки глоток подхватили его крик, воздев оружие над головами. Фридрих распрямился, послав ответный салют, и крик повторился – торжествующий, зычный, и теперь можно было разобрать «Победа!» и «Жив!»…
Выждав два мгновения, Фридрих опустил руку с мечом, ставшим вдруг тяжелым, как бревно; медленно, не сразу попав, убрал его в ножны и тронул коня, неспешно двинувшись вперед, переступая через тела, взметая руку в приветственном жесте всякий раз, как справа или слева, или впереди слышалось снова нестройное ликующее «Heil Kaiser Fritz!», и снова растягивая улыбку в ответ на усталые, порой слегка безумные, но непритворные улыбки. Смертельно хотелось сползти с седла и упасть прямо в эту холодную грязь, вытянув гудящие ноги и руки, и чтобы вода так и бежала на лицо, и чтобы тишина оставалась рядом, и холодный воздух вливался в горящие легкие… Нельзя. Надо быть здесь, в седле, выситься над этим ковром из убитых и раненых, чтобы видели – Император жив.
Император жив. Главная фигура, без которой эта победа мало чего стоит. Пали сотни и сотни других, но Император жив…
Убит почти весь отряд, прикрывающий его в этом бою. Погиб верный пес Хельмут. Никогда больше не будут хорохориться и скабрезно шутить повесы Эрвин и Матиас. Остался лежать с рассеченной головой младший брат герцога фон Виттенберга. Потерял почти всех врученных ему богемцев Жижка. Никогда не встанут сотни пеших и конных, чьих имен и лиц он не знает или не помнит.
Но Император жив…
Островки разбитой армии медленно дрейфовали по бескрайнему полю, уже не щетинясь сталью, поблеклые и притихшие, окруженные имперскими легионерами, поодиночке в полукольце конвоя двигались люди в некогда украшенных дорогих доспехах – безоружные, без шлемов, пешие.
Слева вдруг кто-то крикнул остерегающе, заскрежетало сталью о сталь, загремело, чей-то голос рявкнул «Да держите ж его, сукины дети!», кто-то зарычал, как раненый зверь, и вновь загремел металл, столкнувшийся с металлом – совсем рядом, в нескольких шагах…
Фридрих остановился и развернулся, но увидеть, что происходит, не смог – фон Тирфельдер вмиг оказался на пути, заградив происходящее, и выжившая четверка телохранителей встала рядом живой изгородью. Он недовольно дернул поводья, подавшись в сторону от своего адъютора, и столкнулся с взглядом глубоко запавших глаз – взглядом, полным ненависти и отчаяния.
Рыцарь в помятом толедском доспехе стоял на коленях в кровавой грязи, низко согнувшись – четверо легионеров с трудом удерживали его за руки, вывернув их за спину, и на сидящего в седле врага он смотрел исподлобья, все еще пытаясь подняться. Двое наступили ему под колени, прижав подошвами ноги к земле, и рыцарь снова издал хриплый рык, попытавшись стряхнуть с себя навалившихся солдат.
– Хватит прятаться за спинами своих псов! – выкрикнул он сипло. – Имел наглость явиться на нашу землю, убивать наших детей – имей и смелость смотреть нам в лицо!
– Я бы не стал… – начал фон Тирфельдер тихо, и Фридрих молча тронул коня, подвинув его с пути и выехав на два шага вперед.
Рыцарь перестал вырываться и замер, тяжело дыша, все так же глядя снизу вверх с неприкрытым отвращением. Несколько мгновений прошли в молчании, и Фридрих кивнул:
– Отпустите.
– Ваше… – опасливым шепотом начал адъютор, и он повторил громче и настойчивей:
– Отпустите.
Легионеры переглянулись, с сомнением бросив взгляд на человека в своих руках, и медленно, нехотя отступили назад. Рыцарь одним движением вскочил, метнулся вперед, фон Тирфельдер и легионеры схватились за рукояти мечей, и Фридрих вскинул ладонь:
– Стоять!
Замерли все – замер напряженный, как тетива, адъютор, замерли хмурые легионеры, застыл на месте рыцарь в толедском доспехе, все так же тяжело дыша, сжимая кулаки, и, кажется, было слышно, как скрипят его стиснутые зубы…
– Вот я, – ровно произнес Фридрих, позволив коню сделать еще шаг вперед. – Чьих детей я убил?
– Моих, – сквозь зубы выдавил рыцарь. – Здесь, на этом поле, остались оба моих сына. Твои подлые псы и колдуны, которых ты привел на нашу землю, убили их. Ты доволен? Скажи мне, король-мясник, ты – доволен?
– Колдуны?! – с трудом сдерживая злость, переспросил фон Тирфельдер, тоже выдвинувшись вперед. – А то, что вытворяли ваши сегодня, это что – не колдовство?! Вы здесь ослепли, что ли? Годами ваш герцог собирает подле себя малефический сброд, годами якшается с чародеями всех мастей, прямо встал на защиту того, кто сам себя провозгласил Антихристом, а у вас хватает наглости и глупости обвинять в колдовстве нас?!
– Ложь и вздор! – выплюнул рыцарь желчно и распрямился, скривив губы в усмешке. – Так я и думал. Король-мясник молчит, не имея смелости признать то, что совершил, а вместо него тявкает его лживый пес, выгораживая хозяина… В чем дело? Ты убил тысячи людей, ты продал душу врагу рода человеческого, взял под свое крыло служителей Сатаны и теперь стоишь на нашей земле победителем, так почему у тебя не хватает смелости сказать об этом прямо?
– Может, потому что это бред? – недобро прошипел фон Тирфельдер. – Тебе такого в голову не приходило, а? Может, дело в том, что всё наоборот?
– Как твое имя? – сдержанно спросил Фридрих, и рыцарь смешался, не то сбитый с толку его спокойствием, не то на миг, краткий миг, поддавшись сомнениям…
– Рихард фон Хинтербергер, – отозвался он, наконец. – Ты убил моих сыновей Йоханнеса и Георга.
– Я запомню.
– Запомни, – ожесточенно проговорил тот. – Запомни, и будь проклят ты сам и весь твой гнилой род! Будь проклята твоя Империя, выстроенная на лжи, крови и дьявольской волшбе!
– Подумай, глупец, – снова вклинился фон Тирфельдер. – Тебе что, ни разу не приходило в голову, насколько это странно – целая Империя, охваченная колдовской заразой под покровительством Инквизиции, настолько солидным, что даже Рим ничего не может с этим поделать? Вам ведь так об этом рассказывали, да? Все колдуны, малефики и чернокнижники собрались в Империи, а все одаренные Господней благодатью – в Австрии… Тебе не кажется, что это как-то подозрительно, а? Или вы здесь не только ослепли, но и оглохли? Тебя не смущает, что весь христианский мир, а не только Империя, признал нового Папу, который объявил крестовый поход против вашего герцога? Все – французы, итальянцы, поляки, англичане, португальцы, Бог знает кто еще – все!
– Ни тебе, ни твоему королю не удастся меня смутить, – презрительно покривил губы рыцарь. – Я заметил сегодня в ваших рядах барона фон Эбнера и его людей. Не знаю, чем вы купили их, как переманили, что обещали – богатство, почести или Бог ведает что еще, но со мной вам это не удастся.
– Да он серьезно… – растерянно проронил один из легионеров, и Фридрих повел рукой, не дав ему продолжить:
– Нет. Не сейчас. Это не имеет смысла. Мы поговорим об этом после.
– Не о чем мне говорить с мясником, – с омерзением процедил рыцарь.
Фридрих не ответил; еще мгновение он смотрел в это лицо, искаженное ненавистью, а потом молча развернулся и двинул коня дальше.
– Что ты будешь делать с пленными, мясник? – донеслось в спину. – Приносить в жертву Сатане за дарованную тебе победу? Ну вот я, перед тобой, отец сыновей, которых ты убил, и подавись нашей кровью!
Фон Тирфельдер рядом ёрзнул в седле, явно преодолевая желание обернуться, тяжело засопел, но промолчал, и их маленькая процессия пустилась дальше, снова перешагивая через тела, отзываясь на кличи, приветственно кивая…
Дождь стал реже, обратившись мелкой холодной моросью, и вдалеке, над холмами, проступили в стылом темно-сером небе сизые прогалины. Сизые бреши на глазах проступали там и тут, и лишь над самым полем все еще висела плачущая пелена – уже неплотная, рыхлая. Солнце начало свой путь вниз – пока еще неторопливо, мешкотно, лениво, будто и оно устало, растратило все силы в этот день.
И где-то в лагере сейчас должна облегченно выдохнуть растратившая силы женщина в сером платье. Ее помощь Фридрих сегодня ощутил не раз, и казалось, что она все еще здесь, все еще пристально наблюдает, готовая в любой момент прикрыть, поддержать, защитить.
«Спасибо», – подумал он, тщательно произнося в мыслях каждый звук, и прислушался к себе. Ответа не было. Или он не услышал, или женщина в сером не желала тратить силы на пустую болтовню…
– Разъезд.
Напряженный голос телохранителя выдернул из отрешенности, как щенка из проруби, он встряхнулся, обернулся, проследив за указующим перстом. Через поле, огибая валы из тел, перемахивая через мертвых, своих и чужих, неслись пятеро, погоняя и без того несущихся лошадей. Фридрих сорвался с места, припустив навстречу, слыша, как растерянно ругнулся за спиной фон Тирфельдер.
Разведчики подлетели на полной скорости, не сумев сразу остановить коней, те заржали, попятились, отплевываясь и пыхтя.
– Идут! – выпалил один. – Одержимые здесь!
– Где?
– С минуты на минуту!
– Сколько?
– Десятки… пара сотен… Не знаю, невозможно сосчитать. Простите.
– Чуть-чуть не успели к битве, – проронил фон Тирфельдер чуть слышно.
– Сочтем это Господним благоволением, – серьезно кивнул Фридрих. – Конвоирам: пленных в кольцо, прикрыть и уводить. Сигнал expertus’ам… Готовность; что делать – решать самим, по ситуации.
– Сигналить отступление за линию пушек? – быстро спросил фон Тирфельдер. – Если сечка…
– Не поможет, – качнул головой разведчик. – Они идут поврозь, со всех сторон, маленькими группами по трое-пятеро, где-то десяток, но не собираются в единую волну. Артиллерийская линия не прикроет, эти… создания попросту явятся отовсюду.
– Уж лучше иметь пушки в готовности и не выстрелить, чем иметь возможность выстрелить и…
– Лагерь, – оборвал Фридрих, и адъютор запнулся, побледнев. – Лагерь беззащитен. Лазарет, сестры, священники, обоз… Оставшихся в нем людей для обороны не хватит. Найти фон Хоэнцоллерна. Он и его люди, кого успеет собрать за минуту – в лагерь.
– Прошу вас, Ваше Величество, хотя бы вы – к пушкам, – настоятельно произнес фон Тирфельдер, когда разведчики бросились врассыпную. – Приказы отданы, все будет исполнено, вам здесь не место.
– Я ценю вашу заботу, Линхарт, – сухо отозвался он, – однако все еще способен сам решить, где мое место. Желающие могут оставить пост при моей беспокойной персоне и отступить с конвоирами, никого не посмею осудить.
Адъютор тяжело вздохнул, недовольно поджав губы, и огляделся.





![Книга Культурный эксперимент [=Бог Курт] автора Альберто Моравиа](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-kulturnyy-eksperiment-bog-kurt-252893.jpg)