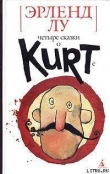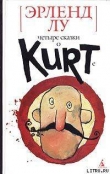Текст книги "Тьма века сего (СИ)"
Автор книги: Надежда Попова
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 53 страниц)
– Майстер Бекер, – кивнул тот, опустив руки, однако напряженность и угрюмость остались, лишь спрятавшись под маску учтивости. – Майстер Гессе.
– Хочешь поговорить с сыном? – поприветствовав его ответным кивком, спросил Курт, и бауэр вздохнул:
– Да уж который день пытаюсь. Прихожу в это их сборище – говорят, нету его, ушел, бродит где-то. Я подожду-подожду, да и ухожу. Прихожу чуть позже – снова нету. Один из них сказал, что Грегор вообще туда теперь только ночевать и приходит – видно, от меня прячется. Я уж пытался и в лесу его искать, и поздним вечером его перехватить, просидел до темноты, так и не дождался…
– Вчера дождался я. Не знаю, каков из меня проповедник, но сдается мне, я его убедил, что до второго пришествия так бегать нельзя, и сегодня Грегор обещал с вами поговорить. Надеюсь, не передумал с утра.
– Вот спасибо, майстер Гессе, – с чувством произнес Харт, прижав ладонь к груди. – От всего сердца благодарю.
– Рано еще, – улыбнулся он. – Вот если и впрямь не передумает…
– Это он может, да, – досадливо нахмурился бауэр. – Это ж такой своенравный мальчик был всегда, вы б только знали. Помнится, было ему лет этак десять, и втемяшилось ему в голову поймать лисенка. Представляете, лисенка. Живого, чтоб, значит, вырастить, как собаку. Зачем?! – вопросил он страдальчески и развел руками. – Не знаю. И Грегор объяснить не смог, хочу, и все тут. Забавно потому что. Представляете, забавно! Лису в дом! Так он еще и парочку своих приятелей на это подбил, и вот они пошли в лес мастерить силок, чтобы этого лисенка поймать. Месяц ходили проверять, каждый день. Я уж его и ругал, и затрещин пару раз отвесил, и запирал даже, потому как ну что ж такое – в лес детям одним, без присмотра? Ну и без толку. Все одно убегал. И чем дело кончилось? Наткнулись на кабанью мамку, еле ноги унесли. Но зато уж в лес долго еще не совался дальше опушки.
– Я смотрю, у него тяга к лесам с детства, – усмехнулся Мартин, и Харт мрачно буркнул:
– Да ко всему у него тяга, что в голову втемяшится. И всё поперек родительского слова, всегда! И вот видите, чем дело кончилось? Я уж ему навстречу пошел. Хочешь книжек – на тебе книжек. Хочешь в университет – иди в свой университет, хотя вот вы подумайте, господа дознаватели, единственный мужчина в семье – и не хочет продолжать отцово дело, ну как так-то! Но я уж стиснул зубы, ладно. Подумал еще, а вдруг и вправду толк выйдет, вдруг талант у мальчика, а талант – он же Господом дается свыше, и к чему я буду идти против воли Господней? А он вон как. Ему что отцова воля, что Божья – так, шелуха. Как в голову стукнет, так и делает.
– Зато уж если стукнет… – кивнул Мартин сочувствующе, и Харт подхватил:
– Вот-вот-вот, о чем и говорю, майстер Бекер! Если стукнуло – всё, ничем не вытравишь, пока сам не переболеет. Но университет этот его, это он много лет хотел, готовился, силы тратил, время, деньги… знаете, сколько книги стоят, майстер Гессе? Хотя вы-то уж знаете, да… Да я табун коней купить мог бы, если б его библиотеку продать! Да всех бы соседей купил с потрохами! Я уж думал – всё, вот остепенится парень, найдет свою стезю в жизни…
– К слову, о соседях, – заметил Курт, и бауэр смолк, глядя на него выжидающе. – Я заметил при первом еще вашем разговоре, что Грегор на тебя за что-то обижен, и попытался выяснить, с чего такой зуб на родного отца, который, как видно, всем его желаниям потакал. Не скажу, что он был совсем уж откровенен, однако кое-что рассказал.
– И что же? – с затаенным ожесточением спросил Харт. – Что ему на сей-то раз не так, кроме того, что я ему все, что думаю, сказал, когда он этот ваш Предел исследовать вознамерился?
– По его словам, в каком-то из своих торговых дел ты с приятелями подставил непричастных людей, – ответил Курт, видя, как в глазах бауэра плеснуло недоумение, тут же сменившееся пониманием и смятением. – Я не мытарь и не имперский дознаватель, это не мое дело, да и Грегор сказал, что ты не по своей воле в это влез… Собственно говоря, я не собирался от тебя допытываться, что там приключилось, просто хотел перед вашим с ним разговором поставить тебя в известность, что дело не лишь только в том, что ты не желал отпустить его к Пределу. Что-то ты в своем парне всерьез задел, Мориц.
– Это я знаю, – хмуро отозвался тот, отведя взгляд и вдруг утратив все свое многословие. – Грегор… мальчик хороший. И… ответственный, хоть и чудит временами. Как дело до чего-то нешуточного – тут-то он да, тут-то он свою душу и проявляет, а душа у него добрая.
– Даже слишком, как я вижу.
– В наши времена – это верно, майстер Гессе, – согласился Харт и, подумав, добавил: – Хотя оно и во все времена так было, даже вон и в Христовы…
– Люди не меняются, – согласился Курт и кивнул на выход из городка: – Не стану тебя задерживать больше, иди. Надеюсь, с утра Грегор своего решения не изменит, и беседа у вас наконец-то сложится.
– Экие страсти в крестьянском семействе, – тихо пробормотал Мартин, глядя вслед почтенному бауэру, когда тот, душевно распрощавшись, ушел. – Не во всяком благородном доме такие увидишь… Ты услышал от него, что хотел?
– А ты?
– Не знаю, – помедлив, ответил Мартин. – Подводя итог всем нашим прежним попыткам его разговорить, я бы сделал вывод, что никаких странностей за Грегором его отец ни в детстве, ни в юности не отмечал – если, разумеется, ничего не скрывает либо сам парень, либо Харт. Зато отмечал ослиное упрямство и ангельскую душу. И любовь к экспериментам.
– И нелюбовь к капусте и торговле.
– Да, вручать дело папаше явно придется кому-то из дочкиных мужей… Должен заметить, хоть люди, по твоему убеждению, и не меняются, однако времена меняются определенно. Всего-то лет десять назад такая терпимость состоятельного крестьянина к желанию единственного наследника вот так все бросить и уйти в город – была чем-то исключительным. Уходили со скандалами, криками, руганью и отлучением от родного очага. Встречался мне в Эрфуртском университете преподаватель, доктор права, уважаемый студентами и даже пфальцграфом, автор пары трудов – из таких вот выучившихся крестьян. Что ты думаешь, отец его до самой смерти так и не впустил в дом и едва ли не проклял за предательство семьи. Что таким сыном стоит гордиться, так и не принял и не понял.
– Времена меняются, – согласился Курт, – а люди – нет. Отойди вглубь Империи, в какую-нибудь глухую деревеньку, так там этого твоего профессора еще и дубинками бы забили насмерть за колдовство, потому что он умеет сделать порох.
– При том, что сами наверняка чудят по мелочи, – усмехнулся Мартин, – но то ж, как водится, «совсем другое дело». Молока оставить кобольду – это ж не ересь, традиция. Крысиный помет кинуть в очаг от порчи – не колдовство, обычай. Мужу месячной кровью подошвы измазать или после причастия ему в похлебку поплевать, чтоб не изменял – тоже ничего страшного и совсем не еретично. А вот порох – да, порох это дьявольское наущение.
– Да… – задумчиво проронил Курт и, развернувшись на месте, потянул Мартина за локоть. – Давай-ка вернемся в дом.
– Что такое? – торопливо зашагав следом, переспросил тот. – Случилось что-то? Или что-то придумал?
– Ты ведь отчеты, в отличие от безалаберного меня, пишешь исправно, так?
– Они мне самому не раз помогали, и потом меньше писать – когда расследование уже окончено. Да и ты сам не раз убеждался – еще неизвестно, будет ли оно закончено и не придется ли кому-то его доследовать, исходя из отчетов покойного следователя…
– Да-да, отчеты – не бесполезная вещь, не спорю, признаю, каюсь, – оборвал его Курт, – и мне честно и искренне совестно за мою беспечность. Среди твоих записей есть и отдельный список всех пропавших, так? Ты ведь пытался высчитать периодичность исчезновений, стало быть, у тебя эти расчеты сохранились?
– Да, лежат отдельным документом.
– Отлично, – кивнул он, нетерпеливо рванув на себя дверь жилища матушки Лессар. – Неси.
На стол, сдвинув еще стоящие после завтрака тарелки в стороны, Мартин выложил кипу аккуратно исписанной бумаги, уверенно заглянул в середину стопки и выдернул один лист, отложив его в сторону. Однако майстер Бекер и впрямь к делу написания отчетов подходит ответственно, с невольным уважением подумал Курт, усевшись и пододвинув лист с расчетами к себе. Не то что некоторые…
– Что конкретно ты ищешь? – спросил Мартин, когда минута прошла в молчании, и он кивнул на бумагу в руке:
– Здесь все или только те, о ком точно известно, что в Предел они не уходили?
– Все, кого не видели исчезающим или хотя бы входящим в Предел, – уточнил тот и повторил: – Что мы ищем?
– Исчезновения, между которыми прошло около месяца. Двадцать семь-восемь дней, тридцать, тридцать два, около того. Садись, – кивком указав на табурет рядом, поторопил Курт. – Два глаза хорошо, а четыре – больше.
Глава 18
Община паломников просыпалась еще раньше Грайерца – сколь бы ранним утром кто-то из господ дознавателей ни приходил сюда, обитель искателей истины всегда бодрствовала. В последние же дни, казалось, лагерь не спал вовсе, лишь затаивался на время ночи, как сторожевой пес, готовый встряхнуться и ринуться навстречу новому дню со всеми его неприятностями вроде инквизиторов, донимающих одними и теми же вопросами всех без разбору.
Сегодня все было как прежде, однако едва заметных, но ощутимых перемен не заметить было нельзя, точно какая-то натянутая струна вдруг расслабилась и перестала звенеть от напряжения, давя на нервы. Сегодня, по свидетельству одного из паломников, Грегор Харт не улизнул из лагеря с наступлением утра: проснувшись и приняв трапезу вместе со всеми, он уселся на траву подле дороги, ведущей к городу, и пребывал там до тех пор, пока не явился его отец, после чего поднялся, перебросился с ним парой слов, и оба удалились, обсуждая что-то меж собою.
– Мы все рады, – не скрывая удовольствия пояснила Урсула, этим утром тоже не покидавшая пределов лагеря. – Уж больно изменился Грегор с его приездом, стал такой раздражительный, хмурый… Слепому видно, что с отцом он поругался, когда сюда уехал, и нам очень не хотелось, чтобы тут, в этом тихом месте, кто-то учинил склоку. Да и за Грегора переживали очень. Он ведь хороший мальчик, уж не знаю, за что отец на него так зол, но не думаю, что Грегор мог что-то серьезное натворить.
– Я с ним говорил вчера, – отмахнулся Курт. – Ничего серьезного у них не стряслось, обыкновенная семейная ссора, как то бывает у отцов с сыновьями. Особенно когда сыновья мнят, что сами лучше знают, что делать и как.
– Ох как я это понимаю… – сокрушенно качнула головой Урсула. – Уж поверьте… А вы, я вижу, один сегодня, майстер Гессе? – она невесело усмехнулась. – Допросов сегодня не будет? Пришли, чтоб убедиться, что у Грегора с отцом все хорошо?
Курт ответил не сразу; огляделся, видя, как смотрят в их сторону обитатели лагеря, неумело делая вид, что увлечены своими делами, и, наконец, кивнул в сторону:
– Пойдем-ка прогуляемся. А то под взглядами твоих приятелей я себя чувствую, будто лицедей на подмостках.
– Ох, майстер инквизитор, – усмехнулась Урсула, развернувшись и пойдя рядом с ним, – а уж я-то как… Знаете, что меня уж спрашивают? Не со своим ли интересом вы ко мне приходите. Да-да, – улыбнулась она, когда Курт удивленно поднял брови. – Видят, наверно, что мы говорим с вами спокойно, что вы передо мною факелами не размахиваете, я вот улыбаюсь с вами, ну и… Думают всякое.
– А Йенс? – уточнил Курт, обогнув крайний домишко и медленно двинувшись от лагеря прочь, и она непонимающе переспросила:
– Йенс? Гейгер? А что он?
– Он тоже это спрашивает?
– Вот и вы туда же, – вздохнула Урсула укоризненно. – Неужто никак в голове ни у кого не лежит, что одинокая вдова может просто говорить с мужчиной, просто молиться вместе, просто так же, как он, искать путь в жизни? Просто, так же, как с любым другим человеком, как с ребенком, стариком, как с женщиной?
– Бывает, – кивнул Курт, свернув на тропинку, ведущую к дороге в Грайерц, – однако искать обыкновенно легче вдвоем. Да и судьбою вы схожи, уж прости за болезненное напоминание, а похожие люди часто тянутся друг к другу.
– И мы тянемся, да. Но без вот этого вот, что вы себе там придумали, майстер Гессе. Не верите? Думаете, не бывает так?
– Отчего же, мне и такое встречалось. Был у меня в первые годы службы напарник, который еще в бытность свою вне Конгрегации остался без семьи… Тот вообще всех любил – и женщин, и стариков, и, сдается мне, распоследнего еретика с парой дюжин смертей на совести.
– «Был»?..
– Что?.. А, нет, – улыбнулся Курт, пнув попавшийся под ногу ком ссохшейся земли, и бросил взгляд вдаль, на убегающую к Грайерцу изогнутую ленту дороги. – Он не погиб. Просто теперь не служим вместе… Он все тщился научить меня человеколюбию; должен сказать, безуспешно.
– Почему?
– Люди существа в большинстве своем гадкие, – пожал плечами он. – Двуличные. Подлые. Жестокие. Случаются, само собою, и праведники, но те порой еще хуже. Знаешь, как говорят – если в семье есть один праведник, остальные становятся мучениками.
– Люди… всякие бывают, – помедлив, отозвалась Урсула. – Такова наша греховная природа, все чаще мы именно ей и поддаемся, ведь это куда легче и приятней, а докопаться до глубин души, в которой спрятано то, что Господь туда вложил – это работа. Тяжелая, как ров копать. Понятно, что это мало кому хочется. Но я в людей верю, майстер инквизитор. Господь Иисус в нас поверил, иначе не шел бы на крестную смерть, ведь так? Как тогда можно не верить нам самим? Тогда мы пойдем против веры самого Господа.
– Интересный аргумент, – серьезно заметил Курт. – Надо будет взять на вооружение. А то, знаешь ли, порой и впрямь смотрю вокруг – и думаю, что самая тупая корова вон в том стаде заслуживает большей Господней милости, чем самый разумный из людей. Корова не лжет, подлостей соседке не подстраивает, политических войн не начинает, жует себе потихоньку и молчит. Не творит добра, но хоть не делает зла. При моей службе даже такое – редкость.
– Вы потому и видите во всех нас злонравных еретиков? – улыбнулась Урсула, и он хмыкнул:
– Знаешь ли, большинство еретиков и даже малефиков, что мне встречались, злонравными себя не считали. Тех, кто творил зло и понимал это, кто творил его осознанно – из ожесточенности или политических резонов, или в борьбе за что-то или против кого-то, а тем паче тех, кто просто наслаждался творимым – тех были единицы. Остальные искренне мнили себя носителями добра и истины… или ее искателями. А что на пути этого искания после них остаются людские страдания, разрушения или трупы, так то само вышло, они не хотели. Или жертвы их исканий нехитро списывались – как, бывает, торговцы списывают порченый товар, так они списывали порченых людей.
– Незавидная у вас служба, майстер инквизитор. Этак можно ведь всю душу растратить.
– С кем-то так и случается, – кивнул Курт. – Одни болеют душой за всех и каждого и в итоге оставляют службу, уходят куда-нибудь в архив, а то и в монастырь, другие… Другие высыхают, как старое дерево, и их уж ничем не проймешь.
– А вы – из каких?
– Хотелось бы сказать, что из первых, просто до монастыря еще не дозрел, это было бы красиво и возвышенно, но не могу.
– Так вас, стало быть, не проймешь? – уточнила Урсула и, вдруг встав на месте, сделала два шага назад.
Курт остановился тоже, медленно развернувшись к ней, и та отступила еще на шаг.
– Куда мы идем? – спросила она тихо и, не услышав ответа, повторила сухо и жестко: – Куда мы идем и о чем вы хотели говорить, когда позвали меня сюда?
– Об истине, – не пытаясь приблизиться, отозвался Курт ровно. – О душе. Ты, помнится, сказала, что не видишь в подобных разговорах ничего странного.
– Почему здесь?
– А почему нет?
– Действительно, – кивнула Урсула, чуть опустив голову, глубоко вздохнула и медленно сжала кулаки.
Все произошло в какой-то миг, а быть может, и меньше. Это было похоже на то, как когда-то он видел вблизи вспышку молнии – вот что-то случилось за долю мгновения, и вот уже все кончилось, а память, мысль все еще торопливо рисует картину того, что уже миновало, подсказывая ошалевшему разуму, что он пропустил.
Образ женщины напротив содрогнулся, будто прежде он видел ее под ровной гладью воды, и вдруг кто-то бросил незримый камень, и волны скорыми кругами устремились прочь.
Воздух вокруг низко зазвенел, будто став вдруг не невесомым и бесплотным, а тугим, упругим, как растянутая membrana огромной литавры.
Урсула распрямилась, вскинув голову, разжав пальцы, стиснутые в кулаки, и точно бы оттолкнула нечто вперед, от себя, к человеку напротив.
И вот тогда пришли они – боль и темнота. В глазах полыхнуло мраком, сокрывшим собою фигуру женщины, небо, лес вдали и весь мир, и тело огненной резью скрутило от макушки до ног, словно кто-то стиснул его в кулаке и попытался выжать, как перезрелое яблоко, вывернуть наизнанку, исказить. Дыхание остановилось – разом, как влетевшая в стену телега, спущенная с холма.
Он, кажется, попытался вскинуть руки. Но где его руки – Курт не понимал и не чувствовал, как не понимал и не знал, цело ли еще его тело или разум витает уже сам по себе, над ним, разорванным в клочья…
Руки…
Рука. Запястье правой руки – вот что еще подсказала память. Когда поколебался в глазах образ колдуньи, когда удар ее лишь начал набирать силу – тогда что-то вспыхнуло там, словно пламя, но это пламя – не обожгло, не ошпарило болью, а будто бы облекло тело плотным покровом, панцирем, броней…
Она, кажется, что-то сказала или крикнула. А может, это просто громовой набат и звон в ушах перекатился волной.
В груди сжалось сердце, как смятый ладонью бумажный лист, через долю мгновения заколотившись бешено и неистово, во тьме перед взором зажглись разноцветные мелкие звезды, мир вокруг отступил за пределы этой тьмы, пытаясь уйти дальше и дальше, выталкивая застывший человеческий разум прочь, в небытие. Набат и звон слились в единый гул, оглушающий и тяжелый, в голове что-то взорвалось, и мир сгинул.
Мира не было, кажется, вечность. Была пустота, беспросветная, непроницаемая… И это было почти прекрасно. В этой пустоте было легко и беззаботно, в этом упоительном безмыслии можно было просто быть, ни о чем не тревожась…
Без-мыслие… Без мыслей. Мысли. Тревоги. Что это значит? Откуда это?..
Мысли…
Мысли всколыхнули пелену мрака, обратив его сумраком, уже не таким плотным, уже рассеянным и сквозистым, как дым, и в блаженство небытия снова ворвалась боль.
Боль в груди – первое, что пришло вместе с реальностью. Давящая, пульсирующая, будто огромный камень сжимался и снова вспухал там, за ребрами. Плечи… У этого тела есть плечи, и они болят. Есть спина, и в нее отдается резкая и жгучая, как молния, боль. Есть руки, есть ноги, есть внутренности, и все это ноет, ломит, трещит по швам, как старый мешок…
«Хорошо. Больно – значит, живой. Не спать, курсант!»…
Это откуда?..
Что-то из прошлого… У этого тела было прошлое?..
«Продышался, Гессе? Отлично. Встать и бегом!»…
Да ты издеваешься, Альфред…
Альфред?.. Гессе?.. Кто это?..
«Что это было?» – «Четки отца Юргена»…
«Они намолены, аж светятся. Ты их получил от того, кто их носил не ради красоты… Предсмертное благословение против предсмертного проклятья. Поглядишь, что будет сильней»…
Рука, правая рука… Броня, облекшая тело…
Тело лежит на земле, на удивление спокойно сообщил выглянувший из блаженной пустоты рассудок. У тела оказались глаза (тоже болят, услужливо подсказало оно), а перед глазами – высокое небо, ясное, неизмеримо высокое, с тихо ползущими по нему редкими облаками. Так тихо, спокойно и торжественно… Точно похоронная процессия, заметил до боли знакомый голос в мыслях, и если ты не пошевелишься, Гессе, это будут твои похороны, встать!
Гессе.
Точно. Гессе – это он. Это его тело лежит на земле. Курт Гессе, инквизитор первого ранга, агент Совета Конгрегации.
В голове тоже взорвалась вспышка боли, и всё вдруг встало на место.
Небо – это небо над Грайерцем. Грайерц, лес, Предел, Урсула…
Курт тяжело выдохнул сквозь зубы, снова вдохнул и услышал свой хрип, похожий на последнюю попытку повешенного втиснуть хоть немного воздуха в пережатую веревкой глотку. Собравшись, как перед прыжком, он с усилием перевернул себя на бок, видя теперь и утоптанную дорогу перед глазами, и опрокинутый на сторону лес, и свои руки в пыльных перчатках.
Руки уперлись в землю и медленно приподняли тело над дорогой.
Так. Уже хорошо. Встать…
Колени согнулись, усадив тело, мир перед глазами закувыркался колесом, к горлу подступила тошнота, и до слуха донесся еще один хриплый вдох.
Вдох. Выдох.
Еще раз. Хорошо. Еще раз…
Колесо завращалось медленней, тише, неспешно останавливаясь и все более придавая миру то положение, что ему определил Создатель: земля внизу, небо вверху, неподвижные, незыблемые, как законы мироздания. Мир стал четче, материальней, ощутимей, и собственное тело перестало быть сплошным комком боли, теперь уже можно было разложить ее на части и понять, что руки и ноги болят чуть меньше, голова – чуть больше, но сильней всего та боль, что поселилась в груди, словно сердце разорвали надвое, а потом слепили как придется и принудили биться дальше, истекая кровью. Кровь, казалось, текла по жилам, как мёд – густая и вязкая, похожая на болотную тину.
Ноги напряглись, медленно распрямились – и колени подогнулись снова, не удержав тело, ставшее вдруг тяжелым и будто чужим. Чужим… Словно кто-то стиснул его в кулаке и попытался выжать, как перезрелое яблоко, вывернуть наизнанку, исказить…
Курт опустил взгляд на руки, лежащие на коленях, и сжал в кулаке старые деревянные четки, все так же висящие на правом запястье. Невидимая броня, отразившая основной удар колдуньи, видимо, все же не оберегла всецело – Бог знает, почему, да и не это важно сейчас. Важно встать и не дать смертному изношенному телу закончить начатое малефичкой…
– Гессе!
Значит, я сижу спиной к городу, зачем-то отметил Курт, когда фон Вегерхоф возник из-за плеча и бухнулся коленями в пыль, заглянув ему в лицо.
– Жив? Слышишь меня, видишь?
– Да.
Это короткое слово едва выбралось на поверхность из сжатой болью груди, прорвавшись сквозь горло, как сквозь тесный овраг, заросший терновником. За спиной стрига возник Мартин – запыхавшийся и встревоженный, и когда Курт поднял голову, тот вдруг отступил на полшага и побледнел.
– Так плохо? – с усилием уточнил он.
Фон Вегерхоф, помедлив, молча взял его за руку, приподнял рукав фельдрока и оттянул край перчатки. Курт опустил взгляд. Сквозь кожу руки проступали вены, вздувшиеся и узловатые, как у глубокого старика, но не синеватые, а темно-серые, будто заполненные грязью или разбавленными чернилами. Стало быть, лицо должно глядеться и того краше…
– Ох Матерь Божья!
Бенедикт фон Нойбауэр и четверо его бойцов застыли рядом, глядя на майстера инквизитора с изумлением, опаской, сомнением… Но не со страхом. Хорошо. Молодцы. Не напрасно едят хлеб на конгрегатской службе…
Мартин бросил взгляд на четки, зажатые в его пальцах, и убрал ладонь с рукояти меча.
– Все-таки Урсула? – спросил он, приблизившись и присев рядом на корточки, Курт кивнул и застонал от нового всплеска тошноты.
– Мне надо к отцу Конраду, – сквозь зубы выдавил он, переведя дыхание.
– Мне все-таки кажется, что отходную планировать рановато, – заметил стриг напряженно, и он повторил, с трудом проталкивая слова сквозь боль в горле:
– Срочно. Причастие. Урсула… Она не бьет, она изменяет.
– Понял, – кивнул стриг; подставив плечо, фон Вегерхоф закинул руку Курта себе на шею и осторожно встал, подняв его на ноги.
– Господин фон Нойбауэр, – позвал Мартин, подхватив его с другой стороны. – Вы и ваши люди – в лагерь паломников. Женщина по имени Урсула – опасная малефичка, не пытайтесь задержать. Если она все еще там, что вряд ли, и если будет возможность – стреляйте издали, желательно в голову. Одного из ваших – за подмогой, пусть уходят солдаты из оцепления, в нем уже нет смысла. Окружить лагерь. Все его обитатели – предварительно обвиняются в ереси и соучастии в покушении на инквизитора. Все лишены права покидать лагерь. Без веских поводов силу не применять, но спуску не давать. Ждать дальнейших указаний.
– Да, майстер Бекер, – откликнулся рыцарь, молча кивнул одному из своих людей, и тот, отозвавшись таким же молчаливым кивком, бегом припустил к лесу.
– Дай-ка, – отодвинув Мартина в сторону, велел стриг, перехватил у него Курта и двинулся к Грайерцу. – Но будет быстрее, если я тебя донесу.
– Чтоб потом местные рассказывали, – с усилием возразил он, – как хлипкий мальчишка-помощник нес великовозрастного инквизитора на руках, точно девчонку?
– Ты вот-вот отдашь Богу душу, не время для конспирации.
– Я сдохну, и мне будет все равно, а вам тут еще работать. Просто не дай мне упасть. Я дойду.
– Уж будь любезен, – раздраженно пробормотал фон Вегерхоф, торопливо шагая и стараясь не столько вести его, сколько почти нести, удерживая одной рукой. – Иначе наплюю на все и закину на плечо, как куль.
Курт не ответил – тупая боль в груди вдруг вспыхнула резью, в голове на миг снова потемнело, ноги подогнулись, он споткнулся и не упал лишь потому, что повис на стриге, едва не потеряв сознание.
– Non, non, non, enfoire![101]101
Нет, нет, нет, сволочь! (фр.).
[Закрыть] – зло прикрикнул тот, подхватив его второй рукой и ускорив шаг. – Quel tas de merde![102]102
Ну что за дерьмо! (фр.).
[Закрыть] Не вздумай кончиться на этой дороге, Гессе!
– В порядке, – хрипло возразил он, пытаясь переставлять ноги вслепую, и стриг отозвался нечленораздельным шипением, в котором Курт разобрал лишь «merde[103]103
Дерьмо (фр.).
[Закрыть]» и «fils de pute[104]104
Сукин сын (фр.).
[Закрыть]».
– Сделаем так, – решительно произнес Мартин. – От меня все равно никакого толку, посему я бегу в церковь и беру святого отца за шиворот. Пусть хватает дорожный набор и идет вам навстречу. Сэкономит какие-то минуты, но уж хоть что-то.
– Полный набор, extrema unctio[105]105
«Последнее помазание» (лат.) – Елеосвящение, таинство, в средневековой западной традиции совершаемое над умирающим. Совершается одним или несколькими священниками и состоит из молитв над больным и помазания его лба и ладоней освященным маслом. Во время помазания обязательно произносится формула: «Через это святое помазание по благостному милосердию Своему да поможет тебе Господь по благодати Святого Духа. Аминь. И, избавив тебя от грехов, да спасет тебя и милостиво облегчит твои страдания. Аминь». Вслед за ним обычно преподается причастие, называемое «viaticum», последним напутствием.
[Закрыть], – добавил Курт, с трудом шевеля онемевшими губами. – Ибо как знать.
– Cours[106]106
Беги (фр.).
[Закрыть], – коротко бросил фон Вегерхоф, тоже ускорив шаг, и зло повторил: – Не вздумай, Гессе.
Он не ответил – на слова сил не оставалось, последних резервов организма хватало лишь на то, чтобы двигать ногами, уже почти не чувствуя ни их, ни подпирающего плеча стрига, зато четко ощущалась вновь надвигающаяся темнота, мягкая, убаюкивающая… В ней была тишина. Покой. Безмятежность. Темнота обнимала кротко и бережно, заглушая боль в теле и скачущие мысли, заграждая собою мир со всей его скорбью, заботами и тревогами…
– Не спать!
Курт вздрогнул и разлепил глаза, рывком вскинув голову, и сквозь вспыхнувшие от боли звезды попытался обернуться на голос наставника, которого быть здесь не могло и не должно было. Темнота рухнула обрубленным занавесом, вновь явив мир, солнце, небо, дорогу под ногами… В паре сотен шагов виделись холм и дома Грайерца, хотя прошло, казалось, лишь два-три мгновения с того момента, как он позволил себе закрыть глаза, и до того, как голос Хауэра выдернул его из небытия. Впереди, уже хорошо различимые на серой ленте дороги, спешили навстречу двое – Мартин и долговязый тощий человек в мешком висящем на нем одеянии священника и с дорожной сумкой.
– Еще полдюжины шагов, – мягко, словно ребенку, сказал фон Вегерхоф. – Не спи, ради всего святого, и держись за эту сторону бытия, Гессе, если надо – зубами, я знаю, ты умеешь. Мой лимит на мертвых напарников на эту половину века исчерпан, и лично я настроен отравлять себе жизнь твоим обществом еще хотя бы лет двадцать.
– А довольно живописное местечко для могилы, должен сказать, – тяжело ворочая языком, отозвался он и, видя, что буквально бегущий отец Конрад почти рядом, повелел: – Давай на обочину.





![Книга Культурный эксперимент [=Бог Курт] автора Альберто Моравиа](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-kulturnyy-eksperiment-bog-kurt-252893.jpg)