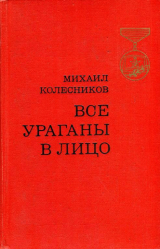
Текст книги "Все ураганы в лицо"
Автор книги: Михаил Колесников
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 35 страниц)
Фрунзе почувствовал слабость в ногах и головокружение. Мерзкая гадина!.. Им овладела бессильная ярость, граничащая с безумием, и стоило больших трудов совладать с собой. В горле заклокотало, на губах появилась розовая пена.
– Ну вот, оказывается, я совершенно прав, – подытожил Синайский. – Как говорят французы, сан-дут. Без сомнения…
Уголовник Неганов, прыщеватый тип, осужденный за растление несовершеннолетней, всячески выслуживался перед начальником тюрьмы и его помощниками. Надзиратели его не любили, он знал это и все же заискивал перед каждым. Даже сами уголовные помыкали им, не считая за человека.
– Червяк ты и есть червяк, – брезгливо отмахивался от льстивых словечек Неганова Бабич. – Раздавить бы тебя, да грабки не хочется марать. Не подлизывайся ты ко мне, сука, с души воротит!
Неганов всегда старался выслуживаться. Сделавшись кладовщиком, он возгордился, решил, что наконец-то заслужил милость начальства. Однажды, протирая мокрой тряпкой пол кладовой, он обнаружил, что в одном месте доски как-то странно прогибаются, будто под ними нет опоры. Это его заинтересовало. Он просунул в щель ржавое полотно пилы и убедился, что оно уходит в пустоту. Он попытался поднять доску и поднял ее без труда. Яма! С сияющим лицом Неганов выскочил из кладовки и, увидев в мастерской начальника тюрьмы, заорал:
– Подкоп! Это я обнаружил, я, я…
Синайский, обследовав подкоп, сказал:
– Они были близки к цели. Опять Фрунзе!
Всех надзирателей сменили. Фрунзе снова заковали в кандалы. Тех, кто подозревался в организации побега, подвергли экзекуции и посадили в карцер. Ранним утром один из надзирателей, заглянув в кладовую, обнаружил труп Неганова. Никаких следов насилия экспертизой установлено не было.
В тот же день и в другом месте произошло еще одно событие, не имеющее никакого отношения к делам Владимирского централа: в Киеве эсером Богровым был убит Столыпин.
Главное тюремное управление переслало на имя министра внутренних дел прошение от родственников Фрунзе. Оказывается, у Фрунзе обострился туберкулезный процесс. Требуется перевод на юг. Министр задумался, потом написал на прошении: «Николаевский централ».
ТЮРЕМНАЯ НИЦЦА
Из всех тюрем России самой страшной считалась «Николаевская могила» – так называли каторжане Николаевский централ. Каждый год здесь умирало не меньше сотни заключенных.
Тюрьма стояла на излучине, при впадении Ингула в Южный Буг. Во время половодья она оказывалась как бы на острове. Унылые серые стены, сторожевые будки, колючая проволока. Во дворе – бедная деревянная церквушка.
На эту церквушку и обратил сразу внимание Фрунзе. Как только его определили в одиночку, он попросил надзирателя Коробку принести из тюремной библиотеки Евангелие, Библию, псалтырь, «Жития святых»… и военные уставы, если таковые окажутся.
Надзиратель был сбит с толку. От начальника тюрьмы он знал, что новенький – «очень, очень опасный»: так говорилось в характеристике, присланной сюда Синайским. И вдруг – священные книги!
– Ты что же, так твою разэдак, из длинногривых, что ли?
– Не кощунствуй, сыне, ибо у Матфея сказано: не то оскверняет человека, что входит в него, а то оскверняет человека, что выходит из него. Почаще осеняй себя крестным знамением, так как есть ты, раб божий Петр, великий грешник. Не печитесь о том, что будете есть и пить, ни о своем теле, чем будете одеты. Война грядет, сыне, губительница всего живого, и по очам твоим вижу, что ждут тебя испытания и муки великие.
– Ты что, бородатый черт, каркаешь? Вот огрею шашкой… Ты же соцьялист, сволочь, а вовсе не поп.
– Всякий нищий духом войдет в царствие мое. Слушай проповедь нагорную…
Коробка присмирел. Он был человек жестокий, но суеверный, невежественный, боялся дурного глаза. Он принес церковные книги, взяв их у пономаря, который также исполнял и должность тюремного библиотекаря, и даже раздобыл военные уставы.
Новенький словно в воду глядел: о войне стали поговаривать все чаще и чаще. Что-то заваривалось совсем неподалеку, на Балканах. Но больше всего смущали надзирателя слова новенького: «Не печитесь о том, что будете есть и пить». Что он имел в виду? Не приезд ли ревизии из главного тюремного управления? Тут рыльце у Коробки, у помощников да и у самого начальника тюрьмы подпоручика Колченко было в пуху.
Колченко происходил из семьи лавочника. Торгашеская закваска бурлила в нем с самого детства. Немалых средств стоило родителю вывести Колченко «в люди». И теперь, сделавшись начальником каторжной тюрьмы, он решил вернуть родителю долг. Да и самому хотелось пожить на широкую ногу. Отец учил: «Ежели с умом подойти, то всякое дело становится прибыльным. Вот, к примеру, ты начальник каторжной тюрьмы. Сколько каторжной силы пропадает зазря. Тут же – завод, фабрика!»
И Колченко превратил централ в промышленное предприятие. День и ночь работали мастерские. Каторжан заставляли трудиться по пятнадцати часов в сутки. Столярная мастерская снабжала весь город мебелью и гробами. В камеры приносили для починки мешки из-под муки. Здесь же в камерах скубили старые морские канаты на паклю. Нечем было дохнуть. Вредная пыль въедалась в легкие, в глаза. На плантациях, принадлежащих централу, выращивали помидоры, капусту, баклажаны. Но овощи шли не на стол заключенным, а на рынок. Денежки Колченко клал себе в карман. Правда, существовал дележ добычи: получали свою долю помощники, надзиратели, вся тюремная администрация.
Это была спаянная круговой порукой шайка самых бессовестных воров. Каторжанам за все работы причитались деньги, но еще ни один из них за все время не получил ни полушки.
Обуянный жадностью, Колченко пошел дальше: он посадил всех каторжан (а их насчитывалось свыше пятисот) на хлеб и на воду. В ведомостях же помечалось, что заключенные получают и щи, и мясо, и кашу. Сэкономленные таким образом суммы начальник тюрьмы опять же забирал себе, бросая подачки своим сообщникам. Тюрьма приносила ежегодно десятки тысяч рублей чистого дохода. Большую часть денег Колченко присваивал.
Он разработал целую систему подавления. За малейший протест подвергали порке, бросали в карцер. Пороли и уголовных и политических. На прогулке, которая длилась всего двадцать минут, шагали по кругу, разговаривать категорически запрещалось. Уголовные и политические помещались в одной камере, куда обязательно подсаживался шпион из уголовных. Среди ночи в камеры врывались надзиратели, раздевали всех догола и производили обыски. Централ был крепостью на замке. Если в тюремную администрацию случайно попадал совестливый человек, пытавшийся протестовать против произвола над заключенными, с таким расправлялись просто: ночью ему набрасывали мешок на голову, волокли в подвал и здесь избивали до полусмерти.
Свидания с родными были запрещены. Письма тщательно просматривались самим Колченко. Ни один вздох замученного каторжанина не мог вылететь за пределы стен централа.
Прибыль, прибыль, прибыль… Колченко решил экономить на гробах. Тело каторжанина, умершего от туберкулеза, зашивали в рогожу и тайно закапывали. В кругу знакомых, таких же тюремщиков или лабазников, Колченко хвастал:
– Из моей тюрьмы еще никто живым не выходил. Раз ты враг престола, то и подыхай, как собака. А то на-придумывали там в главном тюремном управлении разные правила…
Опытным взглядом Фрунзе сразу оценил, что тут творится. Если вначале он наметил бежать, то потом, поразмыслив, решил сперва помочь политкаторжанам, с которыми быстро перезнакомился. Все жаловались на невыносимые условия. Одни предлагали убить начальника тюрьмы и его клеврета Коробку («Гоголевскую Коробочку», как называли здесь надзирателя), другие собирались объявить голодовку, хотя и знали, что Колченко только обрадуется: все будет покрыто, а экономия немалая!
– Мы должны снять с должности начальника тюрьмы! – сказал Фрунзе.
Послышались смешки. Никто даже не мыслил ни о чем подобном. Снять… Попробуй сними!..
Но у Фрунзе, оказывается, был разработан подробный план.
– Колченко – вор и окружил себя ворами. Это не администрация, а шайка отпетых бандитов. Мы произведем ревизию, подсчитаем доходы, составим акт, все его подпишем и направим в главное тюремное управление. Там сидят тоже казнокрады, и они не потерпят, что какой-то несчастный подпоручик утаивает от них тысячи. Волчьи законы всюду одинаковы. Они его разденут донага, разжалуют и отправят на каторгу.
– А как переправить акт на волю?
– Есть у кого-нибудь надежные знакомые в городе?
– Есть. Тут много николаевских социал-демократов.
– В таком случае все упрощается. Остальное я беру на себя.
У Фрунзе всякому серьезному делу всегда предшествовала кропотливая теоретическая подготовка. На этот раз она носила несколько странный характер для агитатора-большевика: он засел за церковные книги. Кое-что он уже знал от Прозорова, который хоть и не верил в бога, но в детстве часто бывал в церкви, помогал отцу-священнику. Основательно проштудировав священное писание, Фрунзе решил, что пора приступать к делу.
– Мы организуем хор, будем распевать псалмы в церкви, – сказал он товарищам.
– Черт с ними, пусть дерут глотки! – согласился начальник тюрьмы. – В случае, если нагрянет какая-нибудь комиссия, покажем, что даже политических мы заставили петь хвалу господу богу. Регентом назначаю пономаря.
Пономарь Рафаил, он же тюремный библиотекарь, скучал без дела и был обрадован, когда узнал, что ему поручено руководить хором. Этот пономарь обладал сильным голосом и мечтал со временем стать дьяконом. Рафаил был натурой артистической и любил поражать всех мощью своего голоса. Когда своды церквушки содрогнулись от его бархатистого баса, Фрунзе воскликнул:
– Нечто подобное я слышал в Казанском соборе. Но отцу Сергию все же далеко до вас: он ревет, как белуга.
О, человеческое тщеславие, сосуд скудельный!.. Широкое лицо Рафаила расплылось в улыбке.
– Уж не вы ли запрашиваете из библиотеки священные книги? – спросил он, вперяя свои круглые навыкате глаза в лицо Фрунзе.
– Да, отче.
– Откуда в вас тяга к слову божьему?
– Долго рассказывать. Был я семинаристом, мечтал стать военным священником, так как дух у меня беспокойный. И не теряю надежды вернуться в лоно свое.
– А как на каторгу угодил?
– Участвовал в шествии народа к Зимнему дворцу…
Рафаил подал знак замолчать. Больше он ни о чем не расспрашивал. Он вообразил, что политкаторжанин как-то причастен к делу попа Гапона. Этого провокатора в рясе служители провинциальной церкви считали чуть ли не великомучеником, пострадавшим за народ. С тех пор пономарь стал поглядывать на Фрунзе с симпатией, иногда заговорщически подмигивал ему. Регента поразило хорошее знание молодым человеком истории музыки. Он, например, рассуждал так:
– Бетховен замыслил симфонию, своего рода «Herr Gott, dich loben wir, Halleluja», аллилуйю… Но телесные страдания сломили его. Кстати, знаете, что говорил один из приятелей Бетховена? Он говорил: «Слова закованы в кандалы, но, к счастью, звуки еще свободны». Мы и этого не можем сказать. А что писал Бетховен? «Благотворить, где только можешь, превыше всего любить свободу и даже у монаршего престола от истины не отрекаться».
Рассуждал о Гайдне, о Моцарте, о Бахе, о Россини. И все, о чем он рассказывал, было откровением для регента. Высокие слова зачаровывали, приводили в смятение. В них были независимая сила, намек на какую-то иную жизнь, без тюремных стен, без часовых, без грубых окриков и побоев. Рафаилу казалось, что в бедную церквушку залетел поверженный светлый дух, величавый в своих страданиях.
Фрунзе обладал приятным тенором лирического тембра и вообще был музыкально одаренным. Знал, что такое фуга и контрапункт. Жалел, что в церкви нельзя играть на гитаре. И вообще создавалось впечатление, что пение, музыка – его сфера. Он показал себя и как великолепный организатор хорового пения. Откуда только у него что бралось? Регент удивлялся и пророчил ему будущность.
– С вашим слухом, голосом… Очарователь вы и есть очарователь! В консерваторию вам нужно. Когда поднимаете «многокрылатые архистратиги», меня аж слеза прошибает.
Фрунзе охотно вызвался переписать псалмы для всего хора. Ему нужна была чистая бумага, и он ее получил в неограниченном количестве. Здесь же, в церкви, он писал акт обследования Николаевского каторжного централа. Он произвел скрупулезные расчеты, перечислил все хищения, все злоупотребления. И выходило, что за восемь лет Колченко ограбил казну чуть ли не на три миллиона. Когда акт подписали все политкаторжане, Фрунзе сказал пономарю:
– Умру я скоро, отче. Увы мне, сыра земля возьми мя к себе… пошто не послушал матери своей! Организм мой ослаблен до крайности, чахотка съела плоть мою.
– На то воля божья.
– Смиряюсь. Ибо сказано: аз воздам. Об одном жалею: не получит от меня последней весточки девица Ефросинья Талызина, проживающая ныне в Петербурге, с которой мы обручены. Сочиняю я посмертное письмо, но слова любви своей не хочу доверять тюремной почте, так как все просматривается людьми низкими, циничными. И оттого скорбь моя велика.
– Принесите письмо и тайно передайте мне.
– Оно при мне. Будете в городе, вручите его по указанному адресу. А там перешлют куда надо.
Пономарь сунул толстый конверт в Библию. Он сразу догадался, что никакой Ефросиньи Талызиной в природе не существует и в конверте, увы, вовсе не любовное послание, а что-нибудь посерьезнее. Да и политкаторжанин не был похож на умирающего. Правда, он покашливал. Но тут все кашляют от пыли.
Рафаилом овладел бес искушения. Оставшись один, он воровато вскрыл конверт и при свете лампад и свечей углубился в чтение. Вскоре он ощутил дрожь во всем теле. Заговор против начальника тюрьмы! Подписались все политкаторжане. Лучше бы уж он не распечатывал этого письма… Но все, что в нем перечислялось, было истинной правдой. Только Рафаилу от всех благ за все годы не перепало ни росинки. Его-то и в расчет не принимали. Пономарь наподобие шута.
«А вот возьму и выдам всех их, окаянных безбожников социалистов! Бог простит», – думал пономарь. Его после этого наверняка сделают дьяконом. И не здесь, а в настоящей церкви. Он-то не сомневался, что бог простит наверняка. Раз он прощает Колченко и надзирателям все бесчинства… Но простят ли три сотни политкаторжан, подписавшиеся под актом? Кто-нибудь из них рано или поздно выйдет на волю, разыщет пономаря хоть на краю света и отомстит за предательство. А если взять да уничтожить письмо?.. Не было его – и все! Но у них, по всей видимости, все же есть связь с городом, и очень скоро они узнают, что письмо не передано. Тогда Рафаила придушат прямо в церкви. Опять же за предательство… А этот, отрастивший бородку, чтобы походить на мученика, вкрался незаметно, опутал, вражий дух. Рассказывал про великих столичных и московских певцов. Уста слаще меда… Можно подумать, что он облазил все сорок сороков московских. Если ему верить, знает всех дьяконов и протодьяконов наперечет. А как он, змий лукавый, разглагольствовал о владимирской богоматери, о Дмитриевском соборе, о святом Христофоре, который, боясь соблазна, умолил бога заменить ему его прекрасное лицо собачьей мордой. Да он просто потешался надо мной, глядя на мою бульдожью физиономию, ввергни душу его в геенский огонь! А сейчас, поди, сидит в кругу своих каторжных да про социализм рассказывает… Обвел, обвел… Меня удушат, а письмо новое накатают. Да и с чего это я должен страдать за изверга Колченко? Пропади он совсем! Чем скорее уберут этого хапугу, тем лучше. Небось пономаря и за человека-то не считает, антихрист… Все равно ведь при выходе из тюрьмы не осматривают…
При очередной спевке Фрунзе спросил:
– Передали письмо, отче?
– Вот расписка, – хмуро отвечал пономарь. – Да только я вам больше не слуга.
– Прочитали, значит. Тем лучше. Вы слуга господа бога и благое дело совершили. Ведь все равно вам от Колченко ничего не перепадает. Помогли бы нам бежать отсюда. Замучил проклятый. У нас матери, сестры. Бог зачтет вам.
– А если Колченко прознает, он из меня душу вытряхнет.
– Я вас обучу конспирации. В жизни пригодится. Да вам и делать ничего не надо. Будете связным между нами и городом. Они сами все подготовят. Поможете?
– Не искушай. Я человек бедный и держусь за свое место. Вы слишком многого хотите от бога.
– Жаль. Ну и на том спасибо. Век не забудем.
Больше всех Михаилом Фрунзе восхищался надзиратель Коробка. Норму по скублению канатов заключенный выполнял, мешки латал искусно. И всегда на коленях у него «Жития святых». Рассказывает – заслушаешься. Певческий хор организовал. Как-то надзиратель похвалил заключенного перед начальником тюрьмы. Тот даже подскочил на стуле.
– Ну и болван же ты, Коробка! Да его два раза к смертной казни приговаривали. Он вот-вот убежит, а ты уши развесил. Значит, он хор придумал? Хор разогнать, всех перешерстить, Фрунзе перевести в общую камеру. Политические его старостой выбрали. Церковные книги ко мне! Они их используют как тайный шифр. Я думал, что ты его уже уморил, а ты с ним полгода цацкаешься…
Коробка места не находил себе от злости. Он стал врываться во все камеры и загонять бывших «певчих» в карцер. Фрунзе он сам спустил с лестницы ударом ноги в спину. С этого дня для Фрунзе начались сплошные мучения. Коробка заставлял его возить по двору бочку с водой или приказывал тащить на пятый этаж кипу полотна весом в шесть пудов и обратно – с пятого этажа вниз. В своем досмотре Коробка был неутомим. Низкорослый, толстенький, с вдавленным посередине носом, он прыгал возле Фрунзе, беспрестанно на него покрикивая, сучил руками.
В конце концов Фрунзе надорвался и упал. Напрасно надзиратель пинал его ногами, Фрунзе не поднялся.
– Переведи его на плантацию, – приказал Колченко. – Пусть глаза подлечит. Комиссия скачет из Петербурга. А такому рот не зажмешь: он, брат, две смерти пережил.
Комиссии наезжали и раньше. И всякий раз все было шито-крыто. Колченко готовил пир для членов комиссии. Ему казалось, что едет очередная ревизия. Ревизоров бояться нечего: им всегда можно подбросить тысчонку-другую. На то и ревизоры, чтобы приезжать с шумом, а уезжать ниже травы, тише воды. Всех и все купить можно.
У Фрунзе гноились глаза. Пыль разъедала веки, вот уже несколько месяцев изнуряло слезотечение. Книги, разумеется, пришлось отложить надолго.
На огороде он таскал воду, полол, окучивал. Работа изнуряла. Но свежий воздух делал свое дело: глаза подживали.
И снова мысль о свободе захватила его. Семь лет тюремной жизни… Они вычеркнуты для борьбы, прошли впустую. Сколько можно было бы сделать за семь лет!.. А конца и не видно. Теплый ветер, голубое небо. Чайки, залетающие сюда, должно быть, с моря. Моря не видно. Оно далеко. Но оно есть… О море он навсегда сохранил нежное и грустное воспоминание.
Теперь сами пришли строки, и они были не только тоской по морю:
Свобода, свобода! Одно только слово,
Но как оно душу и тело живит!
Ведь там человеком стану я снова,
Снова мой челн по волнам побежит.
Станет он реять и гордо и смело,
Птицей носиться по бурным волнам.
Быть может, погибнет? Какое мне дело —
Смерти ль бояться отважным пловцам!
И он снова как бы перенесся в атмосферу петербургских салонов и литературных обществ. Возможно, литературные снобы и не приняли бы его простого стихотворения, потому что свобода для них не такое живое понятие, как для него. Да и что они могут знать о свободе? Эти строчки мог бы понять Павел Гусев, который все еще томится во Владимирском каторжном централе. Крик о свободе не обязательно облекать в красивые, утонченные слова. Это крик – и только. Крик души. В тюремной камере и отчаяние, и страдание, и невыносимые муки, и ненависть к врагам, упорство воли облечены в плоть. Они конкретны, неметафоричны.
Не было еще дня, когда бы не приходила мысль о побеге. Исподволь изучал он расположение постов, вышек, пытался заговорить с конвоирами. Но они оставались неприступными. Он был для них лишь каторжным.
Когда глаза перестали гноиться, его снова засадили в камеру. Потом все пришло в движение. Надзиратели вдруг подобрели. Появилась горячая пища, стали выдавать камсу. Оказывается, приехала высокая комиссия из главного тюремного управления. Так как под актом фамилия Фрунзе стояла первой, то ревизоры и решили начать с него.
Колченко вертелся волчком, оправдывался. Он в присутствии членов комиссии пытался накричать на Фрунзе, даже стал угрожать. Но Фрунзе держал себя независимо. Если Колченко уцелеет, то он, не задумываясь о последствиях, постарается физически расправиться со своими обличителями. Поэтому он не должен уцелеть. Гадину нужно раздавить руками хищников более крупного масштаба, которые хотят вытрясти любой ценой тысячи из кармана зарвавшегося начальника тюрьмы. Внешне Фрунзе был бесстрастен. Жесткое, угловатое, замкнутое лицо. Ровный голос, скупые жесты. Он приводил факты, сухие цифры, будто читал экономическую сводку. И эта холодная монотонность производила впечатление. Если бы комиссия работала здесь месяц, и то не смогла бы обнаружить столько финансовых злоупотреблений. Логика Фрунзе была неотразимой. Шел смертельный поединок. Случись, Колченко сумеет подкупить членов комиссии – Фрунзе убьют. Если не сумеет… Добыча была слишком велика, чтобы при разборе жалобы члены комиссии могли оставаться объективными. Председатель намекал Колченко, в иносказательной форме пытался торговаться с ним. Все понимали: подобного случая может не представиться больше никогда. Разделить все поровну – и делу конец. Заключенных можно обвинить в злокозненности, да им и жаловаться некуда. Но Колченко оказался сыном своего отца. Он понял, что его хотят ограбить. Как он ненавидел их всех! Ну а что касается Фрунзе, то его ненавидел до исступленности, поклялся отомстить.
Ах, почему он не обратил должного внимания на характеристику, присланную из Владимирского централа! Нужно было не выпускать «очень, очень опасного» из одиночки и там тихо прикончить…
– Не присваивал я денег! Все клевета… – твердил Колченко. – Все подтвердят.
Но те, кому еще совсем недавно он бросал подачки, поняли, что дни Колченко сочтены. Надзиратель Коробка первый выступил против него, Боясь потерять место, он изобличал начальника тюрьмы с жаром, с вдохновением, и даже выражение тупости в глазах исчезло. Может быть, он несколько перестарался. Члены комиссии все еще надеялись выжать из Колченко что-нибудь для себя лично, но в конце концов вынуждены были отправить его под конвоем в Петербург как уголовного преступника.
Начальником тюрьмы стал Заваришин. Коробка ходил гоголем. Его оставили в покое.
– Так вот на что ты намекал… – напустился он было на Фрунзе. Но тот смерил его суровым взглядом.
– Больше никого не «тыкать», а то выгоним!
И Коробка смирился навсегда. Он даже стал заискивать перед Фрунзе, стараясь подыскать ему работенку полегче.
– Я вам для глазок капли принесу. Как там у Матфея? Хи-хи-хи…
Теперь, когда Колченко сместили, а новый начальник тюрьмы, считая, что своим назначением в какой-то мере обязан политическим, ослабил режим, Фрунзе мог подумать о себе.
В мастерской он считался лучшим столяром. Иногда ему поручали и слесарные работы. Он научился чинить самовары, делать ведра и кастрюли. Заваришин заставил его проверить сигнализацию.
– Сигнализация в исправности, но водопровод никуда не годится, – сказал Фрунзе. – Я мог бы взяться за это дело. Конечно, потребуется помощник.
– Вот и хорошо. Помогать станет грузин Вано.
Вано умел понимать все с полуслова. У него были сильные руки. Лучшего помощника и не нужно.
Сперва они обследовали всю дренажную систему централа, и тут Фрунзе сделал открытие. Собственно, он еще до обследования знал, что открытие будет. Он искал и нашел. Сперва он задался вопросом: куда уходят сточные воды? Площадка тюремного двора шла под уклон к южной стене. Даже в самые сильные дожди вода во дворе не застаивалась. Куда деваются кухонные отбросы? Значит, все это должно идти самотеком по какой-нибудь хорошо скрытой трубе или канаве, которая имеет выход там, за тюремной стеной.
Вано пока не догадывался, чего они ищут. Но когда Фрунзе стал простукивать землю, припадать ухом к земле и делать знаки, чтобы помощник ничему не удивлялся, Вано понял. Теперь и он стал выстукивать и прислушиваться.
И им повезло: они смогли «прощупать» сточную канаву, прикрытую толстыми плитами, засыпанными сверху землей. Конвоир ничего предосудительного в их действиях не находил, так как не знал о сточной канаве. Ему казалось, что они ремонтируют водопровод. Да и вообще, конвоир присутствовал больше для порядка. Как могли убежать заключенные, если их окружали высокие каменные стены со сторожевыми будками? Ни о каком подкопе нечего было и думать. Вода окружала тюрьму с трех сторон. Обычно конвоир, разморенный весенним солнцем, стоял, прислонившись к дереву, и откровенно зевал. Монотонная песенка Вано нагоняла на него сонную одурь.
Они установили, что канава, по-видимому, имеет сток в Ингулец, в плавни, подступающие чуть ли не к тюремной стене. Тут в большом количестве имелись так называемые «коблы», плавучие островки из корневищ тростника. При побеге они могли сослужить свою службу. И очень важно было установить, не закрывается ли канава решеткой. Если бы сдвинуть одну из плит и бросить во время дождя в канаву, скажем, пустую запечатанную бутылку или доску, то человек, дежурящий на лодке в плавнях, мог бы заметить эту доску; конечно, в том случае, если решетка отсутствует. В плавнях, как удалось выяснить, целыми днями шныряют плоскодонки окрестных жителей, так что лишняя лодка не привлечет внимания часовых на вышках.
Фрунзе еще весной наладил хорошую связь с большевиками Николаева. Они соглашались организовать побег. Вскоре они сообщили, что в плавнях выловили тот самый горбыль, какой Вано бросил в канаву, приподняв одну из плит. Значит, решетки нет! Можно бежать…
Теперь в плавнях с утра до вечера должна была дежурить лодка с одеждой и документами для Фрунзе и Вано.
– Хлебать помои нам не привыкать, – сказал Фрунзе своему помощнику. – Авось не захлебнемся. Если доска прошла, то и мы пройдем – не толще…
Одну из плит сдвинули в сторону, отверстие замаскировали досками и прошлогодним бурьяном. Тут же лежал линек, сделанный из старого морского каната. По сигналу Фрунзе Вано должен напасть на конвоира, повалить его на землю, заткнуть рот ветошью, связать по рукам и ногам линьком. А сами – в сточную канаву!.. Проскочить под тюремной стеной и не выплывать на поверхность как можно дольше, устремляясь под водой к плавням…
Все должно занять не больше четверти часа.
Ремонт водопровода подходил к концу. Фрунзе предложил сменить еще кое-какие трубы, но начальник тюрьмы не согласился.
– Очень дорого.
Он был скуповат.
– Как знаете. Может быть, вы и правы. Работы осталось на день-два.
– Действуйте!
…Они уводили конвоира все дальше и дальше в глубь сада, туда, почти к самой стене, к замаскированному отверстию. Они нервничали. Ведь от свободы их отделяло всего несколько шагов. В плавнях ждет надежный человек. И если потребуется отстреливаться, они будут отстреливаться. Очень жарко. Конвоир обливается потом. Он, конечно же, постарается залезть в тень. Тут его и хватай!.. Только бы не увязнуть в грязи на дне сточной канавы… Разумеется, будет чудом, если их не заметят с вышек, когда они станут барахтаться в воде уже по ту сторону ограды. Через несколько минут поднимется стрельба, забегают солдаты и надзиратели. Оцепят район, вызовут подмогу. Каждый полицейский, каждый жандарм в Николаеве станет охотиться за двумя беглыми… Но товарищи на воле все продумали, все учли.
Игра идет как по нотам. Конвоир забрался в тень. Он ничего не видит, ничего не соображает. Его запросто можно взять голыми руками. Он и пикнуть не успеет. Вано наклонился, напружинился. Ждет сигнала. Как только часовой на вышке отвернется…
Пора!..
– Куда вы запропастились? А я вас ищу, ищу!
Надзиратель Коробка! Вано разогнулся, намотал на кулак веревку. Играют бугры на скулах, брови сдвинуты в гневную складку. Можно скрутить и этого!..
– Что случилось?
– Амнистия вам обоим вышла, вот что! По случаю трехсотлетия царского дома. Живо в контору!
Фрунзе и Вано переглянулись. Запоздай Коробка хотя бы на минуту… Что было бы через минуту?..
– Парадокс, Вано, парадокс…
В канцелярии им сказали:
– Не амнистия, а замена каторги вечной ссылкой в Сибирь.
А Фрунзе подумал: «Ничто не вечно под луной». И сразу же стал строить планы побега из Сибири.
Все тюремные годы он переписывался с «двумя Павлами» – с Павлом Гусевым и Павлом Батуриным, называя их в письмах «братьями», так как переписываться можно было только с ближайшими родственниками. Батурин по-прежнему находился в Москве, вел партийную работу. Он был привязан к Фрунзе, присылал ему пространные послания, где в иносказательной форме сообщал обо всем, что делается на воле. Без поддержки этого человека каторга показалась бы Михаилу в два раза тяжелей. Он написал в Москву:
«Сейчас все время ощущаю в себе прилив энергии… Итак, скоро буду в Сибири. Там, по всей вероятности, ждать долго не буду… Не можете ли позондировать… не могу ли я рассчитывать на поддержку… в случае отъезда из Сибири. Нужен будет паспорт и некоторая сумма денег… Ах, боже мой! Знаете, у меня есть старуха мать, которая ждет не дождется меня, есть брат и три сестры, которые мое предстоящее освобождение тоже связывают с целым рядом проектов, а я… А я, кажется, всех их обману».
Батурин ответил, что рад будет приютить у себя «брата Арсения».
Когда он очутился в камере Владимирского централа, ему не было и двадцати трех, теперь шел тридцатый год.








