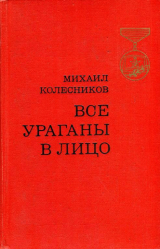
Текст книги "Все ураганы в лицо"
Автор книги: Михаил Колесников
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 35 страниц)
– Не стреляйте! Пожалейте детей!..
Это кричала обезумевшая от страха хозяйка квартиры. Дети проснулись, вскочили с постели и стояли, уставившись широко открытыми глазами на полицейских. И если стрелять… то ведь все может случиться…
Скрипнув зубами, он швырнул револьверы на землю…
В полицейском управлении его провели к исправнику Лаврову. Несмотря на то что шел пятый час, исправник был на ногах и при полном параде. Он ждал. Ждал и теперь не верил, что опасный агитатор у него в руках. Не сделал ни одного выстрела, хотя мог бы перестрелять полицейских, как зайцев. Арестованный вел себя независимо, с исключительным хладнокровием – и это вселило в душу исправника глубокое сомнение: возможно, схватили вовсе не Арсения? В облике Арсения не было ничего устрашающего: обыкновенный парень среднего роста. Лицо спокойное. Да и сам он весь какой-то спокойный, невызывающий.
– Значит, вы и есть Арсений? – спросил исправник неуверенным голосом. – Мы располагаем вашей фотографией. Похож!
Обычно в таких случаях арестованные начинают отпираться. На столе у исправника лежала брошюра, изданная, как удалось выяснить, заграничным союзом русских социал-демократов, «Как держать себя на допросах» – советы молодым революционерам. Лавров предполагал, что арестованный и поведет себя так, как рекомендует брошюра. Но вышло все по-другому.
– Вот что, исправник, – сказал Арсений, – хватит валять дурака. Вы прекрасно знаете, кто я, и также знаете, что на ваши вопросы отвечать не буду, меня никто не арестовывал, считайте, что я сам пришел сюда. Пришел предупредить вас: прекратите ночные налеты на квартиры рабочих, прекратите избиения ни в чем ни повинных рабочих, оставьте в покое агитаторов, увольте урядника Перлова. Из слов полицейских я понял, что вы только что арестовали рабочего Павла Гусева. Требую немедленно освободить его!
Лавров хмыкнул.
– И конечно, я должен немедленно освободить вас?
– Само собой разумеется.
– Я не могу выполнить ваши требования, молодой человек. Я только исполняю свой служебный долг, а в данном случае – приказ своего начальства. Гусев, или Северный, обвиняется в уголовном преступлении: в покушении на жизнь урядника Перлова. Согласитесь, что не в моей воле выпустить вас и Гусева.
– Однако вы тоже покушались на мою жизнь в прошлом году на Ильинской площади, но я не стал привлекать вас к уголовной ответственности, хотя рабочие уже давно могли бы расправиться с вами.
Лицо Лаврова сделалось злым, он хотел резким словом поставить агитатора на место, но сдержался. Он был неглупым человеком и понимал, что сейчас речь идет не конкретно об Арсении, а о тех силах, которые стоят за ним. Эти силы могут смахнуть, как пылинку, любую тюрьму, любое полицейское управление и его, исправника Лаврова. Он радовался, что агитатор наконец-то у него в руках, что обещание, какое он дал губернатору, выполнено и теперь наверняка его не прогонят со службы и, возможно, даже представят к награде, и в то же время страшился гнева рабочих. До сих пор он старался их не особенно-то раздражать. Во время так называемого красного террора, которым рабочие ответили на белый террор, исправник Лавров уцелел чудом, вернее, рабочие его пощадили. Но теперь он оказался между двух огней. Он-то, в отличие от губернатора, понимал, что голова Арсения стоит вовсе не пять тысяч, а гораздо больше, намного больше. И это, самое грозное, скоро начнется: остановятся все фабрики Шуи, а потом фабрики Иваново-Вознесенска и других городов. И чем все может кончиться – не знает никто.
Исправник Лавров был не стар и не молод – сорокот. Худощав, поджар. Глаза зоркие, внимательные, живущие всегда своей особой жизнью: такие глаза бывают у людей с раздвоенной душой. В мерзком Шуйском уезде ему всегда приходится лавировать между начальством и рабочими. Но если уж рабочие объявляют забастовку, то начальство отыгрывается в первую очередь на исправнике. Жертва по призванию…
Лавров закурил папиросу, сделал несколько торопливых затяжек, потом спросил:
– Ну-с, так чем вы нам угрожаете, если ваши требования не будут удовлетворены?
– Остановятся все фабрики Шуи. Сюда придут рабочие и освободят меня и Гусева.
– Я так и предполагал. И знаете, какие принял меры? Доложил о вашем аресте губернатору, затребовал из Владимира две роты гренадерского полка и казачью сотню из Коврова. Губернатор их уже выслал. Все местные воинские подразделения приведены в боевую готовность, полицейские будут сдерживать напор толпы до последнего патрона. Как видите, я все предусмотрел. И вы, вожак рабочих, конечно же, не позволите, чтобы из-за вас пролилась кровь невинных людей. Маленький психологический расчет.
Фрунзе впервые с уважением взглянул на исправника. Этот полицейский был не так прост, как могло показаться с первого раза. Он в самом деле все учел.
– Для меня самое важное сейчас, – продолжал Лавров, – поскорее избавиться от вас, переправить во Владимир. А там уж пусть занимаются вами жандармы и губернатор.
– Спасибо за откровенность.
– Кажется, вы правы, молодой человек: уже начинается! Ах, молодой человек, не посетуйте: я вынужден буду применить оружие… Другого выхода нет.
Было пять часов утра. К полицейскому управлению бежали люди. Вскоре десятитысячная толпа запрудила площадь перед полицейским управлением. Надрывались фабричные гудки, оповещая о тревоге. Подходили все новые и новые отряды дружинников. Появились гимназисты. Гул нарастал.
А Фрунзе казалось, что его поднимает огромная волна. Он слышал крики, слышал свое имя. Рабочие требовали освободить его и Гусева немедленно, грозились разнести полицейское управление.
Исправник как-то сразу утратил свой бравый вид. Посеревшее лицо было покрыто по́том. Но он еще держался. Отдал распоряжение приготовить оружие к бою.
– Уведите арестованного! – приказал он уряднику Перлову. – Впрочем, отставить. Пусть будет здесь. Если рабочие прорвутся, я сам его пристрелю.
– Не глупите, исправник! Можете пристрелить меня хоть сейчас. Смерти я не боюсь. Но вам выгоднее сговориться с рабочими. Впустите их – и дело с концом. Вас мало, а за бессмысленную стрельбу в народ придется отвечать по всей строгости. И не перед начальством и не перед судом. А перед ними!.. Пятый год забыли?..
Исправник заколебался. Он взвешивал все «за» и «против». Наконец сказал:
– Если вы сейчас же не утихомирите рабочих, я прикажу стрелять! И дело вовсе не в моей жестокости, молодой человек: я имею приказ губернатора стрелять. Вот телеграмма из Владимира…
Да, это была телеграмма за подписью губернатора: если рабочие попытаются освободить агитатора, открывать огонь без промедления.

Михаил Фрунзе считал себя физиономистом. Его интересовали рты: он был уверен, что не глаза, а рот всегда открывает подлинную сущность человека. Рот у исправника был сухой, твердый. Выражение рта не обещало ничего хорошего. Такой, как Лавров, в решительные минуты способен на все. А сейчас – у него приказ губернатора…
Исправник знал, с кем имеет дело, и бил наверняка. Если уж Арсений не стал стрелять в полицейских, опасаясь, как бы не задеть хозяйских ребятишек, то расстрела рабочих он не допустит и подавно. И расчет Лаврова оказался правильным. Сам того не подозревая, исправник выдал тайну губернатора, жандармов, Столыпина. Фрунзе умел читать между строк, чего не умел Лавров. Фрунзе понял одно: ни губернатор, ни тем более какой-то исправник не отважились бы без приказа сверху угрожать демонстрантам расстрелом. Сазонов в категорической форме приказывает открыть огонь. Значит, он заручился поддержкой свыше. До последнего времени никто не осмеливался разгонять митингующих рабочих, и, если проходила стачка, полиция держалась в стороне. Даже вооруженное нападение на Лимоновскую типографию она оставила, по сути, без всяких последствий. Кто-то готовит грандиозную провокацию – вот в чем дело. Кому-то нужно, чтобы рабочие напали на полицейское управление и чтобы полицейские открыли по ним огонь. Арест агитатора – не главное; это затравка. По-видимому, Столыпин надумал раз и навсегда утихомирить Иваново-Вознесенский край, уничтожить социал-демократические комитеты, во главе которых стоят большевики.
Потому-то Сазонов действует так решительно, посылает войска для усмирения рабочих. Хотят сделать кровопускание… А он, Фрунзе, окажется якобы главным виновником, подстрекателем. Он знает, что рабочие сейчас не готовы к массовому выступлению. Знает это и Столыпин, знают жандармы.
Что получилось, когда неподготовленные рабочие поднялись толпой и пошли 9 января 1905 года за попом Гапоном к Зимнему дворцу?..
…Обледенелые деревья Александровского сада, а среди голых веток – черные силуэты детей, подстреленных казаками. Красные лужи на снегу. Фрунзе бежал тогда вместе со всеми, придерживая окровавленную руку. Пуля прошла навылет. Этой рукой, обмотанной бинтами, он писал матери:
«Милая мама. У тебя есть сын Костя, есть и дочери. Надеюсь, что они тебя не оставят, позаботятся о тебе в трудную минуту, а на мне, пожалуй, должна ты поставить крест… Потоки крови, пролитые девятого января, требуют расплаты. Жребий брошен.
Рубикон перейден, дорога определилась. Отдаю всего себя революции. Не удивляйся никаким вестям обо мне. Путь, выбранный мною, не гладкий».
И сейчас, разгадав коварный план Столыпина, Фрунзе понял, как нужно поступить. Он взял листок бумаги, карандаш и что-то написал.
– Прочтите рабочим. Передайте записку делегации. Я прошу рабочих не идти на ненужные жертвы.
Лавров, никогда не слыхавший ни о каких планах Столыпина (да его в них никто и не собирался посвящать), прямо-таки выхватил записку из рук арестованного и теперь уже с гордо поднятой головой и начальственным видом вышел на крыльцо. Как он и ожидал, рабочие согласились не нападать на полицейское управление, но потребовали, чтобы Арсения не отправляли из Шуи. Исправник заверил делегацию, что и не подумает отправлять Арсения куда бы то ни было до полного разбирательства. В Шую вызван прокурор Владимирского окружного суда, который должен прибыть только завтра, – рабочие сами могут во всем убедиться, если взглянут на телеграмму, только что полученную от прокурора. Дружинники успокоились, но с площади не разошлись. Полицейское управление оказалось оцепленным со всех сторон.
Но к Лаврову уже вернулось самообладание. Время выиграно. Подошли казаки. Он снова почувствовал себя начальником, отвечающим за порядок в уезде. Твердым шагом вернулся в комнату, где под усиленной охраной находился Фрунзе, сказал уряднику Перлову:
– Отведи арестованного в подвал да объясни ему, как нужно разговаривать с начальством полицейского управления. Следи за тем, чтобы он не приходил в себя. Эх ты, растяпа, Перлов: упустил пять тысяч!..
Губернатор Сазонов, получив среди ночи телеграмму от шуйского исправника, уже не смог сомкнуть глаз до утра. Он сразу известил Столыпина о том, что агитатор Арсений арестован и что шуйские фабрики остановились. В Шую бросил войска с категорическим приказом доставить Арсения во Владимирский каторжный централ; если рабочие окажут сопротивление – стрелять. Он предполагал, и не без оснований, что в скором времени вслед за Шуей остановятся фабрики Иваново-Вознесенска и Кохмы, а потому под утро вызвал к себе командира гренадерского Малороссийского полка. Нужно создать фронт против рабочих, перевести губернию на военное положение, осадить фабрики и не снимать осаду до тех пор, пока не будут разгромлены все большевистские комитеты. Жандармы и полиция получили разрешение министра внутренних дел арестовывать любого.
Не успокоился Сазонов и тогда, когда узнал, что Арсений и Гусев под конвоем двух рот доставлены во Владимирский централ. Их буквально силой вырвали из рук дружинников. До вооруженного столкновения, правда, не дошло, так как Арсений запретил рабочим поддаваться на провокацию. Да и что могли противопоставить дружинники вооруженным с ног до головы гренадерам? Рабочие намеревались отбить арестованных ночью, напасть на поезд. Тут-то и был их просчет: Арсения и Гусева увезли днем, под прикрытием пулеметов.
Это, разумеется, вызвало ярость десятитысячной тонны, собравшейся на Ильинской площади. Некоторые ораторы призывали к восстанию, к походу на Владимирский централ…
Через несколько дней Сазонов воочию убедился в организованности рабочих. Как он и предвидел, остановились фабрики Иваново-Вознесенска и Кохмы. Жандармы доносили, что дружинники трех городов создали единый штаб и намереваются взять штурмом Владимирский централ.
Кто-то положил на стол Сазонову газету «Владимирец». В ней была статья, посвященная Арсению: «Несомненно, Арсений был самой крупной величиной в районе, имел огромное влияние на массы рабочих, умел их организовывать». Сообщалось также, что вчера в защиту Фрунзе-Арсения и Павла Гусева выступили делегаты Государственной думы Жиделев, Серов, Вагжанов и другие. Делегаты потребовали немедленно освободить арестованных и привлечь к ответственности тех, кто истязал их. На что Столыпин якобы ответил:
– И не надейтесь!
Напуганный донесениями жандармов, губернатор решил лично проверить, как содержится Арсений, и поехал в тюрьму.
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ХОРОШЕЕ АЛИБИ
Очутившись во Владимирском централе, Фрунзе сразу убедился, что его арест не был случайностью.
Каждый день в так называемый польский подследственный корпус прибывали все новые и новые партии арестованных. Этот корпус находился на особом положении: здесь ждали своей участи политические подследственные. От общего каторжного двора он был изолирован высокой каменной оградой с электрической сигнализацией. Попасть сюда можно было лишь через массивные железные ворота.
За несколько дней число подследственных выросло до ста пятидесяти. Их стали называть арестантской ротой. Все это были старые знакомые Фрунзе: рабочие Иваново-Вознесенска, Шуи, Кохмы, Орехово-Зуева, студенты. Их напихивали в камеры по пятнадцать – двадцать человек. Они выбрали своим старостой Арсения, и начальник тюрьмы не возражал. Начальник тюрьмы вообще находился в растерянности. Губернатор и жандармы призывали его готовиться к осаде, к войне с дружинниками и в конце концов запугали до полусмерти. Собственно, польский корпус был уже взят изнутри. Подследственные распевали революционные песни, переходили из камеры в камеру, вслух читали политические прокламации, призывали к свержению самодержавия, и надзиратели ничего не могли с ними поделать. А возможно, и не хотели делать. В большинстве своем подследственные были молодые люди, едкие, насмешливые, шумные. По всякому поводу они поднимали невообразимый гвалт, и начальник тюрьмы бежал, заткнув уши. Призвать к порядку их мог только Арсений, ему они подчинялись беспрекословно. Вот почему начальник тюрьмы радовался, что среди заключенных находится столь авторитетный человек. Потому-то Фрунзе пользовался относительными вольностями. Он мог заходить в любую камеру, выслушивать каждого, обращаться от имени подследственных с претензиями к начальству. Спал же он в общей камере.
В тюрьму губернатор приехал неожиданно. Начальника на месте не оказалось. Как объяснили помощники, он только что отправился в коляске к теще, которая при смерти. Его вызвали. Сазонов знал эту тещу, богатую старуху, и в другое время мог бы чисто по-человечески понять поступок начальника тюрьмы. (Не может же тот безотлучно, наподобие каторжника, находиться в тюрьме! У него есть помощники. Кроме того, губернатор не предупредил о своем визите, решил застать, так сказать, врасплох.) Но сейчас, когда на ноги поднялся весь рабочий край, а арестантское отделение, того и гляди, разнесут… какая теща? кому она нужна?.. Дурака начальника тюрьмы нужно немедленно сместить, доложить министру.
– Проведите меня в камеру политического подследственного Арсения! – приказал он.
Впереди бежал надзиратель по политической части, загоняя арестантов в камеры. Сазонов шагал в плотном кольце помощников и надзирателей. В конце коридора во весь голос пели «Марсельезу». То был вызов, открытая манифестация. «Видно, давно их не пороли, – подумал губернатор. – Ну ничего, я сам наведу здесь порядок. А дурака начальника отстранить, отстранить…»
Загремел засов. В тесной камере на голых нарах сидело с десяток подследственных.
– Встать! – рявкнул надзиратель.
– Пусть сидят. Кто из них Арсений?
– Арсений, вас спрашивает его превосходительство губернатор!
С нар поднялся широкоплечий, среднего роста молодой человек с подстриженными ершиком волосами. Он был в белой рубахе и наброшенном на плечи сером пиджаке.
Губернатор смотрел на молодого человека с изумлением. Значит, начальник жандармского управления говорил правду… Этот безобидный на вид юноша – Арсений, опаснейший политический преступник, враг престола и правительства?
Однако чем пристальнее вглядывался губернатор в Арсения, тем яснее становилось ему, в чем сила этого юноши. Видно, Сазонову показывали старую фотографию. Нет, не таким на самом деле был Арсений. В глаза сразу бросалась крепость, скульптурность всей его фигуры, изобличающая человека с большим самообладанием, неким моральным равновесием. Великолепный мощный лоб матовой белизны. Тонкие, строгие губы с тем странным выражением, какое бывает лишь у людей целомудренно чистых и внутренне твердых. И только резко изломанная тонкая левая бровь выдавала в какой-то мере властный характер молодого человека. Такой в гневе, должно быть, страшен.
С молодыми заключенными Сазонов обычно держался отечески-покровительственного тона, журил их, призывал к благоразумию. Но сейчас под спокойно-насмешливым взглядом Арсения он не мог взять подобный тон. Журить человека, который почти три года держал всю губернию в крайнем напряжении, был вожаком сотен тысяч рабочих?! Дай волю фабрикантам, они без суда и следствия раздерут его на куски. Такой не боится ни бога, ни черта. Вон сколько в нем гордости, достоинства, самообладания!..
– Бравый молодчик! – сказал губернатор. – Сейчас же переведите его в одиночку.
Фрунзе перевели в камеру номер два. Камера – не больше квадратной сажени. К стене прибита широкая доска, на ней деревянная кружка с водой. На нарах – кусок обшитого дерюгой войлока. В углу – жестяной таз для умывания.
– Принесите стремянку!
И когда стремянку принесли, губернатор поднялся по ней к самому окну, проверил крепость двойных решеток. Фрунзе наблюдал за ним все с тем же невозмутимо спокойным видом.
– Ну-с, господин Арсений, какие у вас будут просьбы лично ко мне?
– Я хотел просить о переводе в одиночную камеру, но вы сами догадались перевести меня. Других просьб не имеется.
Сазонов нахмурился.
– Мне жаль вас, молодой человек, – сказал он негромко. – Я даже не предлагаю вам одуматься. Поздно! Только не пойму, что заставило вас вступить на гибельный путь?
И Фрунзе ответил так же негромко:
– Государственная необходимость, ваше превосходительство.
Сазонов вздрогнул. Эти слова он уже слышал в святая святых империи – в кабинете Столыпина.
На другой день, в полночь, когда коридор опустел, надзиратель Жуков вошел в камеру номер два. Фрунзе еще не спал. Надзиратель присел на край нар, закурил самокрутку.
– А вы, оказывается, человек не из простых, – сказал он. – Сам губернатор изволили ради вас прибыть. Я чуть от смеха не лопнул, когда он повис на решетках. Слышь, за вашу голову пять тысяч давали! Сам губернатор сказывал. Предупреждал, стращал.
В голубеньких с хитринкой глазах надзирателя светился восторг. Он разгладил густые усы, нависшие над бритым подбородком, протянул Фрунзе кисет. Как старосте подследственных Фрунзе часто приходилось иметь дело с Жуковым. Если поблизости было начальство, надзиратель пускал в ход свой свирепый бас, не стеснялся в выражениях. Но стоило начальству удалиться, как Жуков преображался. Угощал махоркой, потому что «политика политикой, а мужикам курить нужно», рассказывал, что делается на воле и кого из новеньких в какой корпус и в какую камеру определили. Все это он делал не из доброты сердечной. Человек он был жесткий, цепкий. В жизни руководствовался своеобразной философией: нет виновных и невинных, а есть те, кому повезло, и те, кому не повезло, а может еще повезти. Эта игра длится испокон веков. Разумный человек из всего может извлечь выгоду. Через руки Жукова проходили сотни арестантов. И всегда к его ладоням что-нибудь прилипало. Особенно щедро платили политические. За какую-нибудь писульку с воли они готовы были отдать последнее. Жуков брал беззастенчиво, раздевал, что называется, догола. Если кто начинал торговаться, с таким старался дел не иметь. Он рисковал всякий раз местом, а возможно, и свободой, а это чего-нибудь да стоит. Все надзиратели негласно взимали дань с заключенных, но Жуков «зарабатывал» свои деньги, брался за самые рискованные поручения. Он богател и наглел. Теперь он уяснил одно: подследственный из камеры номер два стоит дорого. И конечно, есть люди, которые согласятся заплатить за него сколь угодно много. Нужно только навести арестанта на мысль о побеге. Навести тонко, чтобы потом самому ставить условия. Если бы Арсений замыслил побег из общей камеры, все осложнилось бы из-за многочисленных свидетелей. А вдруг все захотят бежать?.. На такой риск надзиратель не пошел бы ни за какие деньги. Он сам не без умысла перевел Арсения именно в камеру номер два, из которой вообще-то бежать нельзя. Но если проломать стену и выбраться в соседнюю угловую камеру, скрытую от наблюдения снаружи, то уйти не составит никакого труда. Через ограду можно перелезть с помощью веревки и железной «кошки».
– А устроились вы прямо-таки по-губернаторски, – сказал Жуков со злым весельем. – Никто не надоедает, да и постороннего глаза поменьше…
Но Жуков все же плохо представлял, с кем имеет дело. За последние дни Фрунзе успел приглядеться к нему. И понял: этот человек поможет выйти на свободу! Фрунзе думал о побеге с самого первого дня пребывания в тюрьме. Во время прогулок изучал расположение корпусов, сторожевых будок, знал, где находятся мастерские, знал уязвимые места, которые стражникам никак не прикрыть огнем. Он оценил все опытным глазом.
И когда надзиратель стал говорить о том о сем, о давней мечте зажить своим хуторком, Фрунзе перебил его:
– Я в состоянии помочь вам, Иван Парамонович. Нужно только вызвать сюда моего брата Константина, он земский врач в одном из сел Казанской губернии. Доберется в два счета. Ну а потом, когда он приедет, передадите ему письмишко от меня. Там все будет оговорено, и вы получите то, что нужно.
Жуков не смешался, не растерялся.
– А чем я смогу отблагодарить вас?
– Не стоит благодарности. Вам придется впустить в мою камеру на полчаса Кокушкина и Ростопчина. Они помогут мне пробить стену и распилить решетку.
Надзиратель крякнул. Вот такого прямого разговора он все-таки не ожидал. У этого парня железная хватка.
– Так вы же не знаете, сколько я могу запросить.
– Знаю. Две тысячи.
Жуков вытаращил глаза, потом рассмеялся.
– Да откуда же вы знаете?! Я никому ни-ни… Ей-богу, две тысячи! Так я и прикидывал. Ведь поделиться кое с кем придется.
– Не сомневайтесь, Иван Парамонович.
– Задали вы мне задачу, барин. Да вы сам черт, наверное: говорит, знаю – две тысячи!.. Ну, распотешил старика. А ведь и взаправду, меньше никак нельзя. Все-таки пораскинуть мозгами нужно.
– Думайте, только не затягивайте.
– Так и быть. Семь бед – один ответ…
Теперь, когда появилась реальная надежда вырваться на волю, Фрунзе овладело нетерпение. По ночам в тревожных снах он видел себя уже на свободе, разрабатывал хитроумные планы нападения на централ, собирал свои дружины. Распахивались железные ворота и двери камер… Просыпался в ознобе, долго глядел, ничего не соображая, на окно, забранное решетками, сквозь которые лился яростный лунный свет.
С Павлом Гусевым он встречался на прогулке. Подбадривал:
– Держись, Паня, ждать осталось недолго.
Он посвятил Павла во все детали предполагаемого побега. Брат Костя знает несколько явок в Шуе, в Иваново-Вознесенске, он все устроит. Подследственные Кокушкин и Ростопчин согласились помогать.
Брат был на четыре года старше Михаила. Они вместе учились в гимназии. Потом Константин поступил на медицинский факультет Казанского университета, стал врачом. Его взяли на русско-японскую войну, отправили в Порт-Артур. Вернулся с Дальнего Востока и поселился в Петропавловском, Чистопольского уезда, Казанской губернии. Казалось бы, не так уж далеко от Иваново-Вознесенска и Шуи, но с братом за последние годы Михаил виделся всего два раза. Они были слишком разными людьми. Константин не осуждал Михаила, сочувствовал революционерам, всегда готов был выручить брата из беды, но политики сторонился. «Каждый из нас лечит общество, как умеет, – говорил он Михаилу. – Я отвечаю за мать, за сестер, за свою семью, и что будет, если я уйду в политику? У меня ты всегда найдешь безопасное пристанище. И твои товарищи тоже». Он был скромным, тихим человеком, увлеченным своим делом. Михаил ему доверял, в последнюю встречу дал несколько явок на случай, если брат захочет с ним повидаться. Конечно же, Константин все устроит. Ему легче все устроить, так как он не находится на подозрении у жандармов и полиции.
Отправив через надзирателя письмо брату, Михаил Фрунзе стал ждать его приезда. Перелезть через тюремную ограду – это еще не все. Кто-то должен стоять с коляской и одеждой по ту сторону, кто-то должен укрыть на время, достать паспорт… Побег из тюрьмы – целое искусство, еще плохо изученное, хотя вся Россия покрыта тюрьмами, казематами, каторжными централами… Каждая тюрьма имеет свои особенности, свои плохо защищенные места.
Заключенному, замыслившему побег, всегда кажется, что он самый хитрый и умный, сказало одно служебное лицо, совсем недавно прибывшее во Владимирский централ. До откомандирования во Владимир лицо значилось помощником начальника Петербургской пересыльной тюрьмы и прославилось тем, что замучило не один десяток политических. Усердие лица было замечено Столыпиным, и министр решил, что лучшего начальника для Владимирского централа трудно сыскать.
Так как этому лицу (по фамилии Гудима) суждено сыграть роковую роль в судьбе Фрунзе, разрушить все его планы, то следует рассказать о нем подробнее.
Окрыленный новым назначением, Гудима не стал откладывать свой отъезд из Петербурга. А так как Гудиму послали во Владимирский централ для наведения порядка и уничтожения «вольностей», то он и начал с наведения порядка.
Собрав помощников, он решил их просветить, передать, так сказать, опыт бывалого столичного тюремщика.
– Нет заключенного, который не мечтал бы о побеге, – изрек он. – Нет надзирателя, которого нельзя подкупить за большие деньги, ибо жадность и алчность – великая сила. Во имя денег люди могут совершать подвиги не меньшие, чем во славу родины и во имя любви. Это зарубите себе на носу. Я вижу всех вас насквозь. Если вы замечаете, что на прогулках заключенные вроде бы ради баловства сооружают пирамиду в несколько человек, то знайте, что сии акробаты замышляют побег; пирамиды всегда не ниже внешней тюремной стены. Если они, опять же как бы из-за озорства, орут песни и бьют в жестяную банку вместо барабана, то сие значит, что они хотят приучить часовых к звукам, которые возникают при лазании через стену, покрытую жестью. Понаблюдайте, чем они заняты в мастерских: они учатся связывать воображаемого часового и затыкать ему рот таким образом, чтобы он не задохнулся. Гуманность. Как видите, все их уловки давно мне известны. Самая опасная категория – политические, ибо они, не в пример уголовным, организованы, способны на самопожертвование ради общего дела, фанатичны. А теперь перейдем к конкретным примерам. Как я установил, в польском корпусе в одиночной камере номер два находится исключительно опасный государственный преступник, известный под именем Арсения, он же Михаил Васильевич Фрунзе. Изучив расположение камеры, я подивился слепоте всех вас. Какой дурак поместил его в одиночку, откуда удрать легче легкого? Стоит лишь перебраться в соседнюю камеру, предварительно подкупив надзирателя… Фрунзе ждет виселица, и неужели вы думаете, что такой человек будет сидеть сложа руки? Я воспрещаю какие бы то ни было свидания Фрунзе с родственниками. Я сам переведу его в надежную камеру. Запомните: из общей камеры бежать труднее, чем из одиночки. В общую камеру можно подсадить своего человека. Сейчас Фрунзе, кажется, на прогулке. Я хочу его видеть.
В сопровождении целой свиты новый начальник тюрьмы отправился во двор, где прогуливались арестанты.
Все сразу почувствовали твердую руку. Да и внешний вид нового начальника тюрьмы вызывал невольный трепет. Он подавлял своей внушительной комплекцией, широчайшими плечами, могучей грудью. На его бритом лице с бачками на щеках было написано высокомерие. А при звуках его раскатисто-рыкающего голоса у надзирателей захватывало дух. На нем был парадный мундир с высоким воротником, мундир с иголочки. Гудима носил белые лайковые перчатки, которые всякий раз трещали по швам, когда он пытался надеть их на руки.
В Петербургской пересыльной тюрьме Гудима привык к беспрекословному повиновению. Вот почему, очутившись во дворе, он был удивлен, что арестанты не обратили на него ровно никакого внимания. Они громко переговаривались, спорили на политические темы. Один «нахал» прошел в двух шагах от Гудимы, не повернув головы.
– Смирно! Шапки долой! – заорал Гудима во всю силу легких. Но арестанты как будто и не слышали команды. Они продолжали увлеченно спорить.
– Вы что, так вашу… оглохли?!
Заключенные рассмеялись. Один из них сказал своему соседу:
– Кузя, чего он разоряется? Он что, с глузду съехал?
Это уж было слишком. Если сейчас же не поставить их на место, то потом справиться с ними будет невозможно.
– Вызвать солдат!
Когда появились солдаты, Гудима скомандовал:
– Ружья на прицел! По бунтовщикам…
Лишь теперь заключенные поняли, что имеют дело с идиотом. Все бросились кто куда. Только Фрунзе стоял как ни в чем не бывало, засунув руки в карманы. Он смотрел поверх головы начальника тюрьмы в ясное весеннее небо.
– Что за фрукт?
– Арсений!
– А, Фрунзе из второй камеры. В него стрелять не нужно. Его повесят. Сейчас же перевести в общую камеру номер три. Кто надзирает ночью? Жуков? Жукова перевести на четвертый этаж.
От последних слов Гудимы Фрунзе помертвел. В общую камеру!.. Жукова переводят… В припадке отчаяния он готов был броситься на Гудиму, схватить его за горло. Каков мерзавец!.. Одним ударом разрушить все…
Проницательность этого тюремщика была поистине дьявольской.








