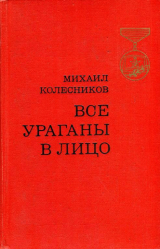
Текст книги "Все ураганы в лицо"
Автор книги: Михаил Колесников
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 35 страниц)
ЕЩЕ РАЗ «СТОЛЫПИНСКИЙ ГАЛСТУК»
Без крика, без шума Фрунзе потребовал, чтобы ему разрешили работать в столярной мастерской.
– Надеюсь, вы не будете возражать, если я стану обучаться столярному делу?
И Синайский, сам не понимая, как все случилось, уступил.
– Не возражаю!
Для заключенных Синайский был всего лишь жестоким тюремщиком, чудовищем. Фрунзе разглядел в нем тщеславного, нескромного, но не очень-то уверенного в себе психопата, обуянного манией величия. Таким человеком легко управлять, если иногда подбрасывать пищу для его мрачного тщеславия. Пища была, правда, весьма своеобразной.
– Вы – талантливый тюремщик, господин поручик, – говорил ему Фрунзе с сарказмом. – Захудалую Владимирскую тюрьму за короткий срок вы превратили в образцовую каторгу, где попираются самые элементарные права политкаторжан, где человеческое достоинство не ставится ни в грош, где каждый день сходят с ума от утонченного садизма и мрут от туберкулеза, цинги, истощения и избиений десятки людей. Удивительно, что вы до сих пор не правая рука Столыпина, ему такие палачи нужны.
– Вы еще больше оцените меня, когда я посажу вас в карцер и прикажу выпороть. Впрочем, вы рветесь в столярную мастерскую. Будете делать гробы для тех самых умирающих от чахотки. А когда придет ваш черед, я распоряжусь, чтобы сверху положили социалистические брошюры, искусно переплетенные вами в обложки «Житий святых».
Заключенным казалось, что за такую дерзость Синайский сгноит Фрунзе в карцере, однако начальник тюрьмы только зловеще щерился, но ничего не предпринимал. Среди политкаторжан в самом деле распространялись нелегальные брошюры, переплетенные в обложки с религиозными названиями. Синайский слышал об этом от доносчиков, но самые тщательные обыски не дали результатов. Откуда было ему знать, что запрещенные книги прячут сами надзиратели, разумеется, за известное вознаграждение.
Пришел надзиратель, чтобы отвести Фрунзе в столярную мастерскую.
– Иван Парамонович!
Жуков приложил палец к губам, а потом принялся яростно браниться.
– Не показывайте виду, Михаил Васильевич, что мы знаем друг друга. В столярной подойдите как бы невзначай к Прозорову. Он хочет с вами познакомиться.
Фрунзе ликовал. Все складывается как нельзя лучше. Кто такой Прозоров?
Первый, кто попался на глаза в мастерской, где работало около шестидесяти человек, был Иван Егоров.
– Значит, смертную казнь отменили?
– К счастью, да. Им не удалось доказать, что я убил директора. О вас я уже слышал и радуюсь.
– Радоваться рано. Мое дело подали на пересмотр. Кто такой Прозоров?
– Вон тот остроносый, за третьим верстаком. Моряк-балтиец. Пятнадцать лет каторжных работ. Сын здешнего попа. Я имею в виду владимирской церкви.
Чуть поодаль от верстаков сидели надзиратели. Для виду они прислушивались к разговорам заключенных, а на самом деле все они уже давно были подкуплены щедрыми подачками и, даже когда возникали острые политические споры, делали вид, что ничего не понимают.
Некоторое время Фрунзе приглядывался к Прозорову. Резко очерченный рот, глаза темные, выпуклые, в припухших веках, движения энергичные, отчетливые. Он строгал доску и был, казалось, целиком поглощен своим делом. Но иногда поднимал голову и бросал на Фрунзе быстрый взгляд. Фрунзе решительно подошел к нему, представился и добавил:
– У вас так ловко получается.
– Невеселая работа делать деревянные бушлаты для товарищей. Вы мне очень нужны, товарищ Арсений. Я как только узнал, что вы в каторжном, сразу подумал: вот кто нам поможет. У меня здесь, в городе, сестра. Если вы уговорите Жукова стать связным, она все подготовит.
– Вы имеете в виду…
– Совершенно верно. Ватага о воле думает. Согласны на все. Но мы не знаем, с чего начать, и вообще, в таких вещах у нас опыта маловато.
– Обещаю подумать. Ну а начинать, конечно, нужно так, как вы и наметили: связаться с волей.
– Возьмите все в свои руки, товарищ Арсений!
И пока Прозоров и Иван Козлов обучали Фрунзе столярному ремеслу, он обдумывал план побега. Жукова ему удалось уговорить сразу.
– На вас я, Михаил Васильевич, полагаюсь. Только по приказу Синайского при выходе из тюрьмы нас стали обыскивать. Пронюхал, шельмец.
Дня через два старый мастер Васюк сделал из темного дерева табачницу. Фрунзе объяснил Жукову, что табачница с двойным дном. Связь была налажена. Сестра Прозорова присылала письма от ивановских большевиков и даже деньги от Красного Креста.
Бежать собиралась целая группа матросов. Что им посоветовать? Они верили в изобретательный ум Фрунзе, а он дни и ночи напролет искал правильное решение. Десятки вариантов… Многие уже использованы другими, а потому не годятся. Побег – искусство, следование шаблону может привести к гибели людей. Глубокий подкоп из столярной мастерской, расположенной в подвальном помещении… Кажется, еще никто не пробовал. Но из моряков только один Прозоров допущен в мастерскую. Значит, отпадает. Чем заняты матросы? Каждый день по всем пяти этажам протирают лестницы. Они умеют драить. После уборки их загоняют в камеры и больше не выпускают. Следовательно, побег возможен только утром, во время уборки. Но как убежишь из коридора, где нет даже окон? Подкоп здесь немыслим. Нападение на стражу тоже ничего не даст. Нужна хотя бы маленькая щель, сквозь которую можно проскользнуть на волю…
Постепенно у него созрел план. План, какого еще не бывало. Никому из десятков поколений арестантов еще никогда не приходило в голову ничего подобного. Специалист по побегам сразу отметил бы оригинальность замысла… и невероятную трудность исполнения.
Но Фрунзе испытывал радость открытия. Он нашел единственный в своем роде путь на волю. Как-то он сказал Прозорову:
– Во время уборки ваши товарищи не натыкались в коридоре на какое-нибудь отверстие, забранное решеткой или затянутое сеткой?
– Да вроде бы нет.
– Такое отверстие должно быть.
– Вы уверены?
– Разумеется. Если бы не было отверстия, мы все давно задохнулись бы.
– Вентиляция?!
– Конечно.
– Как это мне раньше не приходило в голову?
– Тише. Нешаблонное решение, высказанное вслух, сразу же становится шаблонным. Вы должны отыскать вытяжное отверстие. Я твердо уверен, что через все пять этажей проходит вентиляционная труба. Необходимо выяснить, каков ее диаметр, может ли в нее протиснуться человек.
– Вот теперь все понятно. Вы, товарищ Арсений, прямо-таки гений.
– Ну, ну, заговорили от восторга в рифму. Еще не известно, каков диаметр трубы. Может быть, в нее и руки не просунешь. Те, кто строили тюрьму, все, должно быть, учитывали, даже то, что мы попытаемся выбраться на волю через вентиляционную трубу. А там кто его знает…
Примерно через неделю Прозоров доложил:
– Вы оказались совершенно правы: нашли отверстие! Знаете где? На пятом этаже, на лестничной площадке, где обычно стоят ведра, бачки, швабры. Мне остается восхищаться и удивляться: ведь тысячи людей бывали-перебывали на той площадке, и никто не догадался разогнуть спину, поднять голову. Встал я на бачок и сразу же сорвал сетку. Отверстие – человек моей комплекции (а меня, как видите, бог не обидел) запросто проходит. Сперва я даже растерялся, не поверил, что строители могли такую оплошность допустить. Нет ли, мол, тут ловушки? А когда протискался в трубу, понял, в чем дело: шахта сквозная через все пять этажей! Вертикальная, как колодец. Держаться приходится, упираясь локтями и коленями. Чуть ослабил напряжение – и камнем вниз! Темно, морозный ветер. Жуть. Руки и ноги сразу же закоченели.
– Ну и как?
– Без веревки ничего не выйдет. А где возьмешь ее, веревку такой длины? Как бы вы поступили на нашем месте?
– Вас приговорили к пятнадцати годам?
– Да.
Фрунзе выпрямился, по лицу прошла судорога.
– Вы боитесь отморозить пятки? Или боитесь ободрать локотки? Насколько я понял, мне доверили руководство побегом. Вы – исполнитель. Так вот: при первой же возможности вы опуститесь по трубе до конца, исследуете, куда она выходит. В противном случае нам не о чем больше говорить.
Прозоров вспыхнул. Он был мужественным человеком и не предполагал, что кто-то может заподозрить его в трусости. А тут ему бросали оскорбление прямо в лицо. Он ведь беспокоился не за себя, а за своих товарищей. Смогут ли они, отощавшие, изможденные, опуститься по трубе?
Но Арсений, по-видимому, знал, что делал: он должен был разрушить малейшее сомнение.
– Вот что я вам скажу, Федор Васильевич, – произнес он уже более спокойным голосом. – Я не собираюсь командовать вами. Вы хорошо знаете, что бежать с вами я не смогу: каждый мой шаг на учете, на пятый этаж мне не пробиться. Но дело даже не в этом. Я не хочу оставлять Павла Гусева, ведь нас привлекают по одному делу, скоро состоится суд. Я боюсь, что Гусев, оставшись один, растеряется и не сможет защитить себя; а ему грозит казнь. Так же, впрочем, как и мне. Но если бы не последнее обстоятельство, я сумел бы пробиться на пятый этаж. Потому что выбирать нам не из чего. Я не сомневаюсь в вашей личной храбрости. Но ваша ошибка в том, что побег вам представляется делом скоропалительным. Мол, мои товарищи ослаблены недоеданием и вряд ли смогут спуститься по трубе. Запомните: побег подготавливается кропотливо, день за днем, неделя за неделей, возможно, уйдут месяцы, а то и годы. Тут малейший недосмотр может привести к общей катастрофе. Так вот, пока побег готовится, мы сообща займемся поправкой ваших товарищей. Существует коммуна, в фонд которой вкладываются все деньги, заработанные в мастерской, и коммуна возьмет на себя это дело. Побег станем готовить не только мы с вами, а большая группа политкаторжан. Если с вентиляционной трубой ничего не выйдет, придумаем еще что-нибудь. В тюрьме нет такого человека, кто не рвался бы на волю. Но побеждает лишь тот, у кого больше выдержки.
И пока Фрунзе говорил, Прозоров становился все задумчивее и задумчивее. Он почувствовал не только твердую руку, но и ум – целенаправленный, трезво взвешивающий и учитывающий все обстоятельства.
И Прозоров подчинился беспрекословно.
Вскоре он сообщил, что ему удалось спуститься на самое дно шахты; вентиляционная труба выходила в тюремный двор и была прикрыта толстой решеткой. Он умолчал, какого труда стоило ему подняться обратно, на пятый этаж: локти и ноги были ободраны до мяса. Но Фрунзе был на редкость догадливым.
– Да, я забыл посоветовать вам обвертывать руки и ноги паклей и концами, – сказал он. – Значит, труба выходит в тюремный двор? Что ж… Диаметр двора мне давно известен: он составляет триста пятьдесят семь шагов. Вы должны пройти это расстояние под землей! Подкоп должен быть глубоким. Запомните: глубоким! По ту сторону ограды – небольшой ров.
– Но у нас нет лопат, ломиков и вообще ничего нет.
– Придется сделать из обломков железа ножи. Можно пустить в ход деревянные колья.
– И вы верите, что ножами можно резать мерзлый грунт?
– Да, верю. К тому же скоро весна. Если даже придется рыть голыми руками, вы будете рыть.
Прозоров рассмеялся.
– Святая правда. Из вас, Михаил Васильевич, вышел бы замечательный морской офицер.
– Вот уж никогда не мечтал о военной карьере. Я – агитатор и продолжаю выполнять свои партийные обязанности. В тюрьме самая благодатная аудитория для агитации: испытав на собственной шкуре все «прелести» самодержавия, крестьяне охотно верят нам на слово.
Он и в самом деле продолжал выполнять свои обязанности: создал из крестьян, работающих в мастерской, кружок политграмоты и изучал с ними «Что делать?» и «Манифест Коммунистической партии».
Вентиляционную трубу «обжили»: матросы наловчились спускаться и подниматься бесшумно; на дне шахты хранились не только ножи, скребки, деревянные колья, деревянные лопатки, обитые жестью, но и нелегальная литература.
Всегда существовала опасность, что на уборку лестниц могут нарядить других людей; вот почему моряки с особым усердием драили каждую ступеньку, сделались мирными, покладистыми. Они заслужили похвалу Синайского.
Грунт оказался мягким, даже деревянная лопата входила в него, как нож в масло. Прозоров ликовал. Он подсчитал, что при благоприятном стечении обстоятельств все можно завершить в три-четыре месяца. Фрунзе словно передал каждому из них частицу своей воли, и они не щадили себя, работали с веселым ожесточением.
А у него, кроме организации побега, были и другие заботы. Котов через надзирателя Жукова сообщил, что защитником на суде будет адвокат Якулов, сочувствующий большевикам. Свидетели оповещены и согласны дать нужные показания.
Готовилась к суду и противная сторона. Председателем суда на этот раз был утвержден опытный юрист генерал-лейтенант Кошелев. Назначая председателем человека в столь высоком звании, Главный военный суд тем самым как бы придавал особое значение предстоящему процессу.
Обвинителем решил выступить прокурор Московского окружного суда генерал-майор Домбровский, поддержанный в своем намерении главным военным прокурором, генералом от инфантерии бароном Остен-Сакеном. За этими вершителями военного правосудия стояли командующий округом, губернатор Сазонов, целый сонм высокопоставленных жандармов и сам Столыпин.
Восемь месяцев провел Фрунзе в каторжной тюрьме. 22 сентября 1910 года его повели в здание суда. Снова они сидели с Павлом Гусевым на одной скамье. Свидетели находились в отдельной комнате. В зале Фрунзе увидел сестру Людмилу и улыбнулся ей.
Собственно, этот суд мало чем отличался от двух предыдущих. Генерал-лейтенант Кошелев, представительный старик с раздвоенной седой бородой, говорил жестко, будто сыпал дробь в жестяную кружку. Какие бы доводы ни приводили защитники, в глазах Кошелева оба обвиняемых все равно были обречены на смертную казнь. Поединок в основном происходил между двумя центральными фигурами: защитником Якуловым и прокурором Домбровским. Домбровский сам вызвался на роль обвинителя и теперь всеми силами старался сбить защитника. Генерал-майор горячился, стучал костлявым кулаком по столу, его глубоко посаженные глаза метали молнии, чуб растрепался и напоминал распущенный хвост индюка. Якулов, наоборот, проявлял выдержку. Домбровский пытался построить обвинение, исходя из революционной деятельности Фрунзе. Мол, такой человек способен убить ненавистного полицейского. На что Якулов спокойно заметил:
– Господин прокурор, я не сомневаюсь в вашей нелюбви к врагам престола (как вы называете революционеров), но это еще не повод подозревать вас в том, что, основываясь лишь на своих антипатиях, вы способны осудить невинного человека на смерть только потому, что он принадлежит не к вашей партии. Суд должен быть беспристрастным. За свою политическую деятельность Фрунзе осужден на четыре года каторги. Сейчас ему предъявлено обвинение не политического, а уголовного характера. Так в чем же дело? Аттическая соль не может заменить фактов. Где факты? Где ваши свидетели? Нон бис, ин идем!.. «Не дважды за то же!..»
Вызвали Быкова.
– Я никогда не видел этих людей! Урядник Перлов снова пытался меня запугать. Если он не отвяжется, я на него в суд подам.
Якулов развел руками.
– Теперь попрошу свидетеля Иванова.
Не успел врач Иванов войти, как Домбровский крикнул:
– Укажите, кто из двоих Фрунзе?
Врач Иванов никогда не встречался с Фрунзе, но не растерялся. Близоруко щурясь, он пробормотал:
– Я привык осматривать своих больных при свете, а здесь темно.
– Подсудимый Фрунзе, встаньте и выдвиньтесь вперед, в зале темно, вас плохо видно, – сказал Якулов.
Фрунзе поднялся.
– Вы не имеете права приказывать подсудимому! – прорычал Домбровский. – Я протестую…
– А вы не имеете права заставлять близорукого свидетеля угадывать человека, которого он видел чуть ли не три года назад, – спокойно парировал Якулов. – Свидетели Михайлов, Моравицкая, Пителева подтвердили алиби, разве этого недостаточно? Ну а если бы врач Иванов за это время эмигрировал за границу или тяжело заболел?..
Домбровский был положен на обе лопатки. И как он ни ярился, ничего противопоставить Якулову не мог.
На выручку пришел генерал-лейтенант Кошелев.
Насупив седые брови, он заявил:
– Сейчас не время, господа, упражняться в красноречии. Мы судим Фрунзе и Гусева не только за покушение на убийство урядника Перлова, но за все деяния, направленные против правительства и властей. Одно вытекает из другого. Корпус дэликти налицо! Почему мы не должны верить уряднику Перлову и почему должны верить свидетелям Фрунзе? Чем вы докажете, что они – не лжесвидетели? Все они состоят на учете в охранном отделении, так как замечены в сношениях с людьми неблагонадежными, скрывающимися от полиции. Я не стану зачитывать здесь донесения агентов полиции, так как это сведения секретного характера.
– Теперь я протестую! – заявил Якулов. – Вы не вправе предъявлять какие-либо обвинения свидетелям, бросать на них тень. Если вы и располагаете донесениями агентов полиции, то чем можете подтвердить, что донесения не сфабрикованы поздним числом? В противном случае вы не стали бы публично предупреждать Иванова, Михайлова, Пителеву и Моравицкую о том, что за ними установлена слежка. Вы преподносите нам сюрприз не перед судом, а в конце суда. Ни о каких отводах я, например, не слышал.
Кошелев понял, что допустил промах. Но отступать было поздно. И так как приговор и на этот раз был предрешен, то Фрунзе и Гусева снова приговорили к смертной казни через повешение.
Выступление Фрунзе было коротким. Он держался с исключительным самообладанием. Он сказал:
– Где люди, убитые мной и Гусевым? Перлов повышен в чине и по-прежнему творит беззакония. Исправник Лавров, покушавшийся на мою жизнь, больше не исправник, его повысили в звании и в должности. Вы осудили на смерть тысячи безвинных рабочих – это и есть ваше правосудие. Но вам воздастся…
Его снова заковали в кандалы и бросили в камеру смертников.
Людмила Васильевна не стала ждать свидания с братом. Она сразу же выехала в Петербург. Здесь встретилась с профессорами Петербургского политехнического института Максимом Максимовичем Ковалевским, Байковым, Павловым, с ректором института; узнав, что писатель Короленко в Петербурге, она поехала к нему.
Все были возмущены расправой над талантливым студентом. Короленко выступил с гневной статьей в печати, требуя освобождения Фрунзе из рук палачей. Вся профессура института во главе с ректором включилась в борьбу за жизнь своего любимца; петиции были направлены не только в правительственные и военные инстанции, но и в Государственную думу. Якулов поднял на ноги всех адвокатов, и они опротестовали приговор военного суда; удалось посеять антагонизм между Судебной палатой и окружным судом. Было доказано, что генерал-лейтенант грубо нарушил Устав уголовного судопроизводства, оскорбил свидетелей, оболгав их. Приговор написан куррэнтэ калямо, то есть беглым пером. Заговорили газеты, заговорили депутаты III Государственной думы. Заговорили текстильщики Иваново-Вознесенска, Шуи, Кохмы. Снова дружинники грозились взять Владимирский централ приступом.
Перепуганный губернатор Сазонов просил у командующего округом подмоги, но командующий сам находился в растерянности, так как в последние месяцы массы московских рабочих пришли в движение, стачка следовала за стачкой, и не известно было, во что все это выльется. Ситуация очень напоминала предгрозовую ситуацию 1905 года.
Всего этого не знал Фрунзе. Он думал, что двери камеры смертников захлопнулись за ним и за Павлом Гусевым навеки. Не знал он и того, что побег моряков не удался. На подкоп потребовалось не четыре месяца, как предполагал Прозоров, а гораздо больше. До свободы оставались считанные кубометры земли. Нетерпение всех было так велико, что они забыли главный наказ Фрунзе: копайте глубже! Глубже грунт оказался твердым. Тогда решили копать там, куда легко входят ножи и лопаты. Это скольжение поверху погубило весь замысел. Побег должен был состояться утром, во время уборки. За тюремной оградой их поджидала закрытая карета. Но именно утром, за два часа до побега, произошло непоправимое: на тюремный двор въехала телега, нагруженная доверху дровами для кухни. Неожиданно грунт под колесами осел, и телега опрокинулась. Нелепая случайность!.. Явился Синайский. После обследования подземного хода картина сразу стала ясна. Подозрение, разумеется, пало на матросов. На них надели наручные кандалы и отправили в карцер. Синайский сам занялся допросом. Никто из моряков не сознался.
У поручика был нюх ищейки. Поскольку Прозоров иногда работал в мастерской, начальник тюрьмы заинтересовался, чей верстак рядом. Кто-то из надзирателей сказал, что верстак сейчас занят уголовным, так как Фрунзе приговорен к казни.
Теперь Синайскому все стало ясно. Побегом руководил Фрунзе! Да и кому другому могла взбрести в голову безумная мысль использовать для побега вентиляционную трубу? Может быть, пока Синайский допрашивает моряков, «очень, очень опасный» уже бежал из камеры смертников?
– Под усиленным конвоем перевести Фрунзе в отдельную камеру! – приказал Синайский. – Надеть на него еще ручные кандалы… Это дьявол, а не человек.
Синайский сам наблюдал, как «очень, очень опасного», закованного в ножные и ручные кандалы, переводили в одиночку.

– Может быть, вам нужны учебники английского языка? – съязвил поручик.
Фрунзе был невозмутим.
– У меня просьба другого характера.
– Просите, сегодня я добрый.
– В таком случае прикажите, чтобы мне принесли чистую простыню.
– И это все?
– Все.
– А зачем вам простынка?
– Я давно не спал на простынях. Перед смертью хочется полежать на чистой постели.
– Будет исполнено.
– Один грех с вашей души снимается.
Начальник тюрьмы был озадачен: что задумал этот дьявол? Впрочем, если простыню даже разорвать на ленты, с четвертого этажа не спустишься.
А Фрунзе, оставшись один, разорвал простыню, скрутил веревку, попробовал ее на разрыв, привязал один конец к решетке и задумался.
На какое-то мгновение пришел из детства голос матери. Мама, бедная мама… Тяньшаньские теснины, затянутые дрожащим маревом, ртутный блеск Иссык-Куля, вечерний полет орлов в пламенеющем небе… Этого уже не будет никогда! Но призраки детства растворились в других картинах: черные толпы, выходящие из ворот фабрик, красные знамена, жаркие речи, возбужденные лица, море лиц, песни, от которых звенят дома, улицы, площади…
Он жил достойно. Чувство личной ответственности за все и за всех не покидало его никогда.
Не так давно до суда он прочитал модную книжку, переведенную с французского, – «Этюды оптимизма» знаменитого ученого Ильи Мечникова, трактат о человеческой природе и о средствах изменить ее с целью достижения наибольшего счастья. Прочитав книгу, Фрунзе как бы вернулся в те времена, когда мог спорить с братом, а позже – в литературных салонах о смысле жизни, о понимании счастья. Книга захватывала, толкала на размышления, так как писал ее гениальный знаток своего дела, материалист по воззрениям. Но с автором хотелось жестоко спорить. Мечников говорит: «Чтобы понять смысл жизни, надо долго прожить; без этого находишься в положении слепорожденного, которому воспевают красоту красок». Ну а как быть Михаилу Фрунзе, которому царские палачи набросили петлю на шею в двадцать пять лет? Маститый биолог отвечает и на этот вопрос: нужно беречь свою жизнь, стараться прожить как можно дольше, отрешившись от мирового пессимизма, развивать в себе чувство жизни; молодежь должна отказаться от революционной деятельности, ибо занятие положительной наукой может принести больше пользы России, чем политическая деятельность. «Пребывание за границей, где мне пришлось стать очень близко к главным источникам политической агитации русских революционеров, еще более утвердило меня в моем убеждении… Наука – вот моя политика». Дескать, революционная деятельность отвлекает российское юношество от научной работы, и что попытки создать новый общественный строй есть «толчение на одном месте». Не «невежественная масса», не общественное мнение, а наука в состоянии обеспечить человечеству нормальный цикл жизни и высшее наслаждение – наслаждение красотой. Если бы люди жили по правилам ортобиоза, то молодые люди, достигшие двадцати одного года, не считались бы зрелыми и способными принимать участие в столь трудных делах, как общественные.
Кому нужен этот биологический оптимизм? Не перекликается ли он с пессимизмом Шопенгауэра, утверждающего, что «здоровье есть величайшее сокровище, перед которым все остальное – ничто». И так – будьте здоровы! А нам пора на виселицу. Кто из нас прав, как говорится, рассудит история. Сегодня палачи совершат то самое… Именно потому и перевели его в отдельную камеру, надели ручные кандалы, как будто мало ножных. Жалкие трусы!.. Он страшен им даже на пороге смерти, они, сами того не желая, поверили в его чудодейственную силу. И если бы он вдруг исчез из камеры, они не удивились бы. Они испытывают трепет и радость оттого, что сегодня ночью все будет закончено. Но он не доставит палачам радости. Его смерть должна испортить им праздник. Он сам ударит себя вот этой петлей, сделанной из простыни. Рано или поздно обстоятельства его смерти станут известны общественности, товарищам, и его самоубийство будет воспринято как протест против заранее состряпанного решения суда. Даже после смерти он будет обвинять, призывать к борьбе за справедливость… Прощай, жизнь!..
…Адвокат Якулов торопился. Он то и дело понукал извозчика, а когда лошаденка остановилась у ворот тюрьмы, бросил извозчику крупную ассигнацию и, отмахнувшись от сдачи, побежал в канцелярию.
– У меня срочное дело к начальнику тюрьмы. Дежурный даже ухом не повел.
– Они сплять.
– Такая чудная ночь, а они сплять?
Якулов знал, как обращаться с подобной публикой. Положил десятку на стол. Дежурный покосился, но продолжал сидеть в прежней позе. Адвокат положил еще красненькую. Дежурный зашевелился.
– Вот, бестия, если Синайский будет через десять минут здесь, получишь еще пятерку.
– Не извольте сомневаться, господин Якулов. Спешное дело?
– Это тебя не касается. Ну, звони…
Синайский явился через двадцать минут. Увидев Якулова, зевнул.
– Что вас привело сюда в столь поздний час, господин защитник угнетенных и обездоленных?
– Командующий Московским военным округом заменил Фрунзе и Гусеву смертный приговор каторгой.
– Опять Фрунзе? Ну, совершенно неистребимый. Ладно, завтра переведем в каторжное.
– Вы что-то, Синайский, совсем обленились. Не завтра, а сейчас же, немедленно! Я пойду с вами. Да шевелитесь же, увалень вы этакий! Или решили ждать, пока ивановские рабочие разнесут тюрьму? По дороге я видел большую группу людей, которая направляется сюда. Живо, живо!..
Синайский побледнел. Рабочих он побаивался, а в губернии опять стали орудовать дружинники. Он знал: Якулов слов на ветер бросать не станет. Творится что-то невероятное: два раза приговаривали Фрунзе к смерти, и оба раза словно чья-то сильная рука заставляла командующего отменять приговор. Такого еще не бывало.
Синайский не замечал, что по коридору они бегут. Распоряжался Якулов.
– Да открывайте же! – закричал он на надзирателя. И надзиратель повиновался, распахнул дверь одиночки.
– Михаил Васильевич! Жив!.. Думал, что не успею. Вместо петли еще шесть лет каторги. И того – десять. Поздравляю! Поздравляю, родней вы мой!
– А Гусев?
– То же самое.
– Вы уж извините, простынку я изорвал, – сказал Фрунзе Синайскому.
– Хотели бежать? Как?
В узких с красноватыми веками глазах поручика вспыхнуло любопытство.
– Вот этого-то я и не скажу. Распорядитесь, чтобы мне в камеру принесли мои книги. И конечно же, учебники английского языка. Как сказал принц датский на английском языке: вопрос решен в пользу пролетариата.
Очутившись в каторжном отделении, он в первый же день замыслил новый побег.
Принесли книги, разрешили вернуться в столярную мастерскую.
– Паня, Наполеон однажды сказал: «В этом мире я не боюсь некого, кроме судебного следователя, обладающего правом ареста». Вот я и думаю, что Наполеон был мужик не храброго десятка. Нас с тобой следователь не испугал, а только насмешил. Нас судили три раза и два раза набрасывали «столыпинский галстук» на шею. Но даже камеры смертников мы не испугались. Так чего еще нам бояться? Я скажу чего: они проиграли и постараются выместить на нас злобу. Они хотят уморить нас, сделать жизнь невыносимой. Нужно бежать! И немедленно, пока есть силы.
Фрунзе скрывал от товарищей, что сильно болен. Появилось кровохарканье. При малейшем физическом напряжении тело покрывалось обильным потом. Он потерял сон, аппетит, быстро утомлялся. Разболелись глаза. Занятия пришлось оставить. В столярной мастерской ему поручили править и раздавать инструмент. Целыми часами он просиживал в кладовой, закатываясь кашлем. Надзиратели не отваживались заглядывать в кладовую, так как боялись заразиться. Они-то сразу догадались, в чем дело. По сути, в кладовой он все время был предоставлен сам себе. Лучшей ситуации для побега трудно было представить.
Нужно вести глубокий подкоп! Железные инструменты под руками. Конечно, им с Павлом Гусевым вдвоем не справиться. Необходимо привлечь других каторжан. Жаль, нет Прозорова. Его в мастерскую не пускают. Зато есть Иван Егоров, есть Мицкевич, литовский большевик, есть моряк Башлыков, есть Скобейников.
И снова началась кропотливая работа. Пол в кладовой был деревянный. Так как в щели сильно дуло, то Фрунзе решил, что доски лежат на толстых бревнах. Следовательно, есть пустоты, куда можно будет укладывать вынутый грунт. Сперва нужно вырыть яму метра два глубиной, а уж потом прокладывать горизонтальный лаз. Копали урывками. Перед закрытием мастерской аккуратно укладывали доски на прежнее место. Даже самый придирчивый глаз не смог бы ничего обнаружить.
Копали месяц, копали два. Копали восемь месяцев. Пока Фрунзе с деланно веселой улыбкой раздавал рубанки и пилы, Башлыков и Егоров, прикрытые досками пола, неслышно прокладывали ход на волю.
Синайский не доверял Фрунзе, и хотя начальнику тюрьмы казалось, что из мастерской бежать невозможно, он все же стал сюда наведываться. Так, для порядка.
Эге! Фрунзе сидит в чулане без присмотра. Непорядок… Когда человек без присмотра, он все может. Синайский давно понял, что оставлять «очень, очень опасного» на одном месте долго нельзя. По отношению к Фрунзе он усвоил иронически дружеский тон. При случае любил щегольнуть французским словечком. Вот и теперь, якобы проявляя участие, он сказал:
– Мон ами, да вы сильно больны! Кожа да кости. Вам нужно в Биарриц, в Ниццу, а вы проводите дни в пыльном чулане. Нет, нет, я больше не потерплю такого нарушения медицинских правил! В Ниццу, разумеется, отпустить не могу, но появляться в мастерской запрещаю! Ваша драгоценная жизнь нужна пролетариату. Кладовщиком будет уголовный Неганов.








