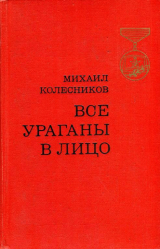
Текст книги "Все ураганы в лицо"
Автор книги: Михаил Колесников
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 35 страниц)
Когда молодые люди остались одни, репетитор расхохотался.
– Вы неподражаемы, Михаил. Я слушал и только диву давался: откуда у вас такая невероятная осведомленность? Очаровали Тита Титыча. Этот каналья сразу почувствовал в вас порох. То, чего им всем не хватает. Вы угодили в самую точку: классовый мир! Они спят и видят классовый мир. Вот теперь и я отлично понял, для чего им потребовались земские союзы. Представляю, заявляетесь вы к такому однокашнику в генеральских погонах и говорите: «Алеша, кончай войну! Твой однокашник Титуся уже нагрел руки на поставках, теперь боится, как бы и его сынков не погнали на фронт. Затеял игру в земские союзы. Не кончишь – сами кончим! Пойми, дурачок: классовый мир невозможен».
Михайлов был серьезен.
– Мне оставаться здесь больше нельзя, – сказал он. – Постарайтесь, Павел Степанович, заполучить рекомендательные письма у вашего капиталиста в полосатых брюках. Пригодятся. У меня будет предлог вырваться на передовые позиции. С «железкой» поторопитесь. С кем конкретно связан МК в комитете Западного фронта Всероссийского земского союза?
– Вам придется разыскать Любимова. Да вы его знаете так же хорошо, как и я. Наш, ивановский.
– Исидор Евстигнеевич?
– Он самый. Заведует хозяйственным отделом в земском союзе. А в общем, в Минске засилие меньшевиков, эсеров и кадетов. Бундовцев тоже хватает.
– Партийная организация создана?
– По-видимому, вам и придется заняться созданием. Рассматривайте это как задание МК. Я уже говорил с товарищами. С Третьей и Десятой армиями связи у нас нет, хотя там безусловно имеются большевики. С ними нужно связаться. Так что ваша деятельность будет проходить в прямом и переносном смысле на весьма широком фронте. Взорвать к чертовой матери эту адскую машину изнутри! Эх, махнуть бы с вами! Не отпускают.
– Имея такую крышу?.. Нет, все разумно. Вы у нас – опорный пункт. Без вашего паспорта я пропал бы ни за понюшку табаку. Трясли всю дорогу. Потому-то и махнул вместо Москвы на Петроград. Догадался, что в Москве охранка готовит мне достойную встречу. Андрей Бубнов велел вам кланяться. Он сейчас в Петрограде.
– А мы здесь переволновались. Не знали, что и подумать.
На вокзал провожать Михайлова пришли сестры Додоновы, с которыми он познакомился несколько дней назад. Аня работала в городской управе, Маша училась на Высших женских курсах. Со стороны могло показаться: вот молодой человек, по-видимому, уезжает на фронт. Одна из провожающих девиц, должно быть, сестра, другая – невеста. Несчастная молодежь… Сколько трагедий породила война! Здесь же, на перроне, оживленно переговаривались три дамы буржуазного вида.
– Кто бы говорил, дорогая, кто бы говорил: ведь она, по крайней мере, на пятнадцать лет старше своего нового шофера!
– Но ведь есть разница между мужем и шофером.
– Я очень рада, что ты осознаешь это. Конечно, есть разница. Во всяком случае, я всегда думала, что должна быть!
– О, она так безумно влюблена в него… А муж решил положить всему этому конец – и отправил бедного мальчика на войну. Коварство и любовь.
Михайлов на прощание сказал сестрам:
– Батурину, по всей видимости, выехать в Петроград не удастся. Придется вам взять все на себя. Михайловы знают меня хорошо еще по Пишпеку. Я учился с их сыном Мишей в гимназии. А здесь, вернее во Владимире, он был моим свидетелем на суде. Когда я недавно оказался в Петрограде, то сразу же пошел к ним. Они обрадовались. Они всегда меня любили. Но у них большое горе: полгода назад Миша пропал без вести. Так вот: если он не объявился, то постарайтесь уговорить стариков. Понимаю: им будет тяжело. Психологически. Но для меня другого выхода нет. Объясните им это и передайте от меня поклон.
– Мы сделаем все, что в наших силах. Ждите «железный» паспорт.
– У Мамина-Сибиряка один купец говорит: «Избавьте меня от сидонима».
Они расцеловались, как и положено близким людям. Сестры даже всплакнули.
Туманная ночь. Тускло мерцают станционные огни, как-то придавленно и угнетенно пыхтит паровоз, точно простудился, – сырость не позволяет ему мощно дышать. Звон колокола. Свисток. В вагоне тесно, душно. С верхних полок торчат ноги в военных штанах, примотанных у щиколоток тесемками. Шерстяные носки. Желто мерцает оплавленная свечка в фонаре. Михайлов притулился к чьей-то спине и постарался заснуть. Но сон не шел. На фронт! С тех пор как узнал о начале войны, тянуло на фронт. Вот так стрелка компаса: как ее ни мотай, как ни болтай, а она знай себе тянется к своему полюсу. Фронт, должно быть, и есть его полюс. Всякие соображения отступают перед страстным желанием видеть все своими глазами, самому быть там, в гуще солдатской массы. Это даже трудно объяснить на словах. Ни угроза смерти, ни бризантные снаряды, ни окопные вши – ничто не может отвратить его. Как для некоторых растений необходима строго определенная среда, чтобы они могли нормально развиваться, так и для него нужна его среда, без которой нет ни жизни, ни дыхания, ни смысла бытия, – массы. Они стимулируют его рост, каждый его шаг. Без масс он начинает увядать, чувствовать свою никчемность. Солдатские массы – все те же народные массы, двигательная сила любого общественного организма и явления, будь то государство или война.
Под мерный перестук колес он задремал, и, как в прежние юношеские времена, откуда-то издалека, из глубины веков, прорвался эпически спокойный голос:
На площадь все собралися, толпой многочисленно-шумной
Там окружил их народ. Благородные юноши к бою
Вышли из сонма его: Акроней, Окиал с Элатреем…
Поезд подолгу простаивал на каждой станции и на полустанках, так как навстречу беспрестанно шли эшелоны с беженцами и ранеными. Проносились один за другим, обгоняя пассажирский, поезда с солдатами, отправлявшимися на Западный фронт. Звенело в ушах от своеобразного длинного визга воинского поезда, несущего с собой и протяжные песни, и просто гул голосов, который слышится, когда этот поезд пролетает мимо. Теплушки так быстро мелькают, что из окна вагона еле заметны лица людей. На вокзалах беженцы, голодные дети.
На большой станции Михайлов подошел к вагону, из которого спустилось несколько раненых. Пожилой солдат с забинтованным по плечо обрубком руки глубокомысленно рассуждал о возможных последствиях войны.
– Вот, в четыре вагона набили триста человек. Даже чердачные скамьи под потолком заняты. Если уж после этой войны не полегчает нашему брату, так уж не знаю, что и думать. Хошь бы домой доехать!
– А почему должно полегчать?
– Да как же, заслуга наша большая на войне-то. Руку задарма оторвало мне? Что я без руки-то? Должна справедливость быть-то?
Другой солдат, на костылях, усмехнулся.
– Ишь чего захотел. Дурак ты, дядя, и есть дурак ветловый. Никому мы с тобой больше не нужны. Как те полтыщи, которые на станции остались. Вишь ли, вагонов не хватает. Выдали тебе фунт табаку из земского комитета – и катись к… Помнишь, что тот французик спрашивал: когда же русские начнут наступление? Для него, видать, русские только для того и существуют, чтобы оттягивать на себя немца. Я так кумекаю: тот французик даже представить себе не может, что жизнь наша хрестьянская чего-нибудь стоит. Ему бы только свой Париж спасти.
Усатый безрукий солдат разозлился и стал вовсю ругать французов и англичан.
«Да, тяжело приходится солдатикам, – подумал Михайлов. – Трудно разобраться во всем». Воспользовавшись тем, что санитары отлучились в буфет, Михайлов прошел в вагон. В вагоне двое коренастых смуглых русаков, сами опираясь на костыли, поднимали третьего на полку багажного яруса. Тяжелораненые лежали на нижних полках, с бледными бескровными лицами, впалыми щеками, страдальческими глазами, сильно сжатыми губами. Кто глухо стонет, кто дышит порывисто, с хрипом.
– У меня, братец ты мой, в деревне изба агромаднейшая, наподобие нашего блиндажа. Жена красивая, полная, трое детишек. Теперича беспременно увижу. Мне хушь бы как добраться.
– А у меня старшенькому восемь. Славнюсенький он такой, кудрявый. Лошадей-то он страх как любит. «Когда вырасту, – говорит, – купи мне лошадку, кучером хочу быть».
– Говорят, есть такой санитарный поезд императрицы Александры Федоровны самолично. Пряники там раздают.
– Есть, да не про нашу честь. В ём Распутин разъезжает.
– Один хрен. Мы откатались, и слава богу. Нам императорская доброта поперек горла. Сразу стали добренькими: «народ, ачечество», а сами в тот же народ пуляют…
На каком-то полустанке поезд стоял часа три. Михайлов прогуливался вдоль состава. Грело апрельское солнышко. Снег уже растаял, испарился. Еще одна весна! Что она принесет?
Михайлов невольно поежился: навстречу ему также неторопливо шагал генерал Милков. Когда поравнялись, генерал бросил быстрый взгляд, взял Михайлова за рукав пальто.
– В действующую? А знаете, у меня прекрасная память на лица. Вижу – знакомый!
Он помолчал, словно прислушиваясь к какому-то внутреннему голосу. Потом добавил:
– Мы с вами где-то встречались.
Михайлов медленно огляделся по сторонам. Никого! Ударить ногой в живот, а самому – под состав. За насыпью – лес… То была первая реакция. Однако спешить некуда: жандармов поблизости нет. А чтобы тебя не узнали, нужно менять не столько внешность, сколько манеру держаться, умело наводить противника на ложный след. Михайлов робко улыбнулся, как улыбается всякий маленький человек, удостоившийся внимания высокопоставленного лица.
– Не имел чести, ваше-ство, – пробормотал он невнятно.
– А скажите, любезный, не приходилось ли вам участвовать в какой-нибудь военно-судебной процедуре? Я, видите ли, в некотором роде юрист. Не адвокат ли, случаем?
На лице Михайлова отразилось недоумение.
– Я по другому ведомству. С вашего позволения, титулярный советник Михайлов.
– Весьма приятно. Меня можете величать Ильей Петровичем. Как понимаю, вольноопределяющийся?
Михайлов снова огляделся по сторонам.
– Везу частное письмо генерал-адъютанту Эверту.
Он вынул из внутреннего кармана изящный сиреневый конверт с золотым тиснением, как бы желая удостовериться, что письмо цело, разгладил его рукой и сунул обратно.
Генерал сделал понимающий вид и ни о чем больше не стал расспрашивать. Ведь главнокомандующий – тоже человек. У него могут быть амурные дела, не исключена, конечно, и переписка с деловыми кругами: все то, что нельзя доверить полевой почте.
Генерал задумался. Он изнывал от скуки. Хотелось поболтать с живой душой; так всегда случается, когда подъезжаешь к чему-то страшному: к фронту.
– В шахматы играете?
– Балуюсь.
– Не сыграть ли нам партию-другую? Как говорил Цицерон: про арис эт фоцис – за алтари и отечество.
– Если будет угодно…
– Оставьте, любезный. Я ведь совсем извелся. Не переношу дороги вообще. Ведь со мной во всем салоне – никого. Кроме двух жандармов. Унылая компания. Милости прошу.
Когда вошли в вагон-салон, жандармы поднялись. Больше в силу профессиональной привычки, чем из-за интереса, они ощупали Михайлова глазами. Он сделал вид, что просто не замечает их.
Сидели за шахматной доской. В такт покачиваниям вагона позванивала пустая бутылка из-под абрау-дюрсо. Генерал то и дело пододвигал партнеру коробку шоколадных конфет «от Крафта». Милков считался хорошим шахматистом, но противник попался сильный. Две партии он все же проиграл (то ли взаправду, то ли просто из-за любезности). Милков вошел в азарт, горячился, беспрестанно напевал приятным тенорком свою любимую арию: «Преступника ведут – кто этот осужденный?»
И все же генерал исподтишка продолжал изучать своего нового знакомого. «Старею, память начинает сдавать, – сокрушался он. – Но такое значительное лицо – одно из тысячи. Где, когда? Я еще ни разу не ошибался. Эти неторопливые жесты, ледяное спокойствие, невозмутимость. Утверждает, что из Петербурга. Вот и проверим…»
– Гм, гм. Вам, должно быть, приходится вращаться в военных кругах. А не случалось ли вам встречаться с генерал-лейтенантом Янушкевичем?
– Вы имеете в виду начальника штаба верховного главнокомандования?
– Да, да.
– Видите ли, я не так часто бываю в штабе…
– Но вы обязательно должны знать Молоствова.
– Кто не знает Молоствова! Приятнейший человек.
– А чем он сейчас занят?
– Вы лучше спросите, чем он не занят. Он прикомандирован к военному министру и пользуется правом личного доклада императрице Александре Федоровне: ведь он на свой счет оборудовал и содержит санитарный поезд, возит подарки на фронт. И еще я вам скажу: он один из лучших знатоков конского дела.
– И не мудрено: он служил в лейб-гвардии конном полку.
– Я вам скажу больше: он потомок Суворова. Да, да, графа Суворова-Рымникского, князя Италийского, знаменитого полководца. Пытается получить обратно майорат Суворова.
– Это для меня новость!
– Представьте себе. Это длинная история. Как известно, Суворов оставил одного сына, Аркадия Александровича, впоследствии командовавшего дунайской армией. Он утонул в 1811 году в Рымнике. «Рымник, ты дал славу отцу и могилу сыну», – сказал по поводу столь необычного совпадения один из современников. Так вот, внук Суворова, Александр Аркадьевич, дипломат и генерал, служил на Кавказе и в Польше, был с дипломатическими миссиями при немецких дворах, был генерал-губернатором Петербурга и до своей смерти в 1882 году состоял генерал-инспектором инфантерии.
Генерал Милков даже забыл про шахматы: ого, видно, титулярный советник – не просто титулярный советник… Осведомлен даже о том, что было в 1882 году.
– А откуда взялся в таком случае Молоствов? – спросил генерал уже из чистой любознательности, так как лично знал Молоствова.
– История еще более длинная. Ну если уж так вам хочется… Правнук великого полководца умер бездетным. Сестра его, Любовь Александровна, вышла замуж за военного агента в Вене, офицера Преображенского полка Молоствова. От этого брака родилось четыре сына, младший из которых и есть полковник Молоствов.
– М-да. Вот уж воистину сказано, что природа, израсходовав силы на предков, отдыхает на потомках. Пользуется правом личного доклада самой императрице! А за какие-такие заслуги? Один разъезжает в личных поездах, лижет государыне ручку, а другой весь век на побегушках…
– Имущественное неравенство. Впрочем, это не по моему ведомству.
– Ну, а что там в верхах толкуют насчет войны? Вы-то должны кое-что слышать. Как государь, государыня?
Милков все еще «прощупывал» нового знакомого, стараясь определить, какую же все-таки ячейку занимает он в сложном организме военной или чиновной бюрократии. Как психолог, Милков знал, что сущность человека всегда выражается в том, что он говорит и как говорит. У бедного чиновника, например, не может быть такой простоты обращения с вышестоящим по званию, какой обладает этот Михайлов. Несомненно, ему приходится все время тереться в высших сферах, где неизбежно вырабатывается критическое отношение к сколь угодно большим величинам, будь то титулованные особы или сам царь.
И собеседник, словно угадав мысли Милкова, сказал:
– Не так давно от отца Владимира (вы, должно быть, знаете его: он член Государственной думы, священник «Собственного военно-санитарного поезда императрицы Александры Федоровны», близкий друг штальмейстера двора генерала Римана) слышал я довольно-таки примечательную историю. Она должна заинтересовать и вас.
«Ну вот, все прояснилось, – подумал Милков, – мой новый знакомец – распутинец. Как это я сразу не сообразил? Нужно держать ухо востро… Такого человека недурно иметь про запас…» Генерал приказал жандарму распечатать еще одну бутылку абрау-дюрсо.
– Так что вы слышали от священника Владимира Попова?
– Ах, да… Это, собственно, предание с налетом мистицизма.
«Так и есть – курьер Гришки Распутина!»
– Да, да, я слушаю с величайшим вниманием.
– Речь идет о причинах войны. Некоторые выдвигают социальные и экономические причины. Но все дело, оказывается, в том, что над родом австрийского императора тяготеет рок.
– Любопытно! Я заинтригован до крайней степени.
– Как бы вы поступили, если бы в ваши руки, предположим, попало сокровище, оцениваемое в шесть миллионов долларов?
– Гм. Я немедленно подал бы в отставку и сделался промышленником, чтобы помножить шесть на шесть и еще на шесть. Сейчас самое время для наживы. Всякое гнилье идет за первый сорт. Война все сожрет.
– Так вот. Представьте себе джунгли Бирмы, золотые купола храма Рамы. В шестнадцатом веке один из членов фамилии Габсбургов, граф Германн, странствуя по Востоку, похитил из храма Рамы священные сокровища – бриллианты, изумруды, рубины, золотые пластины. Заклятые сокровища не принесли графу счастья. Когда он вернулся в Австрию, родственники отняли у него сокровища, а его самого заточили в темницу, где он сошел с ума. Да, сокровища были закляты жрецом храма, и всякого, кто прикасался к ним, ожидала трагическая судьба. Наконец драгоценности оказались в руках императора Австрии Франца-Иосифа. И что же происходит? В личной жизни Франц-Иосиф пережил столько трагедий, сколько редко выпадает на долю одного смертного: жена его, Елизавета Баварская, была убита, сын Рудольф покончил самоубийством, застрелив свою возлюбленную Марию Вечера. Ну а племянник императора Франц-Фердинанд, как известно, убит в Сараево, что и привело к нынешней войне.
– Ну а сокровища? Где они?
– Франц-Иосиф, желая от них избавиться, подарил все своему брату, эрцгерцогу Максимилиану, ставшему императором Мексики. Чем кончил Максимилиан, вам известно: революция в Мексике, Максимилиан был низложен и расстрелян, его жена императрица Карлотта сошла с ума. Сейчас она в Бельгии, ей восемьдесят лет.
– М-да, история впечатляет. У вас необычайно изящное мышление, Михаил Александрович. Вот я, грешным делом, за суетой забываю другой раз побывать в церкви, ибо червь неверия разъел души. Но после того, что вы рассказали, я снова чувствую себя обращенным. Ведь если вдуматься, то должно же быть нечто, определяющее ход мировых событий. Мы стали слишком рациональными и утратили символ веры. Вот уж никогда не подозревал, что заклятие какого-то босоногого бирманского жреца вовлекло весь мир в такую войну!
– Блаженны алчущие и жаждущие правды.
Время до Минска пролетело незаметно. Желая развлечь гостя, генерал пел арии. Жандармы охраняли их покой. Под конец, когда Михайлов проиграл последнюю партию, генерал сообщил доверительно:
– Вот тороплюсь. Позорные случаи братания наших солдат с австрияками. Дел предстоит немало. Главное: выявить зачинщиков.
– А как это – братание?
– Ну, выскакивают из окопов, начинают обниматься, угощать друг друга махоркой, хлебом.
– Но ведь наши не знают австрийского языка?
– А зачем им знать язык? Наш спрашивает: «Тебе не чижало?», а австриец отвечает: «Meine Mutter ist sehr, sehr alt». Вот и весь разговор. Не хотим, мол, убивать друг друга – и все тут. А офицеров – к черту! И ведь, канальи, на допросах что плетут: мол, неправильно это – убивать своих же, то есть славян. Видите ли, тут дело такое: у австрийцев в армии много чехов, поляков, болгар, которые легко и охотно сдаются в плен. А для нашего Ивана все они – и австрийцы, и чехи, и поляки – «голубые». То есть смотрят на форму. Немцы носят серую. Раз в голубом – значит, вроде бы «свой». Глупость-с. И ведь что вобьют себе в голову… Темный народ. Он о законах и юриспруденции и представления-то не имеет. «Виноват, ваше-ство, исправлюсь». – «Да как же ты, дурья голова, исправишься, если тебя в расход завтра?» – «Не могу знать». – «А если помилуют, брататься снова будешь?» – «Да я, как все». А укатаешь его в каторжную тюрьму, он только радуется. Да еще с претензиями: «Пошто Митьку не засудил? Он со мной просится. Друзьяки мы». Попробуй объясни ему, что состав преступления Митьки не установлен. Поумневший Митька в другой раз первый побежит брататься. Чтобы, значит, от фронта избавиться.
– Трудно вам приходится.
– Я люблю иметь дело с вашим братом, интеллигентом. Тут все на прочной логической основе. Кум грано салис – с крупинкой соли. А все-таки ваше лицо мне очень знакомо!
– Всякий раз слышу от людей, с которыми никогда не встречался. Сам не пойму, в чем тут дело.
– Я немного физиономист. Вы, по всей вероятности, не русский. Или кто-нибудь из предков передал вам некоторые национальные черты. Ведь всякий человек – как бы обобщенный снимок со своего народа. У одного черты проступают резко, у другого они как бы притушены. Возьмите меня к примеру. Кто-то из моих отдаленных предков был французом. Так вот, когда я в статском, меня часто принимают за артиста Буланже. Кстати, тоже тенор. У него совершенно своеобразный тембр: пожалуй, даже несколько гнусавый, но в то же время пленительный. Элегантное исполнение. «В твоей руке сверкает нож, Рогнеда!» Идеальный задира и кутила.
– Положение обязывает… Noblesse oblige.
– О, вы, оказывается, сильны в французском! Да, в вашей физиономии есть нечто романское.
Они перешли на французский. И Милков постепенно уверился, что его новый знакомый, такой скромный на вид, следует с особым поручением.
– Вам может представиться возможность отыграть партию, – сказал генерал уже весело. – При случае заглядывайте в Главный военный суд. Расстаюсь с вами с крайним сожалением.
Из вагона они вышли чуть ли не под руку. Милкова встречали представители военной прокуратуры, жандармы и целый наряд полиции.
Михайлов незаметно отстал, бросился в свой вагон, забрал чемодан и вышел на привокзальную площадь. Перевел дух. Узнал или не узнал? Или решил проследить, за чем пожаловал? Скорее всего, забыл. Но если станет перебирать все в памяти да рыться в делах, то, пожалуй, может и припомнить…
Мысли были беспокойные. Ощущение дерзкой удачи как-то прошло. Да, дорога оживленная. Здесь можно встретить многих своих прежних знакомых, с кем не хотелось бы встречаться. Не лучше ли было бы податься на Северный фронт? На Кавказском фронте – генерал Юденич. На Румынском – генерал-адъютант Щербачев. На Юго-Западном Иванова сменил, кажется, генерал-адъютант Брусилов… Нет, сейчас нужно быть здесь, на Западном фронте. Позиционная война, застой больше изматывают солдат, чем наступление. Более удачной обстановки, чем здесь, для планомерной работы трудно сыскать.
Откуда ему было знать, что именно Западному фронту в планах штаба верховного главнокомандующего отводится решающая роль и что тут, на Западном фронте, идет деятельная подготовка к наступлению, которое назначено на пятнадцатое июня.
Он без труда нашел здание, где размещался Комитет Всероссийского земского союза при Десятой армии. Сразу же направился в хозяйственный отдел. Плечистый человек в артиллерийской кожаной «шведке» сидел за большим столом, склонив над бумагами крупную голову с залысинами. Михайлов нарочито громко стукнул каблуками сапог, приложил руку к надвинутой на глаза фуражке и произнес с придыханием:
– Честь имею представиться – Михайлов. По делам комитета от московского промышленника Чернцова. Не вы ли будете Любимов? Теза!
Человек вздрогнул. Поднял голову. Потом медленно поднялся. Протер глаза.
– Черт! Сплю или взаправду? Арсений!.. Да вы ли это, Арсений?! Жив… Так вы же там…
– Жив, Исидор Евстигнеевич, жив. И не только жив, а приехал работать. Привет вам от Павла Степановича.
– Ну, сегодня я вас никуда не отпущу!
– Вот рекомендательное письмо от капиталиста Чернцова.
– Так это ж здорово! Кем хотите в комитет? Нужен военный статистик.
– Отлично. Кто есть из большевиков?
– Самая колоритная фигура – Мясников. Еще – Кривошеин, Могилевский, Фомин.
– Сведите меня с ними. Если возможно – сегодня же. Будет инициативная группа – оформим и партийный центр. С типографиями связаны?
– Слабо.
– Придется связаться. Агитационной литературы потребуется горы. Я вот кое-что привез в чемодане. Есть несколько последних статей Ильича. Содержание доклада Ленина «Война и задачи партии» мне подробно пересказали в Питере и в Москве. Какая обстановка на фронте?
– Поговаривают о наступлении.
Фрунзе оживился.
– Проверяли?
– Это очень сложно. Ведь все хранится в величайшей тайне. Но, как известно, писаря любят хвастать причастностью к большим тайнам.
– Одно ясно: терять времени нельзя. Я должен во что бы то ни стало попасть в действующую армию. Кем угодно: рядовым, офицером, вольноопределяющимся. Есть такая возможность?
– Я постараюсь, – сказал Любимов. – Тут, в Ивенце, стоит Пятьдесят седьмая артиллерийская бригада. У меня есть там кое-какие связи. Паспорт у вас «железный»?
– Пока нет. Но Батурин должен выслать «железный». Итак: инициативная группа, типография, фронт. Совещание инициативной группы откладывать не следует. Если люди проверенные и вы на них полагаетесь, то не плохо бы провести совещание сегодня.
– Сегодня?! К чему такая спешка? Вы с дороги… устали.
Фрунзе рассердился.
– Сегодня же мы соберем инициативную группу! Или вы думаете, я приехал сюда играть в бирюльки? Завтра меня, может быть, арестуют и опять отправят на каторгу. Столько времени жить в прифронтовой полосе – и без организации! Да как вам не стыдно, товарищи! Боитесь высунуться из своей земской норки. Связаны вы с рабочими, с белорусским селом?
Любимов молчал. Не обижался. Он снова почувствовал, что рядом Арсений с его удивительной способностью все наэлектризовывать вокруг, сразу же ориентироваться в незнакомой обстановке, выбирать из массы явлений самое существенное. Еще идут по следам беглого ссыльного жандармы, у него нет настоящего паспорта, а он, только что сойдя с поезда, торопится включиться самым активным образом в ход событий.
Как и ожидал Любимов, Арсений не стал задерживаться в Земском союзе. Познакомившись с Мясниковым и другими коммунистами и организационно оформив инициативную группу по созданию единого партийного центра для всего Западного фронта, Минска и прифронтовой полосы, он с ненадежными документами и состряпанной Любимовым рекомендацией отправился в Ивенец, в Пятьдесят седьмую артбригаду. Здесь его без особой волокиты зачислили охотником на правах вольноопределяющегося первого разряда, поставили на все виды довольствия.
В гимнастерке и фуражке с кокардой он стал неотличим от тысяч других людей войны. Номера помещались в палатках, офицеры – в халупах. На офицерах – кожаные шведские куртки. Спят офицеры в спальных мешках, солдаты подстилают валежник или еловые ветки.
Фельдфебель Гриценко долго не мог сообразить, куда «приткнуть» вольноопределяющегося. Охотников хватает, куда только их девать? Болтаются без дела. Выручил сам вольноопределяющийся. Он сказал:
– В военные мастерские. Я ведь к тому же – слесарь и столяр.
Фельдфебель обрадовался:
– С богом! К ефрейтору Оглезневу. Признаться, не до вас, вольных, сейчас. Запарка.
– А что?
– Да ничего. Сами увидите, чего.
Военные мастерские размещались в нескольких сараях неподалеку от полигона. Ефрейтор Оглезнев, угрюмый рыжий детина, встретил новичка сухо.
– Спим тут же, в сарае, ваше интеллигентское благородие, не знаю, как величать, – только и сказал он. И принялся орудовать напильником. Михайлов не стал расспрашивать, чем занять себя. Взял проржавленное ведро, вынес из сарая и поддел ногой. На шум выбежал Оглезнев. Он был изумлен.
– Ты что, сдурел? Табельное имущество.
Михайлов, явно подлаживаясь под ефрейтора, сердито засопел, взял лист белой жести, ножницы, молоток – и минут через двадцать подтолкнул к ногам Оглезнева новенькое ведро.
Ефрейтор ударил себя кулаком по лбу.
– Да ты никак из нашенских, дядя! Да тебе же цены нет, служба. У нас все ведра ни к черту не годятся. А котелки, к примеру, можешь?
Михайлов опять молча взял кусок жести и сделал котелок.
– Да ты что, немой? Заговори, сделай божецкую милость.
Но Михайлов упорно молчал.
– Ага, – догадался ефрейтор, – ты, наверное, дядя, сливовую пьешь? Я тут припрятал глечик. Мастерового человека сразу видно. Ну и тумак же я! А как в вольные попал?
– У меня кум генеральского звания – ради смеха выдернул мне ногу, вот я и шкандыляю.
– Да уж не один ли у нас с тобой кум? Мой, сволочь, тоже любит руку прикладывать за дело и без дела. Откуда сам-то?
– Из столицы.
– Ого! У вас там все острые на язык, не то что мы, михрютки. Поди, и сицилистов встречал?
– Всяко бывало. Ты мне, Федор Антипыч, про войну лучше расскажи.
– А что про нее, холеру, рассказывать? В зубах навязла. Второй год топчемся на месте, да теперь вроде бы начинаем подтягиваться помаленьку. Судя по всему, на Вильно пойдем.
– С чего взял?
– Да солдаты промеж себя поговаривают. Известное дело: шила в мешке не утаишь. Еще начальник бригады не знает, а солдаты знают. Очень все спешно сейчас. Еще никогда так не гоняли. Ну а про войну – наука нехитрая. На войне самое важное – уцелеть. В том смысле, ежели на тебя снаряды и бомбы сыплются. Скажем, шрапнель. Она всякая бывает: увидел розовый дымок – не бойся, австрийская; белый дымок – немецкая, катись в ровик. Малая сволочь – немецкие бризантные снаряды с дистанционными трубками рвутся в воздухе, как шрапнель, и поражают осколками. Дым сизо-желтый. Крякают у тебя эти снаряды над головой, но поражение не слишком большое. Или возьми австрийский бомбомет. Садит и садит. Он поставлен в окопе противника так, что пулей его не достанешь, только артиллерия сшибить может. Раз шесть за день по окопу крик: «Бомба!..» – и видно, как полуторапудовая хвостатая дура подымается над австрийскими окопами и летит к нам. Она подымается не спеша, и, насобачившись, можно угадать место, куда она упадет. И солдатики мечутся. Да не в горелки же играть в траншеях, и не всегда угадаешь. Как шандарахнет! Ночью солдатня спать боится, вертится у бойниц, чтобы, значит, слышать выстрел бомбомета и по слуху уловить направление полета снаряда. И всякий раз, как рая господня, ждешь, чтобы сменили, перевели в резерв. Страшнее большая сволочь – «чемоданы», когда бьют девятидюймовые немецкие орудия. Летит, вроде как бы шуршит. Тут уж нужно в блиндаж улепетывать. Девятидюймовый снаряд всех зараз порешить может. Опасайся еще немецких винтовок с оптическим прицелом. Наш наблюдатель только взглянет через узенькое окошечко стального щита – и нет наблюдателя. Вот тебе солдатская наука. Тут всякую тонкость нужно знать, хоть она и не записана ни в каком уставе. Хлоп! – пуля в лоб.
– Аэропланы видал?
– Видал. «Фарманы» и «ньюпоры» – это наши. У немцев – «фоккеры» и «таубе».
– А как же вы их сбиваете?
– Да никак. Придумали особую установку: хобот трехдюймовой опускаем в ровик, наподобие кольца, а колеса стоят на поверхности земли, на земляной тумбе с врытым посредине ее куском бревна, вокруг которого орудие можно поворачивать.
– Ну и сбили хоть одного?
– Дурость все это, вот что я скажу. Да что ты все про войну да про войну! Рассказал бы лучше, что на белом свете деется. Господа офицеры не охочи разговаривать с «серой скотинкой», да и сами, видно, ничего не знают толком. Живем, как с завязанными глазами. Все за царя да за отечество…








