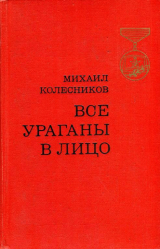
Текст книги "Все ураганы в лицо"
Автор книги: Михаил Колесников
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 35 страниц)
Генеральный штаб на деле должен стать мозгом армии, военно-теоретическим штабом пролетарского государства. Выработку единой военной доктрины, разумеется, нельзя доверить лишь узким специалистам, ибо это мировоззрение не только армии, но и всей Республики. Наряду с военными специалистами доктриной должны заниматься все политические работники, получившие достаточный опыт в деле строительства армии и в ее борьбе…
На чистом листе бумаги он вывел своим торопливым прямым почерком: «Единая военная доктрина и Красная Армия». Но больше ничего написать не успел: пришлось выехать в Москву на съезд.
Но и здесь, на съезде, он продолжал думать о единой военной доктрине. Это была та самая идея, которая в очень смутной форме приходила ему в голову еще в годы империалистической войны. И теперь, ощущая в себе еще небывалую творческую силу, он жалел, что не принялся за труд раньше, и в то же время понимал, что не было никакой возможности, да и рано было тогда обобщать.
На съезде царила атмосфера всеобщего воодушевления ленинцев. Это они выиграли гражданскую войну и спасли только что народившееся социалистическое государство! Ленин наметил смелый курс – переход от военного коммунизма к новой экономической политике.
И вот в самый разгар съезда торжественность была нарушена известием из Петрограда: контрреволюционный мятеж в Кронштадте!
Делегаты съезда выехали в Петроград для подавления мятежа.
Фрунзе сказал Ворошилову:
– От Махно уехали, к Милюкову приехали.
Разумеется, самого Милюкова в Кронштадте не было, но лозунг, который выкинули мятежники, был милюковский: «Советы без коммунистов!» Таким же лозунгом прикрывался и Махно.
– Это ведь все те же басмачи! На сей раз кронштадтские… Не привыкать громить их.
План разгрома разрабатывали втроем: Владимир Ильич, Фрунзе и Ворошилов. Помимо делегатов, в Кронштадт решено было направить лучшие части Красной Армии.
Сперва предстояло пройти по тонкому льду залива, а потом брать крепость штурмом. Тонкий, рыхлый, мартовский лед, огромные полыньи… Многим идея казалась просто неосуществимой. На это, по-видимому, и рассчитывали мятежники. Кронштадт им казался неприступным. Но после штурма Перекопа и Чонгара для Фрунзе больше не существовало неприступных крепостей. На совещании командного состава он рассказал об одном эпизоде, имевшем место несколько месяцев назад.
После того как врангелевская армия была разгромлена, 9-ю дивизию Николая Куйбышева решили перебросить на Кубань для ликвидации кулацких банд. Путь предстоял немалый: вокруг Азовского моря, через Донбасс и Ростов, железные дороги разрушены. И вот Николай Куйбышев нашел необычное решение: переправиться по тонкому, рыхлому льду Керченского пролива. Работникам штаба идея показалась безумной. Но Фрунзе, взвесив все, одобрил ее. Он верил Николаю Куйбышеву. Каждый красноармеец прихватил с собой доску. И дивизия переправилась на Таманский полуостров.
Рассказ Фрунзе подбодрил всех. Части Красной Армии по льду подошли к Кронштадту и восемнадцатого марта двадцать первого года взяли крепость штурмом. Мятеж был ликвидирован, военные делегаты вернулись в Москву на съезд.
Тезисы Фрунзе по военному вопросу были использованы при разработке постановления съезда, а самого Михаила Васильевича избрали членом ЦК партии.
И еще одна должность: его назначили уполномоченным Совета Труда и Обороны по вывозу соли из солепромышленных районов Украины. За пуд соли можно было выменять четыре пуда хлеба. Республика сидела без соли, а как знал Фрунзе, в одном Крыму, возле Сиваша и Евпатории, скопилось более двадцати пяти миллионов пудов соли. Да, на этот раз Владимир Ильич говорил с Фрунзе о соли:
– Главное – соль. Все забрать, обставить тройным кордоном войска все места добычи, ни фунта не пропускать, не давать раскрасть… Поставьте по-военному. Назначьте точно ответственных лиц за каждую операцию. Мне их список (все через Главсоль). Вы – главком соли. Вы отвечаете за все!
– Соль будет, Владимир Ильич!
Если уж Владимир Ильич вынужден заниматься солью, то это – не соль, а соляной фронт.
Вернувшись на Украину, главком соли привел все в движение: трудармейцы прокладывали железнодорожные ветки, соль грузили в вагоны, на баржи, на подводы. Но он был не только главкомом соли. Он входил в Особую комиссию по топливу и продовольствию, занимался восстановлением и электрификацией Донбасса. Его назначили ответственным за проведение продовольственных заготовок на Украине. Каждый день отправлял он эшелоны с хлебом в голодающее Поволжье.
Все дела – срочные. Сейчас нет несрочных дел. Они навалились глыбой. А Махно до сих пор гуляет по степи.
Как член правительства и командующий Фрунзе занимался хлебом, углем, солью, нарождающимися колхозами и совхозами, транспортом, кооперацией, продналогом, детскими домами, выезжал на корабли Черноморского флота и Азовской флотилии, проверял, успешно ли ведет Карбышев строительство береговых укреплений и фортов на Черном море.
На Украине было ничуть не легче, чем в Туркестане. А может быть, во много раз сложнее и труднее. Возникало такое ощущение, будто усложнилось само время, стало зрелее.
Собственно, у Михаила Васильевича было три заместителя: Авксентьевский – по общим военным вопросам, Гусев – по политической части и Роберт Эйдеман – по борьбе с бандитизмом. Эйдеман носился на автомобиле по всей Украине, стараясь напасть на след Махно. И когда объявлялась банда, Эйдеман бросал на нее кавбригаду Котовского или же истребительные отряды. С Ворошиловым и Буденным недавно расстались. Климента Ефремовича назначили командующим Северокавказским округом, Буденного – его заместителем.
Неожиданно Котовского с его бригадой пришлось послать в Тамбовскую губернию, где усилились банды Антонова. Вскоре оттуда Михаил Васильевич получил письмо: от кулацкой пули погиб комбриг Плясунков!
На лицо Фрунзе легла суровая задумчивость. В двадцать пять лет оборвалась еще одна жизнь, так нужная революции…
Он помнил их всех: Батурин, Крайнюков, Степан Михайлов, Сергей Сокол, Дмитрий Суворов, отец и сын Чековы, ткачиха Маша Рябинина, Безбородов – и еще сотни дорогих имен… Они были самыми беззаветными, самыми прекрасными. Тогда действовала жестокая необходимость, и она смягчала горечь утраты. А сейчас, после того как основное завершилось, всякая смерть кажется неоправданной.
Много полегло у стен Кронштадта. Много гибнет в схватках с махновцами, петлюровцами, антоновцами. Да, мелкобуржуазная стихия страшнее Врангеля, коварнее. Мятежи, кулацкие банды – это и есть мелкобуржуазная контрреволюция. Фрунзе подавлял мятежи в Москве, Ярославле, в Туркестане, в Кронштадте. На фоне великих сражений гражданской войны они кажутся незначительными эпизодами. И «малые войны» с бандами, конечно же, войдут в историю побед Красной Армии как малозначащие эпизоды. И очень грустно, что погиб Иван Михайлович Плясунков, любимец Чапая…
Михаил Васильевич завершал работу над статьей «Единая военная доктрина и Красная Армия». В одном из разделов статьи он упоминал о «малой войне». Пролетариату помимо больших войн с буржуазией и другими отмирающими классами приходится вести также «малые войны» с мелкобуржуазной контрреволюцией. Опыт гражданской войны в этом отношении дает богатейший материал для обобщений: действия партизан в Сибири, борьба в казачьих областях, басмачество в Туркестане, махновщина и вообще бандитизм на Украине. «Малые войны» необходимо изучать наравне с большими. Одной из задач Генерального штаба должна стать разработка идеи «малой войны» в ее применении к нашим будущим войнам с противником, технически стоящим выше нас.
Идея «малой войны», впервые сформулированная Фрунзе, заслуживала того, чтобы посвятить ей отдельную статью. Известие о смерти Плясункова послужило своеобразным толчком: Михаил Васильевич решил сам провести несколько операций по разгрому махновщины и заодно «собрать» дополнительный материал. Махно раздражал его, отвлекал от важных дел государственного масштаба. Фрунзе не учитывал простого обстоятельства: и солдат, и командующий могут погибнуть не только в великих битвах, но и в самой маленькой войне, в обыкновенной стычке. Не то чтобы он не дорожил своей жизнью – просто он никогда не думал о смерти. Жизнь всякий раз нужна была ему для какого-то конкретного дела. И каждый раз говорил себе: «Только бы довести все до конца…»
В Харьков приехал Иван Кутяков. Он сдал зачеты за первый курс военной академии Генштаба и пожелал вернуться на Украину под начало Михаила Васильевича.
– Располагайтесь в моем вагоне. Едем воевать с Махно!
Вагон был прицеплен к бронепоезду. Тот самый вагон, в котором Фрунзе проводил большую часть своей жизни, выезжая то на флот, то на границу, то в Донбасс, то в Крым. Оперативные карты, фотография Махно на столе. Кутяков пристально вглядывался в фотографию. Мягкий, почти женский овал лица, голова арбузиком, длинные волосы, зачесанные на лоб; плотный грудастый мужичок – такие здесь встречаются на каждом шагу: угадай, кто из них Махно!
А Фрунзе наблюдал за Кутяковым. Этот молодой человек чем-то напоминал ему Чапаева. В двадцать четыре года двенадцать ранений, из них несколько тяжелых, – не многовато ли?.. А энергии еще непочатый край. Чапаев прощал Кутякову то, что не простил бы никому другому, – ослушание. Была у Кутякова страсть: ходить по тылам противника. Всякий раз преподносил Василию Ивановичу сюрприз: проберется с группой конных разведчиков во вражеский тыл, расколошматит полк белых, пленных пригонит, пушки с упряжкой. Явился, мол, победителей не судят. А Чапай из себя выходит, грозится в рядовые разжаловать. Потом отойдет, похвалит за удаль, рассмеется. Иван поглядывает с завистью на чапаевскую шашку с чеканным серебряным эфесом и клинком из дамасской стали. Закрутит Василий Иванович головой: и не зарься, не дам! А шашку Иван все-таки забрал: разбил колчаковскую дивизию, почти две тысячи пленных взял, много орудий и всякого добра. Тут уж сердце Чапая оттаяло. Приказал выстроить бригаду и под оркестр вручил Кутякову шашку: а дороже подарка и не может быть… Горяч Кутяков, вспыльчив. Член реввоенсовета Аралов рассказывал: Чапаевская дивизия прибыла на Польский фронт. Ее начальник Кутяков отправился к начальнику штаба Двенадцатой армии, бывшему царскому генералу Седачеву.
– Я хотел бы знать обстановку на фронте, – сказал Кутяков. – Какова задача моей дивизии?
Седачев саркастически улыбнулся.
– Сколько вам лет, молодой человек?
– Двадцать два.
– Какой чин в старой армии?
– Унтер-офицер.
– В ваши годы и с вашим званием вам, голубчик, не дивизией, а взводом командовать нужно.
– Имею честь доложить, что с начала гражданской войны я все время бил колчаковцев и белоказаков примерно вашего возраста и вашего звания!
Седачев опешил.
Чапаевская дивизия дралась за Стоход и за Буг. Сейчас ее штаб – в городе Белая Церковь, здесь, на Украине. Кутяков был тяжело ранен в боях за укрепленную линию на реке Уборть и попал в госпиталь.
Вспомнили общих знакомых: начальника артиллерии Чапаевской дивизии Николая Хлебникова, которого Фрунзе знал еще по штабу Ярославского округа, Бубенца, Пелевина, Сучкова. Ивановец Алексей Лапин, бывший комиссар кавбригады Чапаевской, сейчас – комиссаром кавбригады у Буденного… Бубенец командует кавбригадой Червонно-казачьей дивизии, мечтает стать летчиком. Гаспар Восканов – командир корпуса…
Бронепоезду командующего давали «зеленую улицу», и все-таки поездка затянулась на целый месяц. На больших станциях Фрунзе разговаривал по прямому проводу с Эйдеманом, с командирами дивизий, с уездными председателями ГПУ. Отовсюду поступали «бандсводки». Но на след самого Махно напасть никак не удавалось. Район его действий был слишком обширен: Синельниково, Кременчуг, Конотоп, Полтава. Атаман метался из края в край, он знал, что за ним охотится сам Фрунзе, и не засиживался на одном месте.
Когда поезд прибыл на станцию Решетиловка, пришло сообщение от Эйдемана: «Махно окружен в районе Ромны». Всю ночь Михаил Васильевич не отходил от прямого провода. Никаких известий больше не поступало. Что там происходит? Удалось ли взять Махно? Почему молчит Эйдеман?
Михаил Васильевич сказал Кутякову:
– Находимся в трех шагах от Полтавы. Я ведь намеревался в Полтаве задержаться: здесь живет мой старый друг – писатель Короленко Владимир Галактионович. Давно собираюсь заглянуть к нему, да все недосуг. Сколько ему может быть лет? Когда отмечали его пятидесятилетие, я окончил гимназию…
Годы… Завтра, послезавтра обязательно нужно побывать у старика. Помнит ли он Мишу Фрунзе?.. Михаил Васильевич с печалью думал о духовной эволюции прославленного писателя. Короленко увидел те самые «огоньки» новой жизни, о которых писал когда-то: «Но все-таки… все-таки впереди – огни!» Увидел, но не разглядел, принял их за пламя всепожирающего пожара. Суровые формы революционного дела устрашили старого гуманиста-либерала. Белые предлагали ему бежать, но он отказался. С белыми ему было совсем не по дороге. Оставшись в красной Полтаве, он заявил, что «жестокости большевиков вытекают из благородных мотивов, но и из их ложного представления о власти насилия над жизнью». Бедный старик, он так ничего и не понял и сейчас, конечно, пуще всего оберегает свою «внутреннюю свободу». Он против революционного насилия – вот в чем дело, и Фрунзе для него – ярчайший представитель этого революционного насилия. В прошлом году у Владимира Галактионовича побывал Луначарский. А Фрунзе, раздираемый на части срочными делами, всякий раз вынужден откладывать встречу с писателем на завтра. Но теперь-то, когда Полтава под боком, встреча должна состояться… И может быть, удастся объяснить пророку чистой любви, что великое царство правды на земле невозможно установить без борьбы, без подавления врагов, без революции и навязанной народу белогвардейцами гражданской войны…
Эйдеман приехал на рассвете. Усталый, понурый.
– Ушел, проклятый! Переправился через Сулу – и как сквозь землю провалился.
– Что намерены делать?
– Оцепил весь район. В местечко Решетиловку, что в нескольких верстах отсюда, должен прибыть наш отряд. Еду туда!
Эйдеман уехал.
Михаил Васильевич, хоть и не сомкнул за всю ночь глаз, был возбужден, бодр. Значит, все-таки напали на след… Махно постарается прорваться в плавни – а там ищи-свищи… Забыл сказать Эйдеману: истребительный отряд лучше всего направить в Хорол…
Проверил маузер, приказал седлать лошадей.
– Едем на местечко!
Выбрались на большак. Занималось июньское утро. На востоке горела красная полоса. Светился багряным каждый цветок драпоштана. В пустой вышине звенели жаворонки, перекатывали хрустальные стаканчики.
Ехали молча: впереди – Фрунзе и Кутяков, сзади – два ординарца. Когда поднялись на бугор, увидели белые приземистые хатки местечка. Из кузни доносился звон железа, на плетнях с корчагами горланили петухи.
Внезапно – резкая пулеметная очередь, пальба из винтовок. Потом все оборвалось.
Фрунзе и Кутяков переглянулись. Они слишком долго жили в атмосфере войны, чтобы придавать значение случайным выстрелам.
– Кто стрелял? – спросил Кутяков, когда остановились у кузни.
Вышел жилистый старик, уставился на всадников единственным глазом, задумчиво разгладил нависшие белоснежные усы, показал в улыбке два длинных желтых зуба. Страха в нем не было заметно.
– Кто стрелял? Теперь трудно разобрать, кто и в кого стреляет…
Кутяков нетерпеливо махнул рукой.
– Едем!
Когда показался конный разъезд, они направились к нему, намереваясь выяснить, что тут происходит. Но разъезд скрылся за хатами.
– Увидали нас и торопятся доложить своему командиру или Эйдеману, – предположил Кутяков. Никто из четверых не подозревал, что смерть уже занесла над ними свое черное крыло.
И когда из-за поворота вышла колонна с красным знаменем, они попридержали лошадей, стали ждать. В колонне было до двухсот всадников, позади погромыхивали на неровной дороге пулеметные тачанки.
Колонна, поравнявшись с Фрунзе, остановилась. Михаил Васильевич разглядывал командиров: все трое в бурках; на двоих – кубанки, третий – без головного убора. Очень знакомое курносое лицо, длинные черные волосы чуть ли не по плечи, искривленный в злой усмешке рот. Фрунзе все еще не догадывался…
– Какая часть? – спросил он.
Человек с распущенными волосами резким движением вскинул карабин. Махно!..
– Не стреляй, это комвойск Фрунзе! – закричал в ужасе Кутяков. Но Махно, по-видимому, и сам знал, с кем свела его судьба. Полыхнул выстрел. Фрунзе покачнулся, но удержался в седле, уцепился за гриву англо-араба.
– Скачите в разные стороны! – крикнул он и дал коню шпоры. Конь поднялся на дыбы, легко перемахнул через какой-то плетень и скрылся в облаке пыли.
За Фрунзе гналось до полсотни всадников. Иногда он оборачивался и посылал пулю из маузера. Холка англо-араба была в крови. Когда раненый конь стал сдавать, Фрунзе осадил его, спрыгнул на землю и стал отстреливаться. Конь норовил подняться на дыбы, Михаилу Васильевичу стоило немалых усилий удержать поводья. Наконец англо-араб успокоился.
Махновцы почему-то тоже спешились, залегли. Может быть, они надеялись взять командующего живым. Все равно не уйдет. Конь ранен, патроны израсходованы…
Фрунзе сделал вид, что собирается залечь. И внезапно вскочил в седло. Выручай, родной…
Впереди чернел сосновый лес. Фрунзе застыл в седле, даже мертвый он не выпал бы из седла. Он больше ничего не видел, не слышал. Реальный мир дробился на зеленые и красные куски, саднящая боль сводила правый бок.
Очнулся, когда рядом услышал голос Кутякова.
– Отстали…
Правая сторона плаща Фрунзе была изрешечена пулями. Бок в крови. У речки пришлось спешиться, так как Михаил Васильевич испытывал сильное головокружение и позыв к тошноте. Пуля прошла навылет, не задев ни кости, ни легкого. Кутяков вынул из сумки американский бинт и пузырек с йодом.
– Промойте рану коню, – сказал Фрунзе. – А меня – потом…
С Эйдеманом встретились в Решетиловке.
– Стреляли по вас? – спросил Михаил Васильевич.
– Я стрелял. Отбивался, пока шофер заводил машину. Меня они накрыли во дворе.
– И как удалось уйти?
– Техника! Весь кузов, проклятые, изуродовали пулями. Но теперь-то Махно не уйдет… Выздоравливайте! Все будет в порядке.
– Владимир Ильич как-то предостерег меня от излишнего оптимизма. «Малая война» почти закончилась. А на войне «почти» – не считается. В общем-то, не Махно от нас бегает, а мы от него… Позор!
ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ ОПАСНЫМ
Двадцать первый год был особенно насыщен событиями. Казалось, и конца ему не будет. Отодвинулись в историческую даль бои с Врангелем.
Как-то Авксентьевский спросил, где Михаил Васильевич получил военное образование. Он, улыбаясь, ответил:
– Низшую военную школу я окончил тогда, когда первый раз взял в руки револьвер и стрелял в полицейского урядника; моя средняя военная школа – это правильно сделанная мною оценка обстановки Восточного фронта в девятнадцатом году при первом решительном ударе, нанесенном армиями Южной группы армиям Колчака; моя третья, высшая школа – это та, где вы и другие командиры и многие специалисты убеждали меня принять против Врангеля другое решение, но я позволил себе не согласиться, принял свое решение и был прав.
Да, победу над Врангелем он расценивал как высшую военную школу, и если у полководца могут быть свои «любимые» операции, то эта была такой. Он помнил, с каким настороженным недоверием отнеслись тогда многие к его решению, оттого, возможно, и упустили Врангеля в Крым – не хватало убежденности.
Михаил Васильевич задумал посвятить операциям в Северной Таврии и в Крыму большой оперативно-стратегический очерк. Но пока написал лишь заметку в газету. Не хватало данных о противной стороне. Его аналитический ум не мирился с односторонним освещением самой жестокой из всех битв гражданской войны. Хотелось нарисовать цельную картину. Читая работы того же Меринга и других крупных знатоков военного искусства, он всегда испытывал разочарование: в сочинениях отсутствовала сердцевина всего – описание работы штабов; распределение сил и средств авторы производили на глазок. Блестящий, виртуозный стиль историка не мог замаскировать зияющие пустоты: как мыслил полководец, как трудился его штаб, почему было принято то или иное решение? Вот образчик такой виртуозности:
«По численности французское войско далеко превосходило прусско-русское: около 140 000 против 105 000. Еще больше была разница в управлении; военному гению Наполеона в русском главном командовании противостоял совершенно посредственный фронтовик – генерал Беннигсен, по рождению ганноверец, обязанный своим званием тому боязливому отвращению, которое он внушал как убийца царя Павла сыну своей жертвы…»
Роман!..
А хотелось бы знать, как мыслил, например, заклятый враг революции, правая рука барона Врангеля, командир Первого корпуса, включавшего отборные части, генерал Слащев. В операциях в Северной Таврии, в Крыму генерал Слащев был врагом номер один. Его оперативность, холодная твердость вызывали у Фрунзе уважение. Достойный противник всегда вызывает уважение. Собственно, без Слащева не было бы и Врангеля. Слащев – это не Фостиков, который оставил на Литовском полуострове свою бригаду и удрал. Слащев дрался до последнего, преподнося Фрунзе все новые и новые сюрпризы. Ум жестокий и действенный…
Первый раз в жизни Фрунзе смешался и не сразу все понял, когда Сиротинский доложил:
– Генерал Слащев просит его принять.
Гражданская война закончилась, был мирный Харьков, Фрунзе только что оправился от ранения, только что пришел в штаб.
– Генерал Слащев? Это который?
– Ну тот самый… Из Константинополя. Заместитель Врангеля.
– А генерала Кутепова с ним, случайно, нет?
– Кутепова нет.
– Пусть войдет. Парадокс…
Хмурый, чуть грузноватый человек с печальными усталыми глазами, сильно сутулясь, вошел в кабинет. Вошел растерянно, как-то качнулся, словно не решался даже войти и вот – решился. Войдя, плотно притворил дверь и не искательно, не очень просительно, но как-то «отчаянно» сперва изогнулся, затем вытянулся по стойке «смирно».
– Разрешите доложить?.. – Лицо было искажено какой-то странной болезненной гримасой, щека подергивалась.
– Садитесь. Рассказывайте все.
– Стыдно отнимать у вас время.
– Ничего. Бежали?..
– Бежал.
– Почему.
– Лучше смерть, чем жизнь без родины.
– Я вас понимаю.
– Рассуждал так: пусть казнят, заслужил. Но ведь я дрался за свое. Как солдат. И когда оказалось, что свое – миф, жить стало не для чего. И вообще, когда нет живого, осязательного ощущения России, жить не для чего. Решил сдаться на милость народа. Смерть приму спокойно. Умру все-таки на родине, а не в турецких ямах. Я – русский человек, и быть человеком без родины, паршивым приживальщиком французов мне не позволяет мое достоинство. Мы проиграли. Раз и навсегда… Впрочем, все это жалкая, запоздалая патетика, и вам, по-видимому, смешно… – В груди у него что-то хрипнуло.
– Нисколько. Даже наоборот. Кто вас направил ко мне?
– Георгиевский кавалер Петр Кирюхин.
– Что-то не припоминаю.
– Не мудрено. Он в штабе моем проходил службу. Крепкий такой мужичок, себе на уме. Но храбрости невероятной. Унтер-офицер. Слонялся я однажды по Константинополю. Страшное волчье одиночество. Есть там такая мечеть Гамида, за ней – холм, на котором расположен Ильдиз-Киоск, Звездная палата. На холме любят собираться английские и французские офицеры. Не знаю, зачем понесло меня на тот холм. Поднялся – и глазам своим не верю: стоит Кирюхин при полном параде, с крестами, а в руках картуз держит и гнусавым голосом распевает: «Боже, Врангеля схорони». Иностранцы ничего не понимают, бросают в картуз пиастры. Не стерпел и подошел: «Ты что же это, сукин сын, мундир позоришь?! Перед кем? Перед этой заграничной швалью? Ты – русский солдат…» Покосился на меня и равнодушно эдак спрашивает: «А кто вы, собственно, такой и какое вам дело до моего мундира? Почему вам с Врангелем позорить можно, а мне нельзя? Вы шустовский коньяк жрете да Месаксуди курите, а я на пропитание должон зарабатывать. Вы у французишек да англичан поболее клянчили – миллионы! А я копеечку прошу. Они вас надули. А вы – меня, всю Россию надули». – «Послушай, Кирюхин, – как можно бодрее сказал я, – мы поправим твои дела. Я хочу тебе помочь: вот деньги на первый случай. Правда, их немного. Но ничего, бери. Только не стой с фуражкой». А он так зло сквозь зубы сплюнул: «Вам – ваше, а мне – мое, вот что! Вы теперь – француз, да-с, а я хочу русским остаться. Вот насобираю на дорогу – и махну в Расею, в ноги Фрунзе упаду: не вели, мол, казнить; а коль велишь – небольшая потеря, ежели Петьку Кирюхина в группу «черного «Ж» переведут (в расход, значит, пустят)». «Черный «Ж» – это фюзеляж аэроплана «Моран «Ж», выкрашенный в черный цвет; он у нас катафалк заменял. «Да как же ты, дурья голова, до России доберешься? – спрашиваю. – Я, может, сам об этом денно и нощно мечтаю». Он посмотрел недоверчиво, наклонился и зашептал: красные моряки, дескать, Кемалю оружие возят; если прийти к ним и добровольно сдаться… А если не желаете прямо к морякам, то можно податься к контрабандистам: они из Батума керосин в жестяных банках возят. Сам видал. Приплатить можно. А в Батуме видно будет… И такую занозу всадил мне в сердце! Вы, говорит, на меня положитесь, я все устрою чин-чином. Ну а ежели в расход нас пустят, то не взыщите. А я уж и смерти рад. Только бы не в турецких ямах… Вот встреча с Кирюхиным и была той последней соломинкой, которая, по пословице, ломает спину верблюду. Решился. Не жить мне без России. В Батуме сразу явился в органы власти. Думал – посадят… А меня успокоили и привезли сюда. Ревел, как ребенок. Я ведь приготовился к смерти. И сейчас свой страшный суд в себе ношу.
– Советская власть не мстит раскаявшимся противникам. Расскажите о своих бывших товарищах.
– Что рассказывать? Позор и мерзость… Генерал Фостиков содержит кафешантан в Константинополе, торгует живым товаром. Каждый пробавляется, чем может: мелкой спекуляцией, торговлей папиросами, физическим трудом. Идешь, предположим, мимо кафешантана, а из открытых дверей знакомый баритон: «Преступника ведут, – кто этот осужденный?» Генерал-лейтенант в роли кафешантанной певички. Я ему честь отдавал, – Слащев передернул плечами, точно хотел высвободиться из пиджака, издал кашляющий звук.
– А как зовут того генерал-лейтенанта?
– Его-то я очень хорошо знаю. В моей ставке все время околачивался. По юстиции. Приговаривал всех без исключения. Целыми днями на виду у всех болтались на виселицах трупы приговоренных им офицеров, чиновников и солдат. Скотина!.. Милков его фамилия.
– Да, мир тесен. А как союзники к вам относились там, в Турции?
– С величайшим презрением. Они нас и за людей-то не считали. А мы платили им ненавистью. Больше ничего у нас не осталось: ни родины, ни чести. Если вы хотите найти людей, ненавидящих англичан и французов, то ищите их не здесь, а там, по ту сторону границы. Я счастлив, что моему примеру последовали другие: несколько десятков бывших офицеров и солдат сдались Советской власти.
– Если вы искренне решили сотрудничать с нами, то я рад за вас. Вы могли бы преподавать тактику, военное дело нашим командирам…
– О таком счастье я не смел и мечтать!
Все это, разумеется, выглядело парадоксально: генерал Слащев в кабинете Фрунзе. Но еще парадоксальнее было то, что произошло потом: командиры и политработники, еще недавно дравшиеся со Слащевым, возбудили перед правительством Украины ходатайство о расстреле врангелевского генерала. Тут и начался парадокс: Михаилу Васильевичу пришлось выступить в роли ярого защитника и адвоката своего недавнего врага, доказывать, что такого крупного военного специалиста разумнее использовать, нежели расстрелять. В течение месяца жизнь Слащева висела на волоске. Он невозмутимо ждал. Логика и авторитет Фрунзе победили, Слащев приступил к исполнению новых обязанностей.
Вышла в свет статья Фрунзе «Единая военная доктрина и Красная Армия». Обдумывая пути и методы строительства Красной Армии, он для сравнения в другом обширном очерке «К реорганизации французской армии» показал, как происходит процесс преобразования армий капиталистического мира. Это был глубокий, всесторонний анализ состояния иностранных армий.
Рана постепенно зажила. Врачи были потрясены: от такой раны обычно умирают сразу. Плащ пробит в семи местах. Но железный Фрунзе нашел в себе силы отбиться от полусотни врагов, добрался в седле до станции и только тут потерял сознание. Все это казалось невероятным, но это было так. Лежа в постели, он продолжал руководить разгромом банды Махно.
Банду зажали со всех сторон. Завязался жесточайший бой. Махно бросил свой штаб, свои обозы и пулеметы, своих помощников и идейных вдохновителей. Помощники были убиты в перестрелке. Он бежал. И все-таки красноармейская пуля настигла его. Несколько десятков всадников – вот что осталось от армии Махно. Они везли тяжелораненого атамана сперва на юг, скрываясь в рощицах и в плавнях. Затем переправили через Днестр, в боярскую Румынию. Здесь была смерть. Политическая.
Но двадцать первый год еще не кончился.
События продолжали нагромождаться одно на другое. На Украине объявился новый атаман – помощник Петлюры генерал Юрко Тютюник.
Фрунзе отозвал из Тамбова Котовского, поставил его во главе кавалерийского корпуса и приказал уничтожить банды Тютюника.
Сам Михаил Васильевич готовился к длительному и, по всей вероятности, опасному путешествию.
В харьковской газете «Коммунист» появилась его статья «По ту сторону Черного моря». И все вдруг увидели: Фрунзе – великолепный знаток Ближнего Востока, Малой Азии. Он рассказывал о событиях в Турции, которые за последнее время приковывали внимание всего мира.
Обывателю Турция всегда рисовалась этакой экзотической страной полумесяца на берегах Босфора, где, как во времена «Тысячи и одной ночи», правит султан, «повелитель правоверных», «калиф ислама», где до сих пор сохранились гаремы (у губернатора Константинополя сорок жен, у султана – триста), где курят наргиле и пьют фиговый сок, где в Софийской мечети сохранился оттиск пальца пророка, где в тени мечетей сидят дервиши и так далее, и тому подобное. Пустячки из жизни народов Востока туристы-сибариты всегда выдают за саму жизнь народов.
Оком государственного деятеля Фрунзе видел другую Турцию. В прошлом году по Севрскому договору Антанта отняла у Турции большую часть территории вместе с Константинополем – столицей, находящейся в том месте, где сливаются воды Мраморного моря, Золотого Рога и Босфора. На долю Англии досталась Месопотамия, Палестина и Аравия; на долю Франции – Сирия, Ирак, большая часть Малоазиатского полуострова; Греции – западная часть Малой Азии с городом Смирной и остатки европейских владений Турции в юго-восточной части Балканского полуострова. Остальная часть собственно Турции – Анатолия была разделена на зоны влияния.








