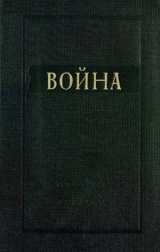
Текст книги "Война"
Автор книги: Михаил Зощенко
Соавторы: Лев Славин,Николай Тихонов,Виктор Финк,Михаил Слонимский,Юрий Вебер,Семен Розенфельд,Николай Брыкин,Кирилл Левин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 52 страниц)
Штаб армии оторвался от всех частей. Конвойная сотня, сильно поредевшая, была единственной боевой силой, оставшейся в его распоряжении. В болотистом лесу произошло последнее совещание. Самсонов, не слезая с седла, оглядел казаков и тихо сказал:
– С такой ордой мы не проберемся. Попробуем обойтись без них.
Штабс-капитан Дюсиметьер, молодой еще человек, сухой, черный, похожий на испанца, порывисто рванулся к командующему. Он хотел сказать, что сзади находятся русские корпуса, и можно попытаться собрать из них хоть небольшой кулак, но, встретив мертвый взгляд Самсонова, ничего не сказал. Ему стало ясно, что вопрос об армии уже целиком отпал: армии не было, армия погибла. Вопрос стоял только о спасении штаба.
– С богом, есаул, – с видимым усилием произнес Самсонов. – Попробуйте пробраться. Двигайтесь на деревню Зарембу.
Он слез с седла. Штаб, нестройно и как бы колеблясь, последовал его примеру. Казаки забрали лошадей, есаул перекрестился, и сотня двинулась вперед. Десять человек остались одни, они молча смотрели, как в синих лесных сумерках скрывались всадники. Из последнего ряда сотни кто-то весело сказал:
– Слава богу, камень с плеч окинули. Теперь легче будет.
– Пойдемте, господа, – послышался голос Самсонова, – будем двигаться на Хоржеле.
Впереди шел полковник Вялов, каждую минуту сверявшийся с компасом. За ним гуськом тащились остальные. Черная шерстяная ночь плотно укутала все кругом. Деревья стояли, как враги, холодный их шелест провожал идущих. Не было ни луны, ни звезд. Чуть красноватое, как сырое мясо, небо близко придвинулось к земле. Часто останавливались, собирались к полковнику Вялову, смотрели на его светящийся компас и советовались, как идти дальше. Самсонов молчал. К нему не обращались с вопросами. Так на похоронах не трогают ближайшего родственника покойника, дают ему остаться одному с его горем. Вышли на лужайку. Тут было немного светлее. Коричневое зарево виднелось где-то на юге. Вдруг из леска, темневшего совсем близко, послышался резкий смех. Белая тень отделилась от темной лесной пещеры и с громким хохотом, прерываемым рычанием, понеслась к людям неровно и стремительно, как гигантская летучая мышь. Недалеко от них она завертелась, огромное белое крыло со свистом прорезало воздух. Нервный Дюсиметьер вскрикнул и схватился за револьвер.
– Боже мой, – содрогаясь и крестясь, сказал Самсонов, – что же это такое?
Все молча смотрели на ужасную тень. Поручик Кавершинский, состоявший при командующем, бросился вперед, и яркий луч электрического фонарика, как пуля, ударил в лицо тени. Выплыли круглые свирепые глаза, оскаленный рот, из которого вывалился черный язык.
– Кто вы такой, – грубо крикнул Кавершинский, подымая наган, – ну, прошу, живо, без дурачеств, – кто вы такой?
– Азраил, ангел смерти, – ответил глухой голос. – Разве вы не видите, как я летаю? В каждом взмахе крыла – смерть.
Он тихо двигался к людям, и они окружили его. Офицерские погоны были на его плечах. Грязная рубаха клочьями вылезала из-под рваной гимнастерки. Вокруг горла узлом была привязана простыня, развевавшаяся, как мантия, за плечами. Слюна капала из открытого перекошенного рта.
– Какого вы полка? – спросил полковник Вялов. – Как вы попали сюда?
Офицер вытянулся. Круглые глаза стали строгими.
Он подпрыгнул, завыл, захохотал и помчался к лесу.
– Идемте, идемте скорее, господа, – сказал Самсонов.
Он пропустил всех чинов штаба мимо себя и пошел последним. Шли ощупью. Шаги глухо стучали о землю. Самсонов шел все медленнее. Спина генерала Постовского, шедшего перед ним, исчезла, затих и шорох движущихся людей. Тогда он остановился, снял фуражку. Постояв немного, свернул с тропинки в лес. Тишина охватила его, он жадно вдыхал сыроватый ночной воздух, натыкался на деревья, торопился, точно его влекла к себе определенная цель.
Теперь никого не было вокруг. Он прислонился спиной к дереву и, задрав голову, искал в небе звезды. Но видел только бурую муть низких, слабо освещенных далекими пожарами туч.
Охваченный слабостью, он подумал, что виновны и другие, что его подвели плохие командиры корпусов, своим отступлением открывшие противнику фланги армии, подвел штаб, плохо управлявший армией, не наладивший связи, подвела плохая разведка, мало дававшая сведений о противнике, подвели начальники дивизий, вымотавшие солдат непосильными маршами, подвели те, кто не позаботился о снабжении армии, кто вовремя не выстроил удобных, стратегических дорог… все, все подвели, а он один должен оплатить последний, самый тяжелый счет.
Послышался треск сучьев – кто-то, легко ступая, вышел на Самсонова.
Он вспомнил сумасшедшего офицера и задрожал.
– Кто идет? – слабо спросил он.
Шаги затихли.
– Свой, – ответил тихий голос. – А ты кто?
Самсонов не ответил. Тогда человек осторожно приблизился и чиркнул спичкой. Овальный огонек вырезал из темноты его бородатое лицо и лицо Самсонова. Генерал увидел защитные солдатские погоны, смятую фуражку без кокарды, темные, блестящие глаза. Спичка погасла. Пришедший присел на корточки, опираясь спиной о дерево. Он молчал. Самсонов утомленно закрыл глаза. Темнота, покой, молчание. Бели бы так было долго, вечно! Он услышал шорох. Солдат наклонился вперед, он что-то делал, потом чиркнул спичкой, закурил.
– Хлеба, – сокрушенно сказал он, – поля такие богатые неубранными стоят. Мужики мимо идут, им бы убрать дали, вот поработали бы.
«Армия погибла, а он думает о неубранном хлебе, – подумал Самсонов. – Что же мне теперь делать? Я один, никто не может мне помочь. Я один».
– Хороши ночи, – продолжал солдат, – теплые, ласковые. В такие ночи девки песни поют. – И, помолчав, грустно добавил: – Растут они, молодые наши. Уберут за нас хлеб. Новый посеют.
Самсонов в отчаянии огляделся вокруг. Какой хлеб? Кто посеет его? О чем говорит этот странный человек?
Он шагнул вперед, схватился за грудь. Все болит. Сердце раскалили на страшном огне, оно раздулось, жжет, не дает жить.
– Кто же виноват? – громко спросил он. – Если бы вместо меня был кто-нибудь другой, разве было бы иначе? Хорошо, пускай устраивают суд. Я готов. Судите меня. Вот я, судите.
Он двигался, выставив жирную старческую грудь, почему-то расстегивая пуговицы, ударился о дерево. И вдруг, охваченный страхом, повернулся в сторону солдата.
– Голубчик, – тихо попросил он, – поди сюда. Какие это молодые посеют новый хлеб? Поди, поди.
Ему никто не ответил. Он прислушался, вдали как будто потрескивали ветви под ногами человека.
– Погоди, – в отчаяньи закричал Самсонов, – не уходи… О, господи.
Он прислушался. Теперь все было тихо – нехорошей мертвой тишиной.
– Никого не было, – прошептал он. – Мне показалось, никого не было.
Ночь была черная, густая, как смола. Безнадежная.
Самсонов поднял к виску револьвер.
Михаил Слонимский
Единорожец
IЦеппелин повис над Красносельцами. Его желтизна была так же ярка, как синева неба. Три аэроплана летали над местечком, и с земли ясно видны были черные кресты на их крыльях. Зенитные орудия ловили врага: шрапнель рвалась вокруг, пуская в воздух дым и пули. Опустев и потеряв силу, шрапнельные стаканы падали наземь. Они стукались о крыши домов, врезывались в пыльную мостовую, хлопались в реку, залетали и за реку, на фольварк, туда, где пили коньяк штабс-капитан Ротченко, поручик Никонов и прапорщик Лосинский.
Офицеры сидели в саду вокруг большого выкрашенного в зеленую краску стола. Тут же примостилась на табурете Тереза, девятнадцатилетняя хозяйка фольварка. Ротченке стулом служил ящик: в этом ящике офицеры привезли вино. Ящик был уже пуст: бутылки – на столе.
Ротченко не слушал звона шрапнельных стаканов. Он, близко придвинув к Терезе темное, хотя и чисто выбритое лицо, говорил:
– Не понимаю. Решительно не понимаю, как могли вы рискнуть остаться тут из-за фольварка.
Тереза – совсем маленького роста, но это (когда она стоит) не слишком заметно: на ногах ее – туфли с высокими каблуками. Она рыжевата. Лицо и руки у нее – полные, розовые. Она, как всегда, ничего не отвечала офицеру. Зачем отвечать? Все равно офицеры вместе со всей армией рано или поздно оставят Польшу, и тогда Петрик женится на Терезе. А сейчас Петрик – в австрийской армии, в Кракове, врачом.
Впрочем, сейчас она даже не слушала штабс-капитана: она вздрагивала при каждом новом разрыве шрапнели.
Офицер заметил это и досадливо отодвинулся.
– Неужели вы боитесь? Это же такая ерунда!
И он залпом осушил стакан коньяку.
У него на груди – офицерский Георгий, на эфесе шашки анненская лента, Он дважды был ранен: под Гумбиненом и под Праснышем, и твердо знал, что из всей этой затеянной на земле чепухи добра не выйдет. Он снова потянулся к Терезе:
– Послушайте, дорогая…
Поручик Никонов громко захохотал.
Ротченко обернулся к нему. Он опустил левую руку на эфес шашки, правой поправил несуществующий аксельбант (раньше он был полковым адъютантом) и подтянулся весь.
– Вы – что, поручик?
Поручик гоготал, как лошадь. Он оборвал хохот, чтобы проговорить:
– Если цеппелин начнет бросать бомбы, то через полчаса тут чисто будет.
И снова он радостно загоготал. Он радовался всему, что только ни есть на свете: войне, коньяку, цеппелину, Терезе. Череп у него – узкий, и в нем не хватало места для тоски. Поручик подмигнул Ротченке (слушайте, сейчас острить буду!) и обратился к прапорщику:
– Чем это вам не обстрел, господин прапорщик? Настоящий обстрел. И тебе палят, и тебе цеппелин, и тебе руку отчикают, если что. Хо-хо-хо!
И слова полезли из него одно за другим, словно сговорившись совершенно освободить узкий череп от лишнего груза мыслей:
– Он, капитан, обижается – хо-хо! – что с черным темляком ходит. В бою ни разу не был, ноги-руки на месте, ничего не отхлюпано – и черный темляк. О-хо-хо! Спросят: что на войне делал? А у него даже Анны нет. У-ху-ху!
И поручик пришел в совершенный восторг. Он застучал кулаком по столу и, не помня себя от радости, кричал:
– Что, спросят, на войне делал? А он – черный темляк! Ха-ха-ха! Вы только представьте себе это положение! Никакого, никакого, – ну никакого анненского темляка! Нет, вы…
Ротченко перебил сухо:
– Вы пьяны, поручик. На войну идут не для награды. Чему вы тут радуетесь?
Поручик затих. Лицо у него застыло на миг: рот раскрыт, глаза выпучены, брови ушли на лоб. Потом брови опустились, глаза замигали: Никонов не умел оскорбляться. Он заговорил:
– Нет, я про прапорщика ничего плохого не могу сказать. Большой храбрости прапорщик. А что в бою не был – так это ничего. Я тоже до войны в бою не был. Он – мой полуротный. Да я вот вам его покажу. Вот, например…
И он обернулся к прапорщику:
– Принеси сюда для дыма два фунта шоколада. Это не потому, что для моей левой ноги и каприз, а потому, чтоб все увидели храбрость и что тебе на бомбы начхать. Вот. И без денег. Ты жида в лавке по шее стукни – и без денег. Ха-ха!
Он был уже в восторге оттого, что прапорщик стукнет еврея по шее, и торопил:
– Ты скорей иди. Скорей!
Ему так захотелось побить еврея, что он даже сам двинулся было вместе с прапорщиком. Но раздумал и остался. Если военную форму заменить на прапорщике гимназической, то ему можно было бы дать лет шестнадцать, не больше: не мальчишка, но и не взрослый человек. Бороды и усов на лице его не было, но по щекам и подбородку шел пух, в иных местах густой и жесткий уже, как волос. И все на нем было новенькое: гимнастерка, погоны, фуражка. У пояса – аккуратно – наган. Эфес шашки и офицерская кокарда не потускнели еще.
Ротченко скосил на него глаз и спросил мягко:
– Вы добровольцем?
Прапорщик взял под козырек и отрапортовал:
– Так точно, господин капитан.
Ротченко только сейчас заметил, что стакан перед прапорщиком так и остался наполненным до краев: прапорщик не притронулся к коньяку. Значит, он сидел тут я уважал боевых офицеров, и вся эта дрянь представляется ему необыкновенно важной и значительной: и война, и георгиевский крест, и цеппелин.
Штабс-капитан проговорил вяло:
– Оставьте, поручик. Зачем напрасно подвергать опасности?
Прапорщик воскликнул пылко:
– Разрешите, господин капитан, исполнить приказание господина поручика.
Ротченко пожал плечами, и прапорщик ушел. В конце концов, все равно: добывать ли шоколад, брать ли Прасныш – одна чепуха.
Прапорщик вышел из-за прикрытия деревьев как раз в тот момент, когда германский аэроплан скинул первую бомбу. Земля треснула, воздух зазвенел, черный дым заклубился кверху на месте разрыва. Прапорщик вздрогнул и, кашлянув для храбрости, пустился дальше. Он еще не дошел до реки, когда вторая бомба разорвалась совсем близко от него. Прапорщик лег наземь, прежде чем успел подумать что-либо: тело его действовало уже самостоятельно, без помощи рассудка. Когда звон осколков стих, прапорщик вскочил и побежал к мосту. Тело помнило только одно: назад без шоколада ворочаться нельзя. И тело, не управляемое рассудком, напоролось на крест. Крест торчал у самой дороги. Прапорщик обхватил его обеими руками, как живого человека, и отдышался. Крест был неширок, но все-таки мог защитить от осколков новой бомбы. Прапорщик, чтобы успокоиться, прочел надпись на кресте. На кресте нацарапаны были штыком четыре строки:
О, путник! Стой и погляди,
Что здесь написано стихами:
Вчера он был такой, как ты,
Сегодня – бездна между вами.
Прапорщик оторвался от креста и стремглав понесся к мосту. Ночные страхи (а такие случались с прапорщиком в детстве) – ничто в сравнении с тем, что творилось сейчас. Ночные страхи не грозили телу. А тут тело было в опасности: пустой случай мог изувечить его на всю жизнь.
Прапорщик перебежал мост и, задыхаясь, остановился у стены ближайшего дома. Огромный солдат стоял недалеко и, поглядывая на офицера, усмехнулся.
– Здорово напугался, ваше благородие?
Прапорщик хотел оборвать его по-офицерски, но было ясно, что солдат оказался храбрей его и, главное, видел, как он бежал от бомб.
Солдат был без шапки и без пояса: должно быть, нестроевой команды, обозный. Волосы у него были черные и курчавые, как у негра. Брови были густые и тоже черные. Глаза – синие.
– Кто ты такой? – спросил прапорщик.
– Из Пинска, ваше благородие, – отвечал солдат.
Третья бомба упала в самое местечко, на площадь.
Солдат не шелохнулся. Прапорщик, чтобы не показать страха, продолжал разговор:
– Должность твоя какая?
– Столяр, – отвечал солдат, пропустив на этот раз «ваше благородие». – Столяром был.
И прибавил недоуменно:
– И за что это народ мучают – никак не пойму. От меня, ваше благородие, как от столяра пользы значительно побольше, как от солдата. Я и на зверя охотиться не любил, а тут в человека стрелять. Я так думаю: напрасно это выдумали.
Прапорщик не знал, что отвечать. Он не имел права слушать такие речи от солдата. И увидел: по мосту идет вразвалку поручик Никонов.
Прапорщик крикнул тонким тенором:
– Молчать! Ты не смеешь!
И пошел к лавкам. Солдат глядел ему вслед, усмехаясь.
– Молодой еще.
Никонов нашел прапорщика у лавок. В руке прапорщик держал плитки шоколада «Фукс-нукс».
– Ну что, – спросил поручик, – побил жида?
– Побил, – отвечал прапорщик.
– Ну, молодец. Идем назад.
Прапорщику стыдно было признаться: он не только не побил еврея, но даже не в силах был даром взять в лавке шоколад. Лавка была пуста (торговец спрятался от бомб в подвал) – и прапорщик оставил на прилавке деньги. Поручик сказал:
– Медленней пойдем. Там уж, наверное, капитан с девочкой делом занялись; я для того и ушел. А капитан на девочек – хо-хо-хо!
И поручик радостно захохотал.
Прапорщик глядел на него с уважением: как спокойно говорил поручик о том, о чем прапорщику и думать стыдно было! И, главное, поручик, видимо, и не думал даже о бомбах и шрапнельных стаканах – так спокойно он шел и смеялся. Страх не находил места в его узком черепе, заполненном бессмысленной радостью. А Ротченко с Терезой ничем, кроме разговора, не занимались. Даже разговор стих. Ротченко глядел на Терезу так, что та отвернулась.
Заботы Терезы о фольварке были непонятны Ротченке. Какой тут фольварк, если все гибнет? И Ротченко усомнился: может быть, его непонимание оттого, что тело его избито и изломано войной? Ведь до войны он думал иначе. И штабс-капитан еле удержался, чтобы не кинуться на девушку: были ведь, может быть, последние дни затишья.
IIБыло темно: не оттого, что солнце зашло уже, а оттого, что дым застлал небо и землю. Дым в лесу был желтый и едкий, как удушливый газ. Желтые космы его висели на соснах и плотной завесой ползли поверху, подымаясь к небу. Лес был огромный, и сосны в нем дрожали от корней до верхушек. Земля тоже дрожала: тысячи снарядов рвали ее уже десятый час под ряд. Направо и налево от дороги трещали и ломались деревья. А по дороге шел поручик Никонов.
Поручик искал штаб батальона. Но решительно ничего не было в лесу: ни штаба, ни батальона, ни офицеров, ни солдат. Были только дым и грохот. Но поручик знал точно: штаб должен быть. Штаб найдется, потому что у него, поручика Никонова, имеется важное для штаба сообщение.
– Кто идет?
– Командир пятой роты.
Голос Ротченки спросил удивленно:
– Какой бог пронес вас сквозь эту дрянь?
– Не могу знать, господин капитан, – отвечал Никонов, беря под козырек. – Честь имею доложить: рота моя выбита неприятелем до одного. Оставшиеся сдались. Прапорщик Каверин убит. Прапорщик Лосинский, посланный для связи в четвертую роту, не вернулся.
– Благодарю вас, – отвечал Ротченко. – Значит, все обстоит благополучно?
– Так точно, господин капитан, – согласился Никонов, Ротченко сказал:
– Остатки полка собираются у Красносельц. Мы сейчас отступаем туда. Из батальона осталось – полюбуйтесь – двадцать один солдат и два офицера, то есть вы да я. Идемте.
И они пошли.
Это был одиннадцатый час утра. Еще накануне снялись и ушли в тыл на новые позиции русские батареи, потому что на всю артиллерийскую бригаду было только девять снарядов, да и те старого образца. Сутки отбивалась отданная на разгром русская пехота.
Ротченко шел позади солдат, рядом с Никоновым. Они не вышли еще из области огня.
Никонов пошатнулся, схватился за живот и упал. Ротченко нагнулся и повернул тело поручика лицом кверху.
Лицо у поручика сморщилось, как у ребенка, которого купают. Глаза зажмурились крепко, открылись, и поручик заорал.
Ротченко сказал:
– Что вы? Молчите!
Но поручик продолжал орать громким голосом. Вся радость ушла из его тела, и ее заменил страх. Одновременно два чувства не умещались в узком). черепе поручика.
Ротченко отшатнулся и крикнул:
– Молчи! Молчи, сволочь!
Солдаты остановились. Ротченко знал: еще секунда такого рева – и заревут все двадцать один человек.
– Сволочь! – заорал он. – Молчать!
И поручик замолк. Теперь страх ушел из тела поручика.
Ротченко следил, усмехаясь, за превращениями поручика Никонова. Он знал, как умирают люди, и не ужасался. Лицо поручика покрылось потом. Глаза в упор глядели на штабс-капитана. Тот усмехнулся.
– Успокойся. Сейчас все пройдет. Помрешь – Георгия дадим в приказе, и больше ничего. Поручения есть?
– Ведь это мука, – отвечал Никонов. – Ведь это мука, – повторил он. – Ничего не понимаю.
И умер.
Солдаты побежали, бросая на ходу винтовки.
Ротченко пожал плечами и пустился вслед за ними: в конце концов сейчас, действительно, не было нужды отступать медленно.
Впереди – окрик:
– Стой! Стой!
Ротченко тоже крикнул:
– Стой!
Впереди, в кучке солдат, стоял прапорщик Лосинский. Он размахивал шашкой и кричал:
– Стой!
Солдаты остановились и сбились в кучу.
Ротченко спросил прапорщика:
– В чем дело? Это направление дал штаб полка.
Прапорщик, отвечая ему, продолжал кричать во все горло и размахивать шашкой:
– Я привел пулемет и пять солдат! Мы вырвались! Господин капитан!
– Вложите шашку в ножны и молчите целую минуту подряд, – приказал Ротченко.
Прапорщик опешил, вложил шашку в ножны и замолк.
– Так, – сказал Ротченко.
Солдаты глядели на него. Было ясно, что они ждут от него спасения, а он не знал, куда их вести.
– За мной – шагом марш! – скомандовал он и повел солдат вправо от дороги.
Солдаты, толкая его, понеслись вперед.
Ротченко заорал:
– Стой! Стой!
Прапорщик стоял у пулемета. Он; топал ногами и тоже орал:
– Стой!
Он ничего не понимал и решил повторять все слова и движения батальонного командира.
– Из пулемета их, – сказал Ротченко. – Валяй!
Прапорщик навел пулемет и опустил руки.
– Не могу, – сказал он, последнее, и вдруг понял, что его сейчас убьют: он выпал из войны. Он все увидел со стороны: лес, беспомощную кучку солдат, Ротченку и себя, совершенно непричастного к этому непонятному делу. Это было так страшно, и так ясно было, что все равно он умрет, – что, когда пулемет затрещал, направленный рукой Ротченки, прапорщик бросился за солдатами под пули, и первый упал лицом в сухие сучья. Он не видел уже, как остановились солдаты, и как Ротченко повел их дальше, не взглянув на труп прапорщика Лосинского.
К, ночи командир первого батальона штабс-капитан Ротченко и четырнадцать солдат подошли к фольварку. Тут собрались остатки дивизии.
Фольварк был цел: ни один снаряд не тронул его. Ротченко быстро вошел в дом. Дом был пуст: остатки дивизии переправлялись через Оржиц. Там, за рекой, новые позиции. Ротченко сам не знал, зачем ищет Терезу: спасти или убить. Но Терезы не было нигде.
Штабс-капитан вышел в сад, к солдатам, и приказал поджечь фольварк.
Он думал: все, что было с ним и со всеми, сделали люди. Создали чепуху и дрянь – и сами же ужасаются. Они никого не имеют права обвинять: ни бога, ни черта. Они сами виноваты, сами же и должны все исправить.
Прапорщик Лосинский, убитый в бою 30 июня у деревни Единорожец, награжден был Анной 4-й степени за храбрость. Поручику Никонову, убитому в том же бою, дали в приказе георгиевское оружие.








