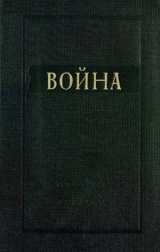
Текст книги "Война"
Автор книги: Михаил Зощенко
Соавторы: Лев Славин,Николай Тихонов,Виктор Финк,Михаил Слонимский,Юрий Вебер,Семен Розенфельд,Николай Брыкин,Кирилл Левин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 52 страниц)
Все смешалось, сплелось, перепуталось в деревне Емелистье. Кет Гулиды, чтобы разъяснить. А полковник Будакович молчит. Никого не наказал. Приказал только военными кордонами окружить деревню, никого не выпускать, никого не впускать. Одному Ловле полковник рассказал все.
Рыжая фигура подпоручика вытянулась перед ним в штабе полка. Полковник Будакович постукивал по столу пальцами, а на столе – германская каска, и в дыру, сквозь которую достигла острая сталь человеческой головы, вставлена свеча.
– Вот какое дело, – говорил полковник. – Пришло грозное время. Все зависит от плана дальнейших действий, который я составлю. Я сейчас выработаю план дальнейших действий. Нижние чины довольны?
– Так точно, господин полковник, совершенно довольны.
– А офицеры? Да отвечайте же, поручик! Что вы стоите да молчите все? Я – командир полка, а вы…
– Так точно, господин полковник, – сказал Ловля.
Рука его дрожала у козырька коричневой фуражки.
– Что «так точно»? А? Что это значит – «так точно»?
Рука задрожала сильнее.
– Никак нет, господин полковник.
Командир полка вплотную придвинулся к адъютанту, Ловля вздрогнул.
– Исполните все, – сказал Будакович. – Ничего не забыть. Слышите? Ничего не забыть. Через час в собрании быть всем господам офицерам. Я доложу о плане дальнейших действий.
Выйдя из штаба, Ловля вздохнул тяжело, снял фуражку, отер пот со лба.
В собрании офицеры разговаривали негромко. Замолкли, когда вошел Ловля. Поглядели на него в ожидании. Молодой прапорщик, выступив вперед, начал, задыхаясь слегка:
– Господин поручик… Я хотел…
Сквозь рыжий волос на лице подпоручика проступила краска.
– Что вы хотели? Если вы хотели, то вы так и говорите! Вы сегодня дежурный офицер?
– Так точно, господин поручик.
Ловля произнес важно:
– Командир полка полковник Будаковач приказал господам офицерам собраться здесь через час. Командир полка полковник Будакович доложит господам офицерам план дальнейших действий. Исполнить все. Слышите? Ничего не забыть. Через час.
– Слушаю-с, господин поручик… Но…
Ловля угрожающе шагнул к прапорщику.
– Но?
– Но… господин поручик… что случилось?
– Прапорщик! Будет занесено в приказ. Непослушание. Я сказал: план дальнейших действий. Через час. Вы слышите? Ничего не забыть.
И вышел. Двинулся к солдатским землянкам. Смолк говор среди стрелков. Встали медленно, отдали честь. Ловля глядел в бородатые и безбородые лица.
– Здорово, люди! Эй, ты! Баба! Честь не умеешь отдавать! Какой роты?
Круглый стрелок улыбался.
– Ты чего улыбаешься? Под винтовку! Дисциплины не знаешь!
Когда Ловля подходил к штабу полка, его догнал дежурный офицер.
– Господин поручик, сторожевые доносят: по дороге от штаба дивизии движутся войска.
– Войска? Чтобы сейчас же все офицеры были в собрании! Или нет… Или да… Да. Я сейчас…
И побежал к полковнику Будаковичу.
Лучше всех обо всем знает Гулида. А Гулиды нет. Гулида ждал полковника Будаковича в штабе дивизии. Ведь ясно сказал полковник:
– Оповещу, офицеров выберем – и назад.
На коня – и мелькнул за поворот.
Гулида, сняв погоны, похаживал возле двуколки. К генералу заявиться неудобно – у генерала дел много. В Емелистье? Но бог его знает, что сейчас там, в Емелистье!
Стрелки, проходя мимо, не отдавали чести. Гулида оглядывался вокруг нетерпеливо, хмурился, будто ждал кого-то по делу. А полковника Будаковича все нет.
Из-за поворота показалась фигура, черная, как топь. Гулида радостно взмахнул руками:
– Господин поручик! Вы?! Вы живы! Вы, конечно, знаете? Вот! Приказ! Временное правительство! Темные силы… Темные силы все будут уничтожены! Вот!
Голова, свороченная набок, трясется. Руки гуляют вокруг поручика Таульберга, не прикасаясь: на шинели, на лице, на руках поручика – черная мокрая грязь. Сапоги – как пни – толстые, короткие. Не раз падал поручик, пробираясь сквозь топь.
– Господин поручик! Да вы же первый в полку революционер! Теперь вы командир полка! Обязательно командир полка! – И Гулида замахал руками: – И не отказывайтесь! Как же не командир! Командир! Да что тут откладывать? Идемте к генералу! Обязательно идемте!
– Да что – оставьте! – случилось? Я не…
Но Гулида уже тащил поручика Таульберга в штаб дивизии.
– Теперь все старое кончено. Новая жизнь! Вот! Прокламация, – пожалуйте! И генерал тоже… Уж если генерал – и прокламация… Идемте! А солдаты – совершенно спокойно. То есть, я вам скажу, только честь не отдают. А честь – что? Офицеру не честь нужна, а боеспособность армии. Идемте! А полковнику, как приедет, скажем: сдавайте, мол, свои обязанности более энергичному и…»
И Гулида утащил поручика Таульберга в штаб дивизии.
– Важное дело! Экстренное! Из шестого стрелкового!
И думал, подталкивая Таульберга:
«Убьют стрелки шпиона немецкого! Как пить дать, убьют!»
Поручик Таульберг послан был в Емелистье с ротой и уже приближался к деревне.
А в собрании уже наклонялись офицерские головы, подставляя ухо ко рту и рот к уху соседа. Ухо ко рту, рот к уху – и уже громче говорят офицеры. Качаются ордена, стучат шашки, где-то в углу даже звякнули шпоры. И все смолкло, когда появился полковник Будакович.
Ловля крикнул:
– Смирно! Господа офицеры!
Полковник Будакович оглядел всех внимательно, прошел к скамье, уселся, вытащил из кармана бумагу. Шум затих.
– Господа офицеры, план дальнейших действий…
Тут полковник Будакович, вздрогнув сильно, сунул бумагу назад в карман, встал и вышел из собрания.
Перед собранием – стрелки. Вылезли из-за изб на улицу. Тяжело, будто из-под земли, глядели на полковника, сливались в одно дыхание, тяжелое, подземное. И дыхание все тяжелее и дружнее – вот-вот опрокинут землю и вырвутся.
Полковник Будакович взмахнул рукой:
– Господа стрелки!
Стихло дыхание.
– Господа солдаты!
Стрелки слушали. Полковник Будакович оглядел толпу молча и спросил негромко:
– Кто сказал: курица?
И прибавил:
– Курица – не птица. Прапорщик – не офицер.
Повернул круто и пошел по улице. Стрелки расступались перед ним, сливаясь за его спиной в одно дыхание, и двинулись вслед. А за спинами стрелков, с другого конца деревни, вливались солдаты из штаба дивизии. С правого фланга шагал поручик Таульберг.
Полковник, выйдя из избы, остановился. Поглядел. В лицо сыростью и туманом дышала топь. Тяжелая фигура стрелка Федосея приближалась к деревне.
Полковник обернулся, вынул шашку.
– Господа солдаты! – сказал он. – Ваша очередь спасать Россию! Господа солдаты!
Все лицо полковника подернулось тут назад, к ушам. Складки прошли от глаз и ото рта. Рот расширился, сверкнули белые острые зубы. Шашка, со свистом резнув воздух, ушла далеко в тело стоявшего впереди стрелка.
VIIВсе, что шумит и гудит сейчас по деревне, – все это будет тут, на желтой нотной бумаге, которая дрожит в руках у капельмейстера. Гнилые зубы обкусывают карандаш. Китель расстегнут, ворот рубашки тоже.
Только бы не помешали. Только бы на полчаса оставили одного в избе. И будет готов русский революционный гимн. Быстрые шаги застучали к двери. Капельмейстер с досадой бросил карандаш. Подпоручик Ловля вбежал в избу. Лицо у него прыгало, и дрожащие губы мешали правильно выговаривать слова. Ловля говорил:
– Ся… сяда… ядут… Ба… Бадакович…
И полез под кровать.
Гимн будет лучше, гораздо лучше, чем вальс «Весенние цветы». И не дают капельмейстеру сочинить гимн.
Дверь с грохотом сорвалась с петель. За дверью штык, за штыком – дуло, приклад и серая шинель солдата. За стрелками – еще стрелки.
Штык мелькнул мимо капельмейстера.
– Где адъютант?
– Там, – отвечал капельмейстер шепотом, прижимая к широкой груди нотную бумагу. – Там.
И указал под кровать. Ловля выскочил, закрыл голову руками, выставив вперед локти, и ринулся к двери. Прорвался на крыльцо, соскочил – и в сарай.
Таульберг без погон, черный, стоял на дворе. Не остановить людей. Никто не поймет его. Все неправильно.
Солдаты, топоча сапожищами, пролетали мимо Таульберга в сарай, куда забился адъютант Ловля. Таульберг услышал визг, как будто в сарае резали поросенка. Все глуше визг, и вот – поросенок зарезан. Стрелки вылезли из сарая. Таульберг, шатаясь, пошел со двора. У выхода, на гнедом коне полковника, – стрелок Федосей. Стрелки гоняются за офицерами. Один крикнул Федосею:
– Капельдудку в сарае зарезали.
– Обязательно, – отвечал Федосей.
И дернулся с лошади к Таульбергу.
– Шпион офицерский!
Таульберг вздрогнул, завидев Федосея, забежал во двор, вытягивая из тугой кобуры наган. Вытянул, оглянулся дико, приложил дуло к виску и дернул торопливо курок.
А через дрожащее еще тело, опрокидывая все на пути, вырвалась на улицу жирная масса капельмейстера. Китель клочьями болтался на плечах. Голова всклокочена. К груди капельмейстер прижимал нотную бумагу.
Остановился, взмахнул перед багровым лицом нотной бумагой.
– Господа! Не убивайте! Не о себе прошу! Погодите! Завтра убейте, через час убейте! Гимн! Русский революционный гимн! Не нужно!
Штыки окружили капельмейстера, и в истыканном остриями круге кричал капельмейстер, помахивая нотной бумагой над всклокоченной головой:
– Братцы! Не нужно. Ей-богу, не нужно!. Кого убиваете? Гимн!
И разомкнулся круг.
VIIIЗа деревней – камень. На камне – стрелок Федосей. Туман подползает к деревне Емелистье, а над туманом ползет медленное небо.
Стрелки подбирают на улице, в избах, по дворам, везде трупы офицеров шестого стрелкового полка и складывают тут, перед стрелком Федосеем.
Убрана деревня. Лежат перед стрелком Федосеем, выставив вперед подошвы, полковник Будакович, поручик Таульберг, подпоручик Ловля и еще многие. Но Гулиды нет. Гулида не лежит перед стрелком Федосеем.
Он явился в Емелистье к вечеру, когда утихли стрелки, – заюлил, закружился:
– Ура! Новая жизнь! Я вам всем теперь такого вина достану!. Праздник! Обязательно праздник! Капельмейстер гимн сочинит! И в Петроград пошлем: «шестой стрелковый присоединяется». Долой, мол, офицеров! Долой немцев! Да здравствуют народные вожди!
И теперь он стоит за широкой спиной стрелка Федосея.
Устали стрелки. Вышли с лопатами за деревню – рыть могилу. Но тяжко копать после дневной работы вязкую землю.
Стрелок Федосей поднялся с камня:
– В колодец их всех!
Стрелки обрадовались.
– Правильно!..
И дружно приступили к работе. Один – за ноги, другой – за голову, колодец недалеко, – бух! И нет офицера. Очищается земля перед стрелком Федосеем.
Круглый стрелок указал на полковника Будаковича:
– И этого в колодец?
– В колодец, – отвечал стрелок Федосей.
И ногами вверх бултыхнулся в колодец полковник Будакович вслед за другими.
1922
Копыто коня
Снаряд врылся в землю и вздохнул, чтобы, как кит, вырыгнуть к небу песок и траву, чтобы в черном дыму дрожало раскаленное железо. Земля треснула, и Мацко взлетел на воздух.
В тот момент, когда тело его отделилось от земли, он увидел себя со стороны: вот он, распластав руки, режет воздух; голова втянута в плечи, лицо напряглось, глаза выпучены, подогнутые колени защищают живот.
Мацко перекувырнулся и упал на спину. Пена, дрожа, обрывалась с тяжелой узды испуганного его коня на лицо, на гимнастерку ему и рядом – на желтую сохлую траву. И вот – неба нету, ничего нету, над лицом – поросшее длинным рыжим волосом копыто коня. Копыто медленно опускается и, конечно, размозжит череп.
Мацко зажмурил глаза и закричал так, будто ему помазали кишку йодом. Копыто тяжело опустилось ему на грудь, и Мацко явственно слышал: грудь у него хрустнула, как дерево от мороза.
Конь, перешагнув через его тело, понесся по полю, взрывая копытами землю, шарахаясь от снарядов, останавливаясь, поворачивая то назад, то вправо, то влево и безумея от страха и ярости.
Мацко, боясь дотронуться до разбитой груди, кричал.
Вестовой схватил его, приподнял и кинул в пулеметную одноколку. Возница хлестнул вожжами по дрожащим бокам лошади, и одноколка запрыгала по вспаханному полю.
Офицер кричал вознице:
– Остановись! сбрось! не могу!
Но одноколка мчалась сквозь дым и грохот, перескакивала с межи на межу, кренилась и примчала офицера в лес.
И только в лесу Мацко потерял, наконец, сознание. Очнулся на поляне под деревом, и простонал:
– Доктора…
Доктор не приходил, и офицер повторил:
– Я, кажется, ясно просил доктора.
Никто не ответил.
По поляне шагал поручик Сущевский, а в стороне врастяжку лежали стрелки. Других офицеров, кроме поручика, Мацко не увидел. Вестового среди стрелков тоже не было: убит, должно быть.
Поручик Сущевский восклицал, шагая:
– Изменники! Подлецы! Сволочи!
Стрелки молчали, и глаза у них дымились злобой, как кручонки махрой.
– Поручик, – сказал Мацко, – я не могу тронуться с места.
– Хотите оставаться с ними? Я ухожу.
– Почему?
– Потому что они изменники и подлецы.
Мацко сцепил зубы и, не выпуская стона, которым наполнилось тело, встал. И когда встал, стон вырвался, но Мацко досадливо спрятал его снова глубоко в сердце.
Все тело стонало: ноги, руки и грудь. Главное – грудь. Там, наверное, ни ребер, ни ключиц – одни осколки. Осколки рвут кожу, углами торчат всюду. Все изломано и перебито. Над головой – голубой осколок неба. Деревья торчат острыми ветвями в воздух, и режут слух острые слова поручика.
– Я ухожу.
Широкую спину уходящего поручика догоняют колючие взгляды стрелков. Мацко вздрогнул: взоры стрелков уже врезываются ему в мясо, рвут.
– Поручик, я с вами!
Сущевский остановился. Он кажется большим, как гора.
– Идемте.
– Поручик, помогите, не оставляйте меня.
Одноколка стоит в стороне, уткнулась оглоблями в землю: спит.
– На одноколке бы…
Возница, тот самый, который домчал Мацко в лес, сказал злобно:
– Посмей только… Ишь, нашелся… Наше небось.
По лесу каждый шаг для Мацко – верста. Корни хватают за ноги; пни вырастают из земли; ветви рвут зеленую гимнастерку, желтые штаны, лиловую кожу на лице; воздух меж стволов оплетен паутиной. Все это для того, чтобы Мацко упал.
Мацко не падал.
Только бы не стонать. С каждым стоном из тела уходит сила. Сцепить зубы и двигать ногами вперед, вперед.
Если корень – нужно поднять ногу повыше; если пень – обойти. Какой большой и темный лес! Долго ли идти? Поручик шагал, опустив голову. Обернулся вдруг:
– Хорошо еще, что не убили и оружия не отобрали. Могли и это.
И снова пошел.
Мацко в ответ только улыбнулся, и улыбка, дергая мускулы, долго и мучительно стыла на губах, пока не слетела, наконец, со стоном.
– Вам больно?
Мацко, остановившись, кивнул головой. Поручик стоял перед ним большой и сильный, как гора. Конечно, он сейчас подымет Мацко огромными своими неизломанными руками и понесет.
Поручик Сущевский повернулся и пошел дальше. Мацко постоял, ожидая. Где же руки, которые понесут его? Нет рук.
– П… по…
Поручик исчез меж темных стволов, и тело Мацко от страха задрожало межой дрожью. Он заторопился, подымая ногу и перекидывая ее через корень. Зачем столько корней и пней и деревьев?
Все цепляется, рвет, душит. И осколки бьются и колют в груди.
Сжав кулаки, Мацко двинулся быстрей. Вот широкая спина Сущевского. Он стоит и ждет, развернув полевую карту.
– Вы не можете скорей? Нам далеко, версты три еще до ближайшей деревни. Там наши.
Пока он разглядывал полевую карту, Мацко не двигался, наслаждаясь тем, что он может стоять неподвижно, может быть, даже сесть. Поручик свернул полевую карту. Мацко, чтоб хоть полминуты еще не двигаться, разжал губы и пропустил вопрос:
– А… а как… зовется деревня?
– Батрашкино.
Мацко обдумывал, какой бы еще вопрос задать. Но темные волны бились в голову, шумели в ушах и застилали зрение. И упорный глаз увидел: поручик Сущевский уходит.
– А… тут… нет дороги?
Поручик, обернувшись, бросил:
– По дороге опасно. Разъезды.
Мацко, скрепившись, пробирался вслед за поручиком.
Осколки бьют в грудь – и от них эта дрожь вокруг, и наплывающая тьма, и рожи, усмехающиеся с ветвей.
Рухнула гора, и он, осколок, катится во тьму, туман и боль. Шатается и царапается все вокруг. Быстрей, быстрей, – вниз – сквозь тьму, туман и боль.
И все оборвалось вдруг, так неожиданно, что Мацко упал ничком и закричал от страха и оттого еще, что грудь его задребезжала, и по телу прошлась тысяча ножей, полосуя мясо.
Увидел на рукаве гимнастерки темно-красный сок и стих: кровь. Значит, конец.
Но это была черника.
Мацко лежал на поляне.
Поляна обросла кустами крупной черники, и меж гроздьев черной ягоды белели, качаясь от теплого ветра, ромашки.
Поручик Сущевский опустился в траву, и черничный сок брызнул ему на китель и штаны. Он рвал чернику и горстями пихал в рот.
– Нужно идти дальше, – сказал он наконец.
Мацко лежал на животе перед ним.
– Я не могу.
– Вставайте, еще немного.
– Не могу.
– Сделайте над собой усилие.
– Не могу.
И Мацко глядел на поручика в ожидании. Конечно, он сейчас возьмет его на руки и понесет. Сущевский сказал:
– Не могу я вас нести. Я сам еле двигаюсь. Двое суток не жрал.
– Вы…. еле…
– А вы что думали? Железный я, что ли?
– Врешь.
– Что врешь?
Нужно объяснить: ведь у поручика тело не изломано. Если он, Мацко, прошел столько, когда у него не грудь, а осколки, когда… Но говорить трудно. Можно только повторять бессмысленно:
– Врешь.
Поручик Сущевский ел чернику, пачкая темно-красным соком губы.
– Встаньте или оставайтесь здесь. Подберут. Я из деревни пришлю.
– Врешь.
– Что врешь?
– Все врешь.
Поручик Сущевский вскипел вдруг.
– Я из-за тебя, сволочь этакая, сколько времени потерял! Разве без тебя так медленно шел бы? Я б давно в деревне кашу жрал.
– Врешь.
– Вот добью тебя, – так…
Поручик Сущевский повернул спину и пошел. Он – не гора: человек. И от него – тьма, туман и боль. Куда ушел. Зачем? Оба – и Мацко, и Сущевский – люди.
Мацко с трудом повернулся на левый бок и, не спуская глаз с поручика, вытянул из кобуры револьвер. Прицелился, опустил дуло и снова поднял. Дышал он тяжело и трудно.
Поручик Сущевский, пройдя поляну, у опушки, шагах в двенадцати от Мацко, остановился, будто решив что-то.
«Добьет», – подумал Мацко и спустил курок.
Сущевский охнул так, как охает, споткнувшись, полнокровный мужчина. Нога у него зацепилась за ногу, он пошатнулся, но, сжав губы, остался на ногах.
– Сволочь, – хрипнул он.
Струйка крови, смывая черный сок, потянулась из чуть раскрывшихся полных губ по толстому подбородку, к шее, за ворот кителя.
Мацко выстрелил вторично. Поручик Сущевский, качнувшись, упал на колени, руками удержался о землю. Так стоял на четвереньках и дышал громко и хрипло; как простуженная лошадь.
Мацко спускал курок уже разряженного револьвера, целя туда, где ворочалось грузное тело поручика Сущевского, и не мог остановиться.
Потом отбросил револьвер и долго полз по поляне к поручику. Тот лежал ничком, подвернув правую руку под живот. На левой руке, откинутой в раздавленную черняку, рукав зеленого кителя задрался, и на широкой полной кисти золотилась густая и мягкая шерсть.
Мацко склонился над ним. Лицо у Мацко – белое, точно тертое мелом, и на белом еще чернее кажутся проступившие на щеках, подбородке и над верхней, чуть вздернутой к носу губой волосы.
Поручик Сущевский перевернулся на спину так неожиданно, что Мацко вздрогнул, отодвигаясь. Поручик глянул на Мацко и прошелестел толстыми губами что-то неслышное. Он думал, что Мацко понял его слова:
– Сволочь, я для того остановился, чтобы взять тебя на руки и понести, сукин ты сын…
И, подумав это, поручик Сущевский умер.
Мацко от усилий и напряжения уткнулся в живот Сущевскому. Он очнулся в санитарной двуколке. Двуколка стояла на месте.
Он думал, что очнулся впервые после того, как взлетел на воздух, кинутый тяжело дышащим снарядом. Он помнил только поросшее длинным рыжим волосом копыто коня и простонал:
– Доктора…
Холщевые полотна впереди раздвинулись, пропустив с козел обросшее бородой и прыщами лицо. Вот и вся голова всунулась внутрь, и на фуражке Мацко увидел красную звезду.
Санитар поглядел на Мацко и сказал:
– Ишь, дитё несчастное.
1922
Николай Тихонов
Вилла «Мечта»
Шестьдесят голых всадников проехали к морю мимо старухи. Старуха отвернулась. Гусарские фуражки были заломлены набекрень. Впереди ехал голый офицер, за ним голый трубач с трубой на перевязи.
Старуха прошла мимо пустого, брошенного отёля. Семьдесят дверей хлопали на разные голоса. В нем распоряжался ветер.
С моря нарастал шум сосен, высоких и прямых сосен лифляндского побережья. Если вслушаться в этот шум, то из-за него то приближалось, то удалялось некое бурчанье. Это разрасталась артиллерийская дуэль где-то около Шлока.
Старуха все шла. Из всех садов на нее удивленно, как на беспорядок, смотрели лошади. Во всем обширном курорте жили кавалеристы.
Старуха открыла облупленную калитку со сломанным замком и остановилась, качая головой. Широкий двор зарос маленькой мягкой травой. По клумбам сада бродили две лошади. Гусар команды связи Пантелеев, не торопясь, рубил на дрова кушетку красного дерева с истерзанным нутром, со споротой обивкой.
Увидев старуху, он прекратил свое ленивое занятие и спросил:
– Что надо, мамаша?
– Я не мамаша, – ответила старуха, нахмурившись, и надменно блеснула узкими выцветшими глазами. – Я мадам Гойер.
Она вынула из черного ридикюля вчетверо сложенную бумажку. Пантелеев долго читал ее.
В этой бумажке было написано, что штаб фронта разрешил ей, мадам Гойер, проехать в этот курорт, расположенный в двадцати километрах от передовой линии, чтобы она имела возможность осмотреть принадлежащую ей виллу «Мечта».
– Что ж, пройдемте, – сказал Пантелеев, кончив чтение, отложил топор и зашагал к дому.
Она открыла дверь в зал и отшатнулась. Синее облако махорочного дыма набежало на нее. В зале из самых разных сочетаний мебели, остатков кресел, столиков, кушеток были сооружены постели. На этих постелях лежали свободные от нарядов гусары. Все они курили. Старуха стояла, задыхаясь в дыму, и страшными глазами обводила зал.
Гусары от неожиданности сели на своих адских ложах. Как приведение из черного шелка, стояла надменная, разгневанная старуха: не хватало клюки, чтобы она застучала о пол. Да, от мебели в вилле «Мечта» осталось немного.
Десять по-разному раздетых мужчин захохотали, как один. Старуха, трясясь от негодования, ударила дверью и стала подниматься в библиотеку.
Кучи заплесневевших переплетов возвышались посреди комнаты. Полки исчезли. Крысы грызли книги. Они разбежались неохотно. Старуха энергично наклонилась и рукой в лайковой перчатке начала рыться в книгах. Она рылась долго, она не могла найти того, что хотела.
– Куда девались книги? – спросила она, закашляв.
Пантелеев подмигнул ей, как будто приглашал ее на танец.
– Господа офицеры, – сказал он, – ходили тут, почитать себе выбирали… на память… Те, что поинтересней…
Она увидела, что иные книги обожжены, как будто из них хотели складывать костер.
Пантелеев поймал ее взгляд.
– Зол наш брат, – сказал он, – вины его нет. Читать он тоже обучен, возьмется, а тут все немецкое, английское, французское. Барское все чтение. Ну, от голода, что читать нечего, и рванет…
Большая крыса вышла из угла. Старуха пошла к двери. На кухне сидел рыжий Титов, чистил картофель и длинные, узкие коричневые ленты шелухи бросал через плечо к ее ногам. Старуха стала синей от злости. Она положила руку на дверь в комнату, где жил Курмель.
Пантелеев сказал тихо: «Не надо его тревожить», – он избегал называть старуху барыней.
– Это моя любимая комната, – сказала старуха.
Дверь открылась. Солнечный свет заливал три больших зеркала, играл на причудливых завилинах хрустальных фужеров, на китайской эмали ваз…
Курмель стащил к себе в комнату все это великолепие, но сам он был не менее великолепен. Он горел в жару. Лицо его, точно налитое клюквенным морсом, качалось над подушкой. Он тихо подвывал. На румынском фронте получил он странное ранение. Пуля пробила руку. Рану сочли легкой, но время от времени рука чернела от страшной боли. Он катался по кровати, не помня себя.
Старуха увидела под зеркалом кучу безделушек: фарфоровых мосек и слонов, чашки и мундштуки. Она потянулась за ними с жадностью, поразившей Пантелеева.
И тогда Курмель вскочил в: разорванной рубахе, в синих гусарских рейтузах с желтыми леями, босиком, маленький, черноволосый, с блуждающими глазами.
– Все! – закричал он, наступая на старуху.
Пантелеев не успел перехватить его.
Старуха сказала, почернев, смотря на него сверху вниз:
– Я в моем доме. Это все – мое. И никто не может препятствовать мне. Молчать!..
Казалось, она иссякла. Пот выступил на ее лбу, невысоком и желтом.
Курмель секунду смотрел невидящими глазами. Ураган ярости подбросил его истощенное болью тело.
– Молчать? – закричал он. – Как молчать? Да знаешь ли ты, – кричал он старухе, не помня себя, – я четыре раза был на комиссии, и меня не отпускают. У меня рука гниет заживо, а ты тут… Я три года…
Он задохся, затем прыгнул к кровати, выхватил шашку из ножен и ударил по зеркалу. Водопад сверкающих осколков упал на кровать. Он ударил с грохотом по другому. Старуха стояла, прислонившись к косяку. Курмель прыгал между кроватью и окном и рушил все. Уже вазы, разбитые, валялись под столом, уже от божков остались толстые, с острыми краями кусочки, уже слонов и мосек обратил он в пыль, он не пощадил бы и окна, но припадок боли охватил его, как пламя. Он застонал, выронил шашку и упал головой на свернутую шинель. Шашка лежала у ног старухи.
Пантелеев тихо поднял ее, провел зачем-то по клинку рукой. На руке остался след от масла. Он вложил шашку в ножны, повернулся к женщине и взял ее за локоть. Старуха отвела его руку и вышла из комнаты.
– Защитники отечества, – сказала она ядовито посинелыми губами, – воры, пьяницы, дикари, так вы защищаете нас… Хороша армия… Это вам не пройдет, голубчик… Я буду жаловаться сегодня же, я буду жаловаться… Ваши фамилии все будут у меня в памяти… Я буду жаловаться…
Пантелеев не отвечал ей. Он шел впереди. Старуха еле поспевала за ним.
– Жаловаться, – повторяла она, как заклинание, – жаловаться…
Точно только сейчас до сознания Пантелеева дошло, что она говорит. Он взялся за ручку маленькой, узкой двери и остановился.
– Жаловаться, – грустно сказал он, – что же, можно и жаловаться. Вы еще тут не посмотрели, барыня… – Первый раз он назвал ее: «барыня».
Он открыл дверь. Они вошли. Она не могла сразу понять, в чем дело. Перед ней сияли небо и зелень, как будто она уже стояла на дворе, а не в комнате. Она видела лошадь, бродящую по саду, растоптанные клумбы, траву и не могла отдать себе отчет. Потом она поняла. Весь угол дома был оторван. Могучая рука оторвала его и превратила в мусор.
Два дня назад в курорт пришел артиллерийский обоз. Немцы узнали о нем с самой быстрой точностью, но они все же опоздали. Обоз ушел ночью, а на рассвете налетели и бомбили по всем направлениям. Одна из этих бомб оторвала угол дачи и тяжело ранила спавшего гусара Кудрина.
Врач посмотрел его и не велел трогать раненого.
Старуха обернулась на хрип. В противоположном углу, на груде сбитых потников, с седлом под головой умирал Кудрин.
Шинель закрывала его до пояса. Руки его ползали по ее воротнику, точно искали, на месте ли петлицы. Из оскаленного рта выбегала струйка пены. Глаза его были устремлены в пролом.
Старуха с остановившимися глазами тяжело дышала.
– Жаловаться, что ж… – сказал тихо Пантелеев. – А кому мы будем жаловаться?..
Старуха села на подоконник, завороженная смертельной борьбой. Кудрин начал растягиваться. Ему не хватало дыхания. Он протянул руки назад, оперся на них, и страшный поток брани вместе с потоками крови вылетел из его горла. Пантелеев бросился к нему.
Старуха пробежала через дом и, прыгая через две ступеньки, уже бежала по саду. Она не знала, куда бежать. Она повернула в другую сторону, где был совсем разломан забор, где была площадка ветеринарного госпиталя. Старуха чуть не сбила с ног вахмистра Гладких. Он начищал сапоги до того нестерпимого блеска, когда сапоги кажутся белыми. Он шел на свидание к Марте, единственной девушке, оставшейся в курорте, за которую боролись все драгуны и гусары. Сегодня была его очередь.
Увидев старуху, он захохотал искренним смехом здорового человека.
– Эх, разобидели ее гусары, – сказал он громко. – Что значит, давно мяса не видели…
Старуха в ужасе обежала конскую тушу, оклеенную черными струями мух.
– Ишь, кокетка! – сказал вахмистр, принимаясь снова за щетку.
1934








