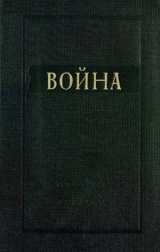
Текст книги "Война"
Автор книги: Михаил Зощенко
Соавторы: Лев Славин,Николай Тихонов,Виктор Финк,Михаил Слонимский,Юрий Вебер,Семен Розенфельд,Николай Брыкин,Кирилл Левин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 52 страниц)
Антон Ульянский
Кривым путем
1День первого мая девятьсот семнадцатого года для Альфонса Вейнерта, силезского крестьянина, ознаменовался волнениями. В этот день из Берлина пришла открытка с точным обозначением вокзала и поезда, к которому его сын Адальберт должен был явиться, чтобы отправиться с батальоном на фронт. Это значило, что все хлопоты, предпринятые для оставления его в тылу, неоднократные поездки к окружному начальству, несколько докторских свидетельств, удостоверявших наличие у Адальберта наследственного порока сердца, и даже глубокий порез пальца, полученный – возможно, не намеренно – при разборе жнейки, все это оказалось недостаточным, чтобы задержать его отправку и на один день.
Другим событием в этот день было появление во дворе Вейнерта фельдфебеля из инспекции военнопленных, приведшего с собой какого-то хилого, малосимпатичного, чернявого русского пленного и предъявившего бумажку, по которой новый пленный должен был оставаться в хозяйстве Альфонса, а взамен его фельдфебель уводил одного из пятерых русских, работавших у Вейнерта уже второй год. Альфонс должен был сам решить: кем из пятерых он согласен пожертвовать, и эти размышления и споры с фельдфебелем заняли несколько часов и стоили ему волнений.
Трое из пленных – крестьяне-пермяки, косари и силачи – были с самого начала исключены из обмена.
Четвертый, кавказец, не косил, но годился на многое и, между прочим, чтобы стоять у мотора во время молотьбы и подливать бензол. Пятый, тоже кавказец, был хорош как кучер при выездах в коляске: нигде в округе Альфонс не встречал кучера, который сидел бы так прямо и с такой истуканской неподвижностью. Альфонс все-таки, в конце концов, решил пожертвовать приятным полезному и согласился выдать пятого, который был вызван с работы и без особых разговоров уведен фельдфебелем со двора.
Новый пленный во время переговоров стоял в стороне, с утомленным и безучастным лицом, хотя Альфонс не однажды вперял в него негодующий взор, оценивая его силу и годность к работе. Хуже всего была отметка в его бумаге, что за ним уже числится один неудачный побег с работы, в то время как из пленных Альфонса еще ни один не бегал, и новый пленный мог испортить остальных. Замечание фельдфебеля, что едва ли он решится бежать еще раз, ибо достаточно проучен и за первую попытку, совершенно не успокоило Альфонса. Оставшись, после ухода фельдфебеля, наедине с новым пленным, он еще раз с негодованием оглядел его, придумывая, на какую бы работу его послать.
– Кюе путцен! – вскричал он, багровея, ибо из осмотра лишний раз убедился, что новый пленный ничего не стоит и годится разве в стойла чистить коров. – Кюе путцен!
– Кюе путцен! – в восторге подхватили дворовые ребятишки, следившие за этой сценой через окна и не удержавшиеся от удовольствия передразнить громовые интонации Альфонса.
Они обступили нового пленного любопытной, но дружелюбной толпой, провели его в коровник, где более полусотни коров томились на цепях, дали штригель и щетку и поставили на место, объявив, что они дадут ему знать, когда Альфонс или Марта покажутся вблизи, а до той поры он может не надсаживаться.
Альфонс, проводив нового пленного глазами, расстроенный вернулся в дом, собираясь отдохнуть. Он был тучен, всякие волнения были для него гибельны, неудачный обмен рабов надолго разбередил его. Он хотел прилечь, но еще одна неожиданность помешала ему. Это был Гуго Шуберт, пришедший наниматься в работники и терпеливо ждавший, пока Альфонс покончит с более важными посетителями.
Гуго Шуберт провел десять лет в чужих краях, состарился и теперь вернулся в Козельберг, чтобы жить на родине. Альфонс не сразу узнал его. Когда-то Гуго считался красавцем и задирой, – об этом сохранились воспоминания, – однако странствия и жизнь на чужбине сильно изменили его: сейчас это был высокий, сутулый человек, с сединой в волосах и следами сифилиса на лице, смирившийся перед жизнью, в присутствии Альфонса не надевавший шапки и почтительно моргавший вывороченными веками.
Гуго Шуберт явился кстати: во время войны взрослые работники всегда были кстати, особенно весной, и Альфонс с места дал понять, что возьмет его. В сущности Гуго делал Альфонсу честь тем, что явился именно к нему, ибо его так же легко взяли бы и у Криштофа и у Гауке. Подумав, можно было догадаться и о причинах этой чести: не было ли это желанием работать в одном дворе с Каролиной, той самой Каролиной, из-за которой он когда-то и отправился странствовать и которая два последние года вдовела?
Эта мысль нашла себе подтверждение, когда речь зашла о помещении для Гуго. Комната рядом с конюшней, где ночевали Шульц, Корль и другие одинокие работники Вейнерта, на ближайшее время удовлетворяла Гуго, но в дальнейшем он рассчитывал получить отдельную квартиру. Альфонс не стал особенно расспрашивать, зачем ему нужна отдельная квартира, и сказал, что квартира найдется. На этом разговор с Гуго кончился, он взял по обычаю от Альфонса два старых серебряных талера как знак найма. С завтрашнего дня он должен был начать работать.
Альфонс Вейнерт жил по часам. Он не признавал летнего перевода стрелки на час вперед, и все его рабочие также были обязаны не признавать его. До шести утра и между двенадцатью и часом пленные могли сидеть на кухне, пить сахариновое кофе или обедать, и Альфонс не требовал, чтобы они в это время интересовались чем-либо происходившим снаружи. Но ровно без двух минут в шесть и без двух минут в час он выбегал на середину двора и выкрикивал расписание предстоящих работ: кто на какое поле пойдет, какую лошадь запряжет, какие вилы и из какого сарая возьмет. Расписания были сложны, как диспозиция перед боем, и произносились громовым голосом, который раскатами отдавался в многочисленных, перенумерованных, пустых перед жатвой сараях.
Это было что-то вроде ежедневного богослужения, ибо не только пленные, но и немцы-работники плохо понимали его отрывистый крик, и дело шло без запинки главным образом потому, что люди, работавшие на его полях, знали, чего можно ожидать на каждый день, и понимали все с полуслова.
Ровно в шесть и ровно в час начиналось движение пеших рабочих в поле, за ними выезжали конные. Сам Альфонс скрывался в дом, чтобы окончить еду, а затем выходил в поле смотреть, как выполняются его приказания. Он наблюдал, распоряжался, взбадривал работников, уличал их в нерадивости, очень редко высказывал им свое удовольствие. У него была привычка появляться внезапно в самых неподходящих местах. Говорили, что прежде от него нигде не было спасения, но с годами тучность и одышка умерили его рвение. Случаи нерадивости и глупости слишком волновали его, и на многое он теперь сознательно закрывал глаза, уходя из неприятного места с багровым лицом, хватаясь за сердце, но не говоря ни слова.
2Нового пленного звали Костей. Товарищи также называли его «сержантом», ибо на войне Костя был унтер-офицером, но употребляли этот термин скорее в ироническом смысле. Он представлял собой яркий пример беспомощности городского человека в деревенском быту. То, что ему поручалось, он старался выполнить, не любил стоять без дела и потел больше всех во дворе, но каждый пустяк ему давался с трудом. Альфонс полагал, что он просто глуп, и приближался к нему со страхом, всегда ожидая от него поводов для волнений.
Среди лошадей Альфонса имелись два молодых шиммеля, коричневых, совершенно одинаковых, отличавшихся только тем, что один и» них был чуть-чуть побольше другого. Любой мальчишка во дворе Вейнерта с первого взгляда различил бы, какая именно из них побольше и какая поменьше, только не Костя, который, если ему случалось получить от Альфонса приказание: «запрячь маленькую» – попадал в затруднительное и смешное положение. Он шел в конюшню, по дороге проклиная себя за то, что никак не может запомнить: справа или слева стоит маленькая? Он подходил к лошадям и, напрягая всю свою зоркость, оглядывал их сзади и сбоку. Он убеждался через момент, что лошадь справа была заметно меньше левой, и уверенно брался за правую цепь. Но, прежде чем вывести лошадь, он хотел еще раз убедиться в своей правоте, заходил с другого бока, снова оглядывал лошадей, – и его уверенность исчезала. Странным образом ему начинало казаться, что лошади совершенно одинаковы, вернее даже – левая лошадь не больше, а меньше правой. Он падал духом, привязывал правую лошадь на место, топтался в стойле, звонил кольцами и симулировал какую-то деятельность.
– Где вы, Костиа? – рычал со двора Альфонс. – Или лошади съели вас? Поторапливайтесь, выводите маленькую.
– Ее надо почистить, – кричал Костя в отчаянии и, чтобы протянуть время, хватался за щетку.
– Мой бог! – удивлялся Альфонс, появляясь в дверях. – Зачем вам чистить левую лошадь, если запрягать надо правую?
Или: Костя маленьким плужком на смирнейшем Фрице опахивал бурак, а Альфонс стоял рядом и изнурял его поучениями. Среди бурака местами торчали стебли красного мака, и требовалось смотреть, чтобы плужок, ерзая, не срезал маков, которые у Альфонса были на счету.
– Следите за тремя вещами, Костиа, – однотонно повторял Альфонс: – чтобы лошадь шла по самой середине борозды, чтобы она не наступала на растения, чтобы она не забрасывала их землей. Это так просто, Костиа. Всего три вещи, за которыми надо следить: чтобы лошадь шла по самой середине борозды, чтобы она не наступала на растения, чтобы…
Однако поучение, повторенное с десяток раз, приводило как раз к противоположному результату, и Костя, вначале пускавший лошадь довольно прямо и удачно обходивший опасные места, кончал тем, что загонял плуг вкось и сбивал маки самым бессмысленным образом. Альфонс хватался за сердце, поворачивался и без слов, отходил.
Был также случай с картошкой, который плохо повлиял на репутацию Кости. Картошка в огороде при доме была посажена гораздо раньше, чем на поле, и уже успела высоко прорасти к тому дню, когда на поле лунки только заваливали землей. И когда на следующий день Альфонс сказал Косте полоть картошку, он никак не мог предполагать, что Костя пойдет не на огород, а именно в поле, и будет там бродить вдоль черных гряд, вытаскивая случайные травинки. Застав его за этим занятием, Альфонс серьезно усомнился в его умственных способностях. Даже собственные товарищи Кости, другие русские пленные, знавшие, что Костя не дурак, но, как городской человек, до войны служивший на телеграфе, мало что понимает в крестьянстве, – даже они, узнав о случае с картошкой, посмотрели на Костю по-новому. Они и прежде по разным поводам подтрунивали над ним и уже привыкли к тому, что по утрам он никогда не помнил, где с вечера оставил вилы, но идея полоть картошку на другой день после посадки была чересчур глупой даже для бывшего телеграфиста.
– Вот что, сержант, – оценив положение, сказал Косте пермяк Никита: – если останешься у Альфонса до осени, много горя примешь…
– Рад бы не оставаться, – отвечал Костя уклончиво, – да ведь меня не спросят…
Жест выражал покорность судьбе, но в глазах товарищам почудилась неискренность. Они знали, что за Костей числится побег, знали также, что человек, бежавший один раз, не остановится и перед новой попыткой, и едва ли могло быть, чтобы Костя не думал об этом.
– Держись около нас, – сказал ему другой русский, Игнат. – Там, где трое работают, четвертый может крутиться…
Это звучало как обещание дружеской поддержки, обещание, и без того ежедневно десятки раз выполнявшееся на деле, – и в то же время обидно обнажало действительную сущность отношений – они работают, он крутится.
Его только интересовало, куда в их расчетах девался еще один пленный, кавказец Гурген, который при молотьбе становился к мотору: работал ли он или тоже крутился?
Мнение Альфонса на этот счет также было совершенно определенное.
– Я кормлю пятерых, а работают у меня трое, – воскликнул он однажды, беседуя с фельдфебелем, вновь посетившим его. – Четвертый бывает полезен. Но пятый… Ради бога, за какие преступления вы посадили мне на шею этого пятого?
Итак, как ни старался Костя, то, что он делал на дворе Вейнерта, ни на чьем языке не называлось работой. Поняв это, Костя осел. Он потел по-прежнему, но только чаще стал посматривать на горы вдали, за которыми была Австрия, первый этап всех побегов из этой части Германии.
Чаще всего Альфонс посылал Костю работать вместе с женщинами – полоть пшеницу или на картошку и бурак. С женщинами Костя чувствовал себя уверенно: они знали, когда надо поработать и когда можно присесть, знали, с какой стороны следует ожидать Альфонса и на какое количество работы он в праве рассчитывать.
Из женщин самая немолодая звалась Аннемари. У нее была крошечная фигура и ревматические ноги, и, когда в подоткнутой юбке, не сгибая колен, она шла по полю, она была похожа на блеклую фарфоровую пастушку, подвигавшуюся голландским шагом на невидимых коньках. Ей было пятьдесят шесть лет, но и в пятьдесят шесть лет она все еще краснела при упоминании о том, что у нее есть дочь, ибо родила ее лет тридцать назад, не будучи замужем. Дочь жила через несколько станций от Козельберга, и у нее давно уже были свои дети. Аннемари навещала их, но свои поездки обставляла тайной. Семейству ее дочери отдавалась и большая часть хлеба, который она зарабатывала у Альфонса. Сама она жила впроголодь. Костя видел, как однажды она подняла с земли сальную бумажку от бутерброда.
– От нее пахнет мясом… – говорила она, блаженно принюхиваясь. – Какая прелесть…
Аннемари знала историю каждого двора в Козельберге и могла бы многое рассказать, если б была в состоянии доводить свои истории до конца. Из ее рассказов ничего не выходило, потому что обычно одни ее истории на середине перекрещивались с другими историями и одни и те же имена начинали играть роль в событиях противоположного характера.
Когда Аннемари начинала путать, другая женщина, беленькая Каролина, которая по годам могла бы быть ее дочерью, резко поправляла ее. Казалось, путаница в рассказах Аннемари причиняла Каролине физическую боль, и чем дальше заходила путаница, тем больше страдания было на ее лице. И Аннемари, робевшая от окриков, привыкла, рассказывая что-нибудь, глядеть ей в лицо, и, в зависимости от его выражения, рассказ ее то шел бойко, то с заминками, то обрывался совсем. Без одобрения Каролины то, что рассказывала Аннемари, было недействительно.
Точно так же, если во время работы Аннемари говорила, что пора присесть отдохнуть, это еще не значило, что все действительно последуют ее приглашению и сядут; требовалось узнать, что думает Каролина, и, если Каролина находила, что отдыхать рано, работа продолжалась. Если же сама Каролина говорила, что пора отдохнуть, никаких одобрений ни с чьей стороны больше не требовалось.
Каролина в тридцать пять лет была не лишена приятности. Спереди у нее не хватало зуба, и это портило ее общий облик маленькой белой мыши. Сохранившаяся у здешних женщин манера подпоясываться двумя ремнями – одним повыше, другие пониже талии – также не шла ей, ибо собственно талии у нее уже не было. Остроконечная соломенная шляпа с козырьком для глаз, надеваемая для работы, была ей не по фигуре велика. Зато синие глаза, глядевшие из-под козырька, привлекали печалью и задумчивостью и делали ее существом более поэтическим, чем остальные женщины.
Возможно, именно ее грустные глаза понравились Игнату, одному из русских пленных, или же его привлекала в ней ее вдовья степенность. Он выделял ее среди других женщин. Он ничего не имел против, когда стряпка Хедвиг сошлась с Никитой, его однодеревенцем, не обратил внимания, когда работницей-полькой завладел кавказец, но показывал зубы, если видел чьи-либо поползновения в сторону Каролины.
Костя однажды на себе испытал, что значит, когда Игнат начинает злиться. Костя знал немного по-немецки и однажды завел с Каролиной разговор, невинный, но которого Игнат не понимал. И вот неожиданно на него обрушилось столько окриков по работе, столько обидной правды, такая злоба была во взгляде Игната, что Костя опешил. Товарищи объяснили ему, в чем было дело.
По-видимому, Игнат не признавал легких отношений и любви на время и с места стал смотреть на Каролину как на свою жену. Сам он, в его теперешнем положении, был парией, бесправным существом, которое ежедневно под конвоем приводилось на работу, а вечером тем же порядком уводилось в казарму на ночлег. Цена ему была кроме харчей, – двадцать пять пфеннигов, или двенадцать с половиной копеек в день. Он был обязан молчать, во всем зависел от конвойного, носил платье с арестантскими вырезами и номером на груди, был придатком к паре собственных рук, которые в сущности и обозначались его именем и фамилией. Но впоследствии, с окончания войны, эти самые руки должны были открыть ему дорогу куда угодно, и он только не знал, повезет ли он Каролину с собой в Россию или останется с ней в Германии.
Странная была эта любовь, где любовники уже второй год объяснялись взглядами и жестами или же словами будничными и самыми грубыми, – ибо грубые слова – первое, что постигается в чужом языке, – где все разговоры происходили на людях во время работы, а для встреч наедине оставались минуты во время обеденного перерыва, если путь в комнату Каролины был свободен.
Разговор с Каролиной, из-за которого чуть не пострадал Костя, а также другие его разговоры с женщинами объяснили ему, в чем собственно заключалась грусть, так таинственно отражавшаяся в ее синих глазах. Каролина грустила, что осталась одна, с семилетним Фрицем. Она чувствовала себя беспомощной в настоящем, ее беспокоило будущее. В плохую погоду она говорила, что наверное прежде в такой день ей незачем было бы выходить в поле, что работал бы муж, а для нее нашлась бы работа и дома. Каждую пятницу она по утрам вспоминала, что замужние работницы в эти дни не выходили в поле: по пятницам до обеда им полагалось печь хлеб в альфонсовой печи, ибо паек у Альфонса они получали мукой, а не готовыми караваями, как одинокие работники. Ей не полагалось ни болеть, ни лениться, она должна была каждый день идти, куда скажет Альфонс, между тем она была хрупка, и сил у нее становилось все меньше.
Игнат, с его привязанностью, был ей дорог, – но все, что касалось Игната, ей представлялось фантастическим: на что можно положиться, когда человек даже не может рассказать словами, чего он хочет, и только показывает рукой, что когда-то они вместе куда-то уедут? Между тем Каролина никогда в жизни не выезжала из Козельберга, даже на ярмарку в окружной город ходила не каждый год, и широкий жест Игната не умещался в ее голове.
Кроме того, ее беспокоил Гуго. Она знала, что он не спроста поступил работником к Альфонсу, догадывалась о его планах и страшилась их. Они казались ей невозможными, но она чувствовала себя беспомощной против них.
Если Каролина, с ее грустью, напоминала безобидную беленькую мышку, то ее сестру Берту, жену коровника Винтера, также нередко выходившую в поле, скорей можно было бы сравнить с матерой серой крысой, разгуливающей на задних лапах. У ней были крысьи глаза и крысьи повадки. Во дворе Альфонса она была главным вредителем его добра. Разнюхивать, похищать, урывать что-либо из его богатств, по мелочам перетаскивать в свою нору – было ее ежедневной потребностью, хотя бы это была лишь связка мелких полешек из его сарая, мерка картошки из погреба или огурец с его гряды. Огурец прятался в карман, по карманам же распихивалась картошка, поленья укладывались в сноп соломы и на глазах Альфонса перетаскивались через двор в коровник, откуда затем переходили по назначению.
Более серьезные дела начинались, если ее ставили к веялке. Тогда вместо полешек в снопы увязывались узкие мешочки с зерном, и дело грозило бы тюрьмой, если б сноп по дороге через двор развязался. Говорили, что операции Берты с зерном в предыдущий год приняли широкие размеры, один из пленных, обмененный кавказец, тот самый, который умел править лошадьми, сидя как палка, был ее помощником. Рассказывали даже о целой подводе с зерном, ловко среди дня вывезенной на мельницу. Гурген, товарищ обмененного, намекал, что когда-нибудь, уезжая в Россию, он расскажет обо всем Альфонсу. До тех пор Берта могла быть покойной. Никто из работников не путался в ее дела.
Среди двора у Альфонса стояла башня для птиц: внизу жили куры и утки, вверху голуби. Сам Альфонс лишь в редких случаях ел своих кур; он считал, что они ему не по средствам, для него резали голубей. Между тем, пересчитывая кур, он убеждался, что число их убывает. Это было делом рук Берты, которая находила, что ей альфонсовы куры как раз по средствам, и между двумя похищениями не делала больших промежутков. Альфонс догадывался о причинах убыли, наливался кровью, но не подымал шума, избегая волнений. Десятые, двенадцатые доли похищенного расходились по рукам, – Берта знала, куда и что рассовать, – все делались ее соучастниками и помалкивали.
В практике Берты были также случаи откровенного озорства. Она не только срывала огурец с гряды, но и вырывала с корнем побеги, доводя до слез Марту, жену Альфонса, которая никак не могла понять такой дикости.
Даже сам коровник Винтер, ее муж, невозмутимо наблюдавший за всеми ее делами, сделал ей по этому поводу замечание.
– Пустяки, – ответила Берта, – Альфонс не обеднеет. У него много…
И засмеялась вынужденным, полузадушенным смехом, не давая мужу продолжать.
Шутливые отговорки и вынужденный смех часто были ее единственной защитой, если против нее выдвигались обвинения.
– Ты плохая женщина, – кричала ей однажды в ссоре какая-то работница. – Ты портишь двор. Ты хуже всех…
– Неужели хуже меня нет? – отшучивалась Берта. – Бедная я грешница…
Костю она также не оставила без внимания и попыталась приручить его к себе.
– Костя, – подошла она к нему однажды, – я заметила: ты ходишь в амбар за овсом для лошадей. Альфонс дает тебе ключи?
– Да, – ответил Костя, удивляясь теме разговора, – я иногда хожу в амбар…
– В амбаре у Альфонса много зерна, не правда ли?
– Да, – подтвердил Костя, – там много всякого зерна.
– А не мог ли бы ты, Костя, прихватить немного зерна для меня? Какую-нибудь горсть пшеницы или ячменя? Я бы сварила кофе. Я бы угостила и тебя, Костя.
– Во что же я его возьму? – уклончиво сказал Костя: разговор тяготил его, но оборвать его он не мог, чтобы не обидеть Берту. – Мне не во что взять зерно.
– А в карманы, милейший Костя, в карманы. Горсть утром, две горсти вечером, – ведь в конце концов из этого должно что-нибудь получиться?
Костя кивнул головой и промолчал, но ни разу ничего ей не принес. Зато он заметил, что если за овсом ходил Пауль, пятнадцатилетний сын Берты и ее даровитый ученик, он спускался оттуда с оттопыренными карманами и красным лицом. Пауль не был косым, но в этот момент глаза у него смотрели косо. По инстинкту, он шел прямо на Альфонса, чуть не задевая его. Альфонс сторонился, чувствовал неладное, багровел, но молчал.








