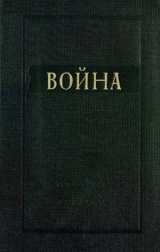
Текст книги "Война"
Автор книги: Михаил Зощенко
Соавторы: Лев Славин,Николай Тихонов,Виктор Финк,Михаил Слонимский,Юрий Вебер,Семен Розенфельд,Николай Брыкин,Кирилл Левин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 52 страниц)
По мосту, волной над волнами, с берега на берег, переливались солдаты. И бранное слово вставало над согнутыми спинами, подгоняя и остораживая.
А на этом, уже чужом берегу притихли конные разведчики, охраняя саперов. К утру мост через Вислу будет взорван.
Корнет Есаульченко даже не взглянул на бумажку из штаба: передал адъютанту. А сам уже в третий раз читает одну и ту же строчку: «Явись, пан!» И адрес. И мертвая рука подписала письмо: «Мариша».
Корнет Есаульченко отошел от берега подальше, зацепил рукой повод оседланного коня.
Еще раз прочел письмо, подписанное той женщиной, которую он убил. Или, может быть, он ее не убил? Может быть, показалось это только ему что: он убил Маришу?
Рыжий конь заржал, оскалив зубы.
– Не смейся, – сказал корнет и ударил его по носу. – Нельзя смеяться.
А конь захохотал еще радостнее.
Опустил голову офицер, подумал, оглянулся – тихо кругом. Повел коня в поводу, задумавшись. И когда снова поднял голову, уже не слышал и не видел товарищей. Поднес к глазам браслет с часами, – метнулись перед глазами светящиеся стрелки.
– Поспею, – решил корнет Есаульченко.
Вскочил в седло и поскакал в те места Варшавы, где улиц нет, где наворочены только одни переулки. Переулки эти достаточно широки для того, чтобы протянуть на веревке от дома к дому грязную юбку и сушить ее на солнце. Солнце только по получасу в день светит тут меж нагроможденных в беспорядке домов, и высокие крыши изрезали здешнее небо на узенькие и длинные полоски. И нехорошо подымать тут голову к небу: витает и льется в воздухе всякая дрянь и чернит лицо, шею и руки.
Корнет Есаульченко осадил рыжего коня, соскочил на землю, поднес к глазам письмо, оглядел дом и гулко стукнул стэком о стену. Из невидимой двери вылезла старуха. Один глаз у нее был прищурен и видел все. Другой оттопыривался, как стеклянный пузырь на бракованной посуде, и не видел ничего. Старуха мотнула рукой, зовя офицера за собой.
XIIКомната, в которой старуха оставила офицера, была, как гроб, длинная и узкая. Темно было, и офицер, держа руку у эфеса, ждал мертвую женщину, ловя слухом звуки, которые человек слышит только тогда, когда ничего не слышно. И в тот момент, когда с ясностью встали перед невидящими глазами офицера черты убитой им женщины, он ощутил в углу белую фигуру, скользнувшую в комнату сквозь темную, чуть скрипнувшую стену, и узнал Маришу. Но когда корнет Есаульченко бросился к Марише, та упала на пол, и корнет увидел перед собою длинную фигуру кандидата Кроля со свечой в руке. Сзади подталкивала кандидата мать Мариши:
– Иди, трус, пся кревь!
– Господин корнет явился. Кроль не скажет дурного слова господину корнету. Кроль просит: отдайте Маришу! Кроль хочет знать: где Мариша? Мать Мариши плачет: где Мариша? Господин корнет, – где?
– Тут, – отвечал корнет Есаульченко. – Разве ты не видишь? Вот она дрожит на полу.
И он указал саблей на белую фигуру, которая струилась по полу, убегая от желтой свечи в темноту.
– Кроль не понимает. Кроль не видит. Кроль не хочет шутить. Кроль не воевать хочет, а – раз, два! – женился, и мир кругом. Это я написал письмо. Я подписал – «Мариша».
– Врешь! Разве ты не видишь Мариши?
– Нет, – отвечал Кроль и оглянулся кругом.
Свеча дрожала в его руке.
– Нет. Господин корнет выдумывает. Господин корнет не хочет сказать правду. Тогда – раз, два! – господин корнет хотел Кролю саблей в ухо, а пулю в лоб господин корнет не хочет?
Кандидат Кроль отскочил в сторону, и от двери отделилась старуха, мать Мариши. И одноглазый револьвер взглянул в лицо офицеру.
Корнет Есаульченко кинулся к дрогнувшей Марише как раз вовремя для того, чтобы пуля пропела над его головой и, не встретив на пути человеческого тела, шмякнулась в стену.
– Вот Мариша, – сказал корнет Есаульченко.
Офицерская фуражка валялась на полу, глаза глядели неподвижно, волосы встали горой на голове, как шерсть у испуганной собаки.
– Вот она. Ты разве не видишь?
И медленно тянулся рукой к тому, что он видел, как пьяный, который ловит надоедливую муху.
Схватил. И свеча выпала из руки кандидата. И в темноте тяжко застонал Кроль.
А Мариша уже просвечивала в щель двери. Корнет загремел к ней саблей. На пути встала старуха.
– Прочь!
Кулаком в грудь отбросил старуху, вскочил на коня и поскакал к Висле. Поспеет ли? Мост взорван будет.
А на пороге дома лежала старуха, оттопырив стеклянное око, навсегда отразившее луну, и не отвечала на тяжкие стоны кандидата Кроля.
XIIIПоляки в щели ставней с испугом глядели на коня, налитого рыжей бронзой, который летел, распластав ноги и еле задевая землю копытами. От быстрого скока коня далеко назад отлетали дома, сады и парки. И врос в седло офицер без шапки, и сабля, отлетая назад, еле поспевала за быстрым поясом. И казалось, правой рукой он удерживает кого-то, сидящего в седле перед ним.
Уже влажные пары Вислы ударили в рыжие ноздри коня. Уже близко Висла. Но кроваво-черные полосатые вихри встали на пути. Железо, камень и дерево взлетели к небу, чтобы больно бьющими осколками осыпать землю и застлать землю дымом.
Рыжий конь, не изменив аллюра и даже не переменив ноги, радостно несся туда, где еще не рассеялся дым и еще не затих грохот.
Корнет Есаульченко, еле удержавшись в седле, что было сил, под огненным дождем, хлестнул стэком коня. Конь засмеялся, скаля зубы.
И вот офицер уже на берегу Вислы. Густо пахло копотью, и чернели сваи взорванного моста.
Оглянулся корнет. Позади чужой город. Впереди – проклятая польская река. Только теперь заметил он, как широка Висла.
Усмехнулся корнет.
– Господи, – сказал он, – ранен, контужен и за действия свои не отвечаю.
И рыжий конь унес его в тяжелые воды. А светлые клеточки и шарики, танцуя по воде, уже кончали бал.
Тогда Мариша взяла за руку корнета Есаульченко.
– Сподобает мне пан офицер за то, что никому не боится. Погубил пана рыжий конь – война. Слазь с коня, станьцуем в это бялое утро бялый мазур. И тьфу – кандидату Кролю.
– Идем, – отвечал корнет Есаульченко, сворачивая калачиком руку. – Только ведь у вас тут нужно по девяти раз сменять воротнички и манжеты.
И они пошли отплясывать белую мазурку туда, откуда не видно небо.
А рыжий конь, выплыв на русский берег, один, без всадника, понесся, блестя рыжей водой, на восток.
1921
Чертово колесо
В низине, влажной и пахучей, присели избушки. Это – деревушка Вышки. И от Вышек, сквозь леса и болота, бревенчатый путь, наскоро кинутый саперами. По этому пути пришли и осели в Вышках на зимний отдых солдаты и офицеры – остатки некогда славного полка. По этому же пути уйдут они, когда придет приказ воевать. Но приказа нет, потому что зимой наступать трудно. Солдаты зарылись в землянках, в поле, а офицеры расселились в деревне. Путь же и зимой ремонтируется.
Из соснового леса, болтая локтями и сбиваясь к луке желтого английского седла, трясся на белой кобыле поляк из строительного отряда.
У офицерского собрания потянул, распяливая локти, поводья, задрав морду кобыле: «Т-пру!» – как хороший кучер. Грудью лег на толстую шею кобылы, путаясь в стременах, высоко задрал правую ногу и сполз наземь. И, когда сполз, казалось, будто все еще сидит он в седле, нисколько не снизился, – такой строитель длинный.
Солдаты строителю чести не отдали и: не подскочили, чтобы отвести кобылу куда нужно. Строитель оглядывался сердито. Остренькое лицо – строго, а глаза бегают. Хочется прикрикнуть на солдата, да опасно: а вдруг облает в ответ? Что тогда? Погоны-то у строителя, правда, со звездочкой, да не офицерские – узкие и с черным кантом. Видно, что не офицер.
Пока строитель, мигая глазами, боялся кликнуть зевающего у входа в собрание вестового, вышел на уличку офицер – подышать вечерней сыростью.
– А, приехал? Ну, иди-иди – вино есть.
И вестовому:
– Бери кобылу.
Строитель козырнул важно и, поглядывая гордо на вестового (офицер под руку взял), вошел в собрание.
В собрании воздух жаркий, густой и от табачного дыма лохматый. И лампа – как седина в лохмах.
Офицеров в собрании – битком. Кто курит, кто рассказывает похабный анекдот, а подполковник Прилуцкий, командир полка, с прапорщиком Пенчо и еще несколькими склонились над круглым столиком. На столике – на круглой желтой папке – скачки. Картонные жокеи перескакивают на картонных конях с линии на линию к финишу. Кинет офицер кости – сколько очков? – И хватает жокея своего за шею, двигает ближе к финишу. Азарт.
Пенчо поднял полову.
– А, пся кревь, пришел? Иди – пришивайся…
Строитель осторожно подходит к столу, глядит будто в сторону, а рука уже зацепила бутылку.
Стакан. Еще стакан. И строитель распрямляет плечи и даже крутит желтые усы. И если бы он сейчас завидел вестового, сказал бы ему обязательно «ты» и, не боясь, выругал бы его даже по-матерному.
Так всегда: когда винная влага подкрепит тело и душу, строитель даже и на офицеров поглядывает гордо. А к ночи, похаживая, говорит:
– А мне чего-то хочется. А мне чего-то хочется.
И, выкидывая важно ноги, выстукивает каблуками высоких и гладких сапог к выходу.
– Адье, господа офицеры.
И знает он: господам офицерам того же хочется, что и ему. А вот не свободны господа офицеры: без приказа из Вышек не уйдут. А он не офицер, строитель жалкий, – всех офицеров выше. Захотелось ему – на коня, и – фьють!
– Адье, господа офицеры!
И уже ловчее вскакивает он в седло и вскачь несется по полю в лес. Льдинки бьются под быстрыми копытами, дышит лес холодным ветром, солдаты шарахаются и отдают честь.
Хорошо пьяному человеку проскакать на свободе сквозь холод и тьму к теплу, к…
– А мне чего-то хочется, – присвистывает строитель и шпорит кобылу. – А мне чего-то хочется.
И сосны белыми лапами укрывают его фигуру.
А господам офицерам – сидеть в офицерском собрании и пить. И как уедет строитель, так будто безнадежнее смыкается круг: утром и днем – ученье, вечером – вино и азарт.
Прапорщик Пенчо боится пить. Как выпьет, так заснет. И после того трое суток голова ноет, и мучает тошнота. Прапорщик Пенчо и без вина пьян. И без вина не может усидеть на месте: вечно вертится, черный, увертливый, маленький, – и швыряет словами, не договаривая.
– Приживальщик, черт его… – сказал прапорщик Пенчо, когда уехал строитель, и лег на скамью, лицом в застланный дымом потолок – и сквозь дым, сквозь пьяный шум глядел в Польшу, в то лето, с которого все пошло: днем – пески, ночью – звезды. И ночью темная громада людей, коней, орудий и обозов медленно, как огромная черепаха, движется на восток. А на востоке, на западе, на севере, на юге, – везде, куда ни оборотить засыпающий взор, – полыхает пламя, жадно облизывая черное небо. И все – пески, звезды и движущаяся сквозь тьму громада – все заколдовано в огненный круг зажженных деревень. И вырывается темная громада из круга.
Давно разомкнут круг, давно вырвался полк, – а вот осело навеки в памяти и мучает и толкает. Куда – неизвестно.
– Скоро в наступление пойдем, – успокаивает подполковник Прилуцкий.
А у самого – рожа красная, шея – жирная, и не цыгарка – толстейшая цыгарища торчит из черного рогового мундштука.
– Дело ясное. Россия не может никак погибнуть. Россия, братец ты мой, весь мир победит. Как же иначе?
И тут подполковник Прилуцкий пустил из-под жирных усов столько черного дыма, что кажется, будто в пасти у него взорвался шестнадцатидюймовый снаряд. И вся изба на миг колыхнулась в дыму, а прапорщик Пенчо, чихнув, вертит головой.
– Не верю.
– Н-но!
Тут подполковничья грудь ширится под коричневым свитером. Прилуцкий затягивается цыгарищей и, выбросив в лицо прапорщику черный клуб дыма, продолжает:
– Но! Дис-цип-лина, брат! Ты с командиром так рассуждать не смей! Я тебя – под арест!
Но прапорщик Пенчо не может усидеть на месте. Немедленно, вот тут, не откладывая, нужно что-то сделать. Чтобы не было больше огненного круга перед глазами. А что сделать – неизвестно.
Есть в Вышках пруд, за избами сразу. Зима покрыла пруд ледяным кругом. И вот в центре вбил прапорщик Пенчо самолично кол. Призвал потом двух солдат, из плотников, и целых три дня удивлялись офицеры: что это прапорщик на пруду мастерит? А через три дня, когда сошлись у пруда, оказалось: хитрая игра. Азартней «шмоньки» и даже скачек. На колу, как на оси, чуть-чуть выше пруда, вращается колесо, от колеса – к берегу, к самому краю пруда – бревно, к бревну прикреплены сани. Двинуть колесо – скрипнет бревно, и полетят сани по кругу скорее скорого. Азарт.
Обновил сани сам прапорщик Пенчо. Солдат медленно кружил в центре колесо, а сани, чуть ото льда не отрываясь, взвизгнули по кругу, по краю пруда – вот-вот взлетят с разбегу на воздух.
На втором круге стали сани. Пенчо вскочил на ноги, совсем не суетливый – и глаза спокойные.
– Хорошая штука!
И подполковнику Прилуцкому:
– Пожалуйте, полковник. Испробуйте.
– Я не авиатор, – отвечал подполковник. – Я – пехотный офицер. Мне летать доктор воспретил.
Но стыдно подполковнику: будто перед всем, офицерством струсил. Пустил в последний раз дым из-под усов, сдал мундштук соседу и взгромоздился на сани.
– Валяй!
А сойти с саней сам не смог: помогли офицеры.
– Чертово колесо, – сказал подполковник, отдышавшись, – будто в атаку прешь, а тебя в рожу из пулемета насквозь. А ну-ка – поглядим: есть ли еще воинский дух у русского офицера? Ложись следующий, по-очереди!
Визжали сани по кругу. Крепко, грудью, жались офицеры к саням, чтобы не сорваться с круга. И никто не сорвался. Все выдержали испытание.
– Ладно, – сказал подполковник. – Выпьем сегодня.
В офицерском собрании пили. Пьяные опять пошли к пруду. И оказалось: если пьяного офицера привязать к саням, на втором круге хмель из головы выскочит. Иди и пей дальше. Хорошая игра!
Прапорщик Пенчо тоже пить стал. Теперь, чтобы не заснуть от вина, мог он кружиться на санях. Уже по четыре круга делать мог.
Когда строитель снова замотался по офицерскому собранию, подполковник Прилуцкий подманил его к себе, поставил бутылку коньяку:
– Дуй из горлышка!
Строитель жадно обнял худыми пальцами бутылку, запрокинул голову и полбутылки отхватил разом. Хотел отнять бутылку от горла, да задрожали руки, и вместе с табуретом опрокинулся строитель затылком об пол. И бутылка, выпустив коньяк на лицо, на коричневый с серебряными пуговицами китель, осколками звякнула по полу.
Подполковник Прилуцкий гоготал тяжко, как мортирная батарея:
– Го-го-го! Го-го-го!
А строитель ползал по полу, собирая ноги. Ног у него стало много, не сосчитать: уже до сотни доходит.
– Эй! Пенчо! – сказал подполковник. – На сани его!
И строитель повис, как мокрое полотенце, на крепкой руке подполковника. Прилуцкий – впереди, за ним – Пенчо, за Пенчо – все офицеры: к пруду.
У пруда подполковник стряхнул строителя с руки.
– Привязывай!
– Господин полковник, не убивайте! Я – бедный строитель… Не нужно… Для вас же на пути работаю…
– Это ты на что намекаешь? – нахмурился подполковник. – Это ты на то намекаешь, что нам еще дальше отступать нужно? А? А впрочем, – прибавил он, – пшел к черту. Катись на кобылке!
Согнувшись, слабый от испуга и трезвый, шагом отъезжал от Вышек на дебелой кобыле строитель. И страшен был ему белый огромный лес, и белое огромное небо и безглазая бессмысленная луна.
И пуще всего грустно ему было потому, что не пить ему больше в Вышках с офицерами.
А в Вышках со дня на день пуще пили, а напившись – к пруду: кружиться на санях навстречу морозному ветру.
Однажды хозяин собрания сказал:
– Господа офицеры! Вино кончается. На две недели еще хватит, а дальше – крышка. Сегодня строителя встретил. Он берется купить, ежели поручат. Заявится сюда – условиться.
Подполковник Прилуцкий гаркнул:
– К черту! А вот что: в сутки все вино кончим. Азарт. В скачки пойдем: кто кого перепьет? А кто всех перепьет – тому отпуск устрою. Идет?
С вечера началось. На пруду, у чертова колеса, поставили дневального. И при собрании полувзвод дежурил. Свалится офицер, и волокут его за ноги к пруду, там покрутят на санях – и хмель из головы долой. Встанет офицер:
– Спасибо, братцы.
А солдаты:
– Рады стараться, ваш-всокродь.
А офицер опять в собрание пить, но уже не уехать ему в отпуск: вышел из строя. Пьет офицер, пока опять не поволокут его на сани, чтобы выкрутить из тела вино. И опять:
– Рады стараться, ваш-всокродь!
Сначала по чинам шло: валились прапорщики, за прапорщиками – подпоручики, за теми – поручики. А дальше – без чина: кто капитан, а кто прапорщик – не разобрать: все одинаково пьяны. И оказалось – крепче всех подполковник Прилуцкий и прапорщик Пенчо. К утру второго дня все еще сидели они друг против друга, будто трезвые, и стакан за стаканом гоняли в желудок вино.
Так застал их строитель, робко застрявший в дверях.
– А! Пся кревь, иди – пей.
Строитель молча опрокинул два стакана, закусил и провел, распрямившись, пальцем по желтым усам. Выпил еще и заговорил негромко:
– Все ясно. Все правильно. Все хорошо. Если только людей не обижать. Вот я, например… Я на пути работаю. Для вас же, господ офицеров, работаю, и сам я, может быть, тоже офицер.
И так как прислушивались к нему офицеры, он встал, глазки у него блеснули, и продолжал:
– Все вы тут хорошие люди. А меня вы обижаете. Зачем? Я – прекрасный человек. Я – замечательный человек. Я, например, стихи пишу и посылаю в газеты. И какой я поляк? Я русский человек. Душа у меня русская, откровенная, а вы говорите – пся кревь. С вином ко мне…
Но тут прапорщик Пенчо ткнул его легонько в грудь, и строитель опрокинулся на табурет.
– Молчи!
И когда встал прапорщик Пенчо, не шатался, но по лицу, по слишком четким движениям поняли все: пьян человек, и так пьян, что никогда больше не отрезвеет, хоть десять кругов на санях открути.
– Господа офицеры! – сказал прапорщик Пенчо. – Спасите меня. Я погибаю. Тело мое жаждет покоя, а душа – счастья.
И, покачнувшись, прапорщик Пенчо вырыгнул на стол вино.
Подполковник Прилуцкий загоготал радостно:
– Крышка тебе! Не выдержал. Раз такое делаешь, не выдержал: пьян. Я всех перепил! Я! Я в отпуск поеду! Я! Я всех перепил.
Поставил стакан и рукавом опрокинул бутылку. Из горлышка полилось красное вино.
Хозяин собрания подскочил:
– Последняя бутылка, господин полковник.
– Все равно. Я всех перепил. Я уеду в отпуск. А в отпуске, в столицах-то…
И, оглядев всех, подполковник продолжал, откинувшись на спинку стула и усмехаясь:
– А лучше так. Очередь моя по правилам – первая. Так не уеду я в отпуск. Всех перепил – могу значит, а не уеду, и вас, братцы, не выпущу. Так-то! Война! Айда, братцы, к пруду!
Пенчо схватил за шиворот строителя.
– И этого! И этого! Пусть покружится, пришивальщик!
Единственное, что видел прапорщик Пенчо, – это черный кол посредине пруда. Бесстрашно вступил в неверный круг, подошел к колу.
Офицеры с гиканьем и смехом валили на сани строителя.
– Я сам! – кричал тот. – Я храбрый человек! Я сам!
Он уже лежал на санях, а подполковник Прилуцкий, стоя на пруду, закидывал его снежками.
– Покружишься, пся кревь!
И вдруг подполковник Прилуцкий шлепнулся затылком о лед. Что-то тяжко подбило ему ноги. Не понимая, он привстал, опираясь ладонью правой руки об лед, а левой зажимая рану на темени. И тут снова по всему боку – от поясницы до шеи – тяжко хлестнуло бревно и, подкинув, швырнуло тело офицера о лед, под новый удар все быстрее заворачивающего по кругу бревна.
Плясало по льду, подскакивая и мотаясь, тело подполковника Прилуцкого. А прапорщик Пенчо стоял посредине пруда и крутил колесо.
– Крутись, чертово колесо! Круши черепа! Мели кости! Рви мясо! Полосами сдирай кожу! К черту!
Строитель летал по кругу без дыхания, без мысли, костенеющими пальцами уцепившись за сани, прильнув к саням, но на четвертом кругу не выдержал: сорвался, взлетел, кувыркаясь, на воздух и только раз успел взвизгнуть. Визг этот далеко слышен был по деревне и в солдатских землянках. И, взвизгнув, строитель шлепнулся с размаху лбом о дерево и прошиб лоб до затылка.
1922
Шестой стрелковый
IУ полковника Будаковича на эфесе георгиевская лента и на левую щеку лег черно-желтый, как георгиевская лента, шрам. Шрам на щеке – от первой раны. Вторично ранен был полковник Будакович на Нареве. Он видел, как у ноги его вырастала горка песку, выбрасываемого врывшимся в землю снарядом. Потом земля крутой горой встала перед ним, небо опрокинулось, и песок с травой заскрипел между зубами.
Полковника сволокли на перевязочный пункт. Он дрожал на земле, а курица, взмахнув короткими крыльями, вскочила на живот и медленно ступала к лицу.
Полковник заплакал от обиды и жалости и потерял сознание.
Очнувшись в госпитале, сказал:
– Русская армия гибнет. Снарядов нет. Воинский дух падает. Война курицей обернулась. А и то, не уехать ли в тыл? Я и право на то имею: дважды ранен.
И, не долечив раны, возвратился в полк.
Это было давно. Тогда шестой стрелковый полк бежал из Польши. Синее пламя, очертив круг по горизонту, клонилось над халупами. Раскалившиеся патроны, забытые в халупах, посылали пули, которые пели и жалили, как пчелы. Из горящих ульев вылетали пчелы, которые пели и жалили, как пули.
Желтый дым карабкался над копнами уже собранной ржи. Белым огнем горели оскаленные зубы коней, выносящих из темноты стремительного разведчика или тяжелого артиллериста. Луч прожектора ложился на песчаные поля. Ночами звезды падали с неба.
Это было давно. А теперь отведен шестой стрелковый полк на отдых в полесскую деревушку Емелистье.
Вокруг Емелистья – ни пушек, ни пулеметов. Только топь, и на топи малорослые березы присели, как карлики, на корточки. Ползет к деревне клочковатый туман, а над туманом ползет медленное небо.
Люди – в Емелистье – длинные, худые, с мягкими светло-желтыми волосами.
Стрелок Федосей спросил полесского человека:
– Куда девок убрали?
Мужик не ответил ничего и покорно глядел, как веселый стрелок свернул голову куре и погубил штыком свинью. Адъютант, поручик Таульберг, проходя мимо, остановился.
– Нельзя свинью резать.
– Заведующий собранием, ваше благородие, приказал для офицерского довольствия.
Поручик Таульберг отправил стрелка на гауптвахту, но стрелок не унялся.
– Мне заведующий собранием приказал. Не моя воля.
Отбыв наказание, стрелок сказал роте:
– Дознался. Мужики-то девок своих в топь убрали. К ночи, глядите, пойду.
И ушел стрелок Федосей. Ушел и не вернулся.
А дома у каждого стрелка есть своя жена, невеста, и дети у иных есть. Но далек дом. Зажаты стрелки поротно, и офицеры гуляют по линии, не пускают домой: война.
Падалью свалится стрелок на землю и даже в смерти своей не услышит женской речи.
Вспоминая Федосея, стрелки смеялись:
– Ловчило! Один со всеми бабами в топи живет. Как турок.
И долго говорили о Федосеевой хорошей жизни и о своей плохой.
– Нет у нас ничего, как будто чужеземцы. Жены наши обижены и заброшены на произвол судьбы, а дети наши голодные сидят. На девять копеек в сутки только опилок и купите. Пойти за Федосеем!
В штабе полка про Федосея отметили: «пропал без вести», и полковник Будакович сказал:
– Дезертирство начинается. Царь и бог от русской армии отступились. Что будет?
Лучше всех в шестом стрелковом полку знает о том, что будет, заведующий оружием и хозяин офицерского собрания Гулида. Тыкает в обрывок газеты, который вечно торчит у него из грудного кармана гимнастерки:
– Вот! Бельгийский посланник! Аплодисменты! Милюков речь сказал: «победим Германию! Только темные силы…» Темные силы уничтожить нужно.
И держит Гулида голову набок, потому что на шее у него вечный фурункул.
А поручик Таульберг о будущем не загадывает. Он – адъютант, и у него времени и для сегодняшнего дела не хватает. Зато он лучше полковника знает все, что делается в полку. И даже то знает, что Гулида передергивает в карты.
Чуть вечер, у Гулиды в руках уже трещит колода. В банке сперва скромно – рубль. Рубль на рубль – и уже потеют дрожащие руки, багровеют лица. Проигрывают офицеры друг другу в «шмоньку» последнее. И переходит это последнее из кошелька в кошелек, пока не попадет к Гулиде. Гулида скопил уже шесть с половиной тысяч и отложил их в банк в Петрограде, чтобы купить по окончании войны дом.
Из офицерского собрания Гулида прибежал к полковнику Будаковичу, без шапки, красный, и сказал:
– В полку у нас темные силы действуют. У нас, головой ручаюсь, есть германский шпион. Пуля его не берет, а сам он – кровный немец. Солдат мучает, а свинью жалеет. Всякое слово подслушивает и даже в карты подсматривает. Чуть удача русскому человеку, так он сразу: неправильно.
Маленький и юркий, набок держа короткую голову, он убежал, чтобы наутро засветло уехать на станцию за вином и сардинками.
Поручик Таульберг, вернувшись из собрания в штаб, шагал по избе и говорил полковнику:
– Заведующий собранием – карточный шулер и вор. Он учит солдат грабить жителей. Он неправильно играет в карты. Нужно таких из армии вышвыривать.
Полковник Будакович отвечал:
– Не время теперь ссориться. Друг за друга теперь крепко держаться нужно. Падает дисциплина в армии.








