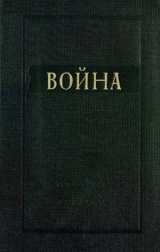
Текст книги "Война"
Автор книги: Михаил Зощенко
Соавторы: Лев Славин,Николай Тихонов,Виктор Финк,Михаил Слонимский,Юрий Вебер,Семен Розенфельд,Николай Брыкин,Кирилл Левин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 52 страниц)
Легкий завтрак
Ржавое утро. Хлюпающая под ногами красноватая вода болота. «Шарманщики» – стрелки и гусары-связисты – сматывают телефонную проволоку. Сизые лица не спавших людей как будто покрыты коркой от усталости.
Облака так тяжелы, что кажется – они вот-вот упадут на наши плечи. Окопы первой линии давно брошены. На второй слышны взрывы. Это подрывники кончают главнейшие блиндажи.
В который раз отдается сигнал отступления! Сколько уже проигранных сражений лежит позади! И каждый раз такое же утро в поле или в лесу, переполненное лихорадкой паники. Последние пехотинцы проходят в сторону военной дороги, единственной сносной дороги, представляющей гать из толстых бревен. Раздирая грохотом уши, мчатся орудия, двуколки, снарядные ящики.
Спешенные гусары подтягиваются к поляне со всех сторон. Коноводы начинают нервничать. Поляна уже кишит озябшими, промокшими людьми, бродящими по щиколотку в воде, но приказа «по коням» нет. Со злорадным шипеньем рвется шрапнель. На нее никто не обращает внимания: надоело. Шрапнели так однообразны, точно все время рвется одна и та же.
Задумчивый огонек пробегает по сараям, огромным сараям с сеном. Сено вспыхивает, как вата, пропитанная бензином. Мы окружены летящими в небо вспышками желтого огня. Вся поляна пылает. Сараи, как сигнальные вышки, пылают один за другим. Где-то подожжен артиллерийский склад. С тоскливым, правильным треском взрываются пулеметные ленты, взвиваются, хрустя, снаряды. Зеленые молнии пронизывают густые тучи над лесом. Все кончается. Надо уходить. Но приказа «по коням» нет.
Посредине поляны стоит наскоро сколоченный длинный стол. На пни вокруг него положены доски. На своеобразных этих скамейках сидят человек шесть. Ближе к лесу чернеет большой штабной автомобиль.
Раздувая светлые пушистые усы, полковник в расстегнутом френче моется. Вестовой льет ему на руки из котелка красноватую воду, пахнущую уксусом. Полковой поп в брезентовом дождевике озябшими толстыми пальцами тщетно чиркает спичками. Спички отсырели. Адъютант пишет на краю стола. Командиры эскадронов, тяжело переваливаясь с ноги на ногу, – они не любят и не умеют ходить (то ли дело – конь), – подходят. Бинокли висят у них на груди.
Тяжелая турецкая сабля командира четвертого эскадрона прыгает по мокрой глине, как гигантский угорь.
Командир садится за стол так спокойно, будто он на даче. Эскадронные стоят перед ним, смутные, тяжёлые, настороженные.
– С богом, – говорит он, по очереди пожимая им руки.
Все приходит в движение.
– По коням!..
Долгожданный приказ исполняется с удовольствием.
Уходят первый, второй, третий эскадроны. Уходит команда связи.
Командиру подают легкий завтрак. Сараи горят из последних сил. Дым закрывает поляну. Куски его ветер несет к лесу и развешивает на сучьях. Командир ест яичницу, заткнув салфетку за воротник и разостлав ее на коленях. Поп, оглядываясь на выстрелы, курит. Шрапнели все чаще осыпают деревья.
– Оставьте мне пулеметную команду, – говорит полковник. – Пусть начинают приготовлять дорогу. Я проскочу.
Командир четвертого эскадрона идет к вам.
– Как ты думаешь, кто это на опушке? – спрашиваю я приятеля.
Приятель смотрит, сложив щитком ладонь.
– Не знаю.
– Это – немцы, – говорю я, – честное слово, немцы.
Приятель смотрит на лес, потом на завтракающего полковника. Он хмуро подмигивает мне. И тут раздается команда:
– По коням!.. Садись!..
Когда мы сворачиваем к лесу, я оглядываюсь. По дальней опушке леса бродят одинокие черные человечки, то накапливаясь в маленькие кучки, то разбегаясь и припадая за кусты.
Черные, удушливые волны дыма идут справа. Подрывники обливают деревянную дорогу смолой, и тяжелые бревна начинают загораться.
Полковник пьет маленькими глотками вкусный сладкий чай.
– Немцы? – говорит, вопросительно скосив глаза, адъютант.
Полковник, чмокая и отдувая щеки, пожимает плечами. Может быть, и немцы.
Начальник пулеметной команды спрашивает разрешения снять пару пулеметов с вьюков для прикрытия.
– Не стоит, – говорит полковник, – сейчас тронемся.
Пулеметная команда стоит, как на плацу, ее отовсюду видно.
Первый убитый валится мягко, не выпуская из рук повода вьючной лошади. Второй как бы выпрыгивает из седла, и струя крови малиновой змеей бежит из разорванного горла. Раненые стонут, корчась в седлах.
– Снять пулеметы! Пулеметы к бою! – кричит начальник пулеметной команды, не оглядываясь на полковника.
Скрипят вьючные ремни. Льюисы стоят на земле, похожие на стрекоз с оторванными крыльями. Теперь уже простым глазом видно, что немецкие цепи идут по лесу со всех сторон. Пуля ударяет в стол. Поп бежит к автомобилю, высоко задирая рясу. Из-под рясы видны здоровенные ноги, каким позавидовал бы любой вахмистр.
Шофер выводит машину, серый от испуга. Раненые и убитые продолжают падать.
…Эскадроны отошли уже далеко. Лес сомкнулся за нами. Мы остановились на минуту. И тогда из-за поворота дороги вылетел всадник, махая обнаженной шашкой, крича:
– Все назад!. Все назад!.. Командир в плену…
Эскадронные поворачивают коней. С легким визгом сверкают шашки. Вся лавина четырех эскадронов устремилась обратно. Навстречу нам летела отдельными всадниками пулеметная команда. У иного по лицу текла кровь, у иного болталась рука, люди, отплевываясь, проносились мимо. Ярость охватила нас. Мы с большим удовольствием последовали бы за пулеметной командой, но это было невозможно. Мы даже не знали, что мы встретим – картечь в упор или пулеметную дробь.
Густые клубы дыма загораживали дорогу. Передние начали сдерживать лошадей. Понемногу огромная колонна, колыхаясь и звеня, перешла на рысь, потому что в облаках зловонного дыма показался огромный штабной автомобиль.
Шофер с рассеченным лбом гнал машину. Полковник стоял на подножке, держась за борт. Салфетка торчала из его кармана. Поп, навалившись на подушки, щелкал зубами. Адъютант размахивал маузером.
За автомобилем мчались растерзанные всадники пулеметной команды. Мы пропустили автомобиль и мрачно последовали за ним. Через километр у моста полковник сошел с подножки, и ему дали лошадь. Он, отфыркиваясь, вскочил в седло…
Вечером этого дня у нашего костра присел сменившийся из штаба полка Кудрин. Мы разбирали утреннее отступление.
– Сволочь-то наша, – сказал Кудрин, – осталась верна себе. За что погубил людей? Зря он придумал легкий завтрак? Не зря. У него соображения свои. Известно, какие…
Мы не отвечали ничего. Мы сидели, налитые беспомощной злобой.
Всем был давно известен порядок полковника. Надо было, чтобы в донесении стояло:
«Отступили с боем, войдя в соприкосновение с противником, отступили с потерями».
Полковник любил отступать по трупам своих людей. И в этот вечер он, дуя в свои пушистые усы и отчеканивая слова, диктовал адъютанту:
– «Пять убитых, тяжело раненых четыре, пропавших без вести три, легко раненых шесть…» – Добавьте… «разрывными пулями», – говорил он с особой выразительной удовлетворенностью.
1934
Павел Евстафьев
Афонька Нагой
Все случилось внезапно.
Разве мы могли предполагать, – я, вольноопределяющийся гусарского полка, друг Афоньки, и сам Афонька, – что эти часы, много раз считанные мною позже, были началом и концом Афонькиной беды.
Мы не знали, что утром восьмого июля беда замкнулась в треугольник, в вершине которого встал несравненный скакун Афоньки – Фараон, а два угла основания заняли Афонька и полковник Кузнецов.
И уже на другой день, разорвав треугольник, беда накрыла черным своим крылом Афоньку.
Началось все с несчастной нашей скачки.
Я избрал для скачки выработанную жокеями американскую посадку на сильно укороченных стременах.
Всю ночь и утро тщательно взвешивая шансы на победу, я с замирающим сердцем остановился на многообещающих выводах этой науки высшей кавалерийской школы.
При такой посадке колени всадника подаются вперед и прижимаются к лопаткам лошади, корпус также уходит вперед, и у лошади совершенно освобождается задняя половина тела.
Это было выгодно для Колхиды, но заключало многие неудобства для меня. Сидеть в седле можно было только тогда, когда лошадь стоит или двигается шагом, но на рыси или в галопе всадник обязательно вылезает из седла и держится коленям», шлюзом и поводьями. Сесть в седло во время скачки хотя бы на мгновенье – преступление, которое может кончиться плачевно: как бы ни был легок всадник, но спина лошади во время скажи принять толчок не может.
Я знал это и не мог сдержать частые удары изболевшегося сердца. Я смотрел на тонкие ноги Колхиды и, содрогаясь, видел, как со сломанной спиной пытается подняться с земли Фру-Фру Вронского.
– Ты не будешь жить, Павел, если… – бормотал я, укорачивая стремена, и теплая волна нежности к моей Колхиде поднималась в груди, терпким комом застревала в горле.
– Фокусы! – с непобедимой уверенностью в своем коне презрительно сказал Афонька, указывая глазами на мои стремена. – Я тебя обскакаю…
– Мы посмотрим, Афонька, – ответил я, сдерживая ярость в сердце. – Не хвались, в город едучи… – И, наклонившись, отстегнул шпоры, спрятав их в кобуру.
– Будем садиться, Афоня?
Он двумя затяжками докурил папиросу, щелчком бросил окурок в канаву, перетянул туже кушак.
– Поехала бабушка к венцу! – весело прокричал он, взял стремя, вскочил в седло. Я сел без стремени.
Перед нами стлалась гладь полированного немецкого шоссе. Его убийственная прямота была убедительна, как сверкающий палаш. По сторонам за канавами лежало пустынное зелено-желтое поле, пересеченное слева до канавы плетнем, и только вдали, за четыре версты по дороге, темнел фольварк, бросивший в небо острую иглу, флагштока.
Мы разобрали поводья.
– Докуда ехать будем? – Афонька повернул ко мне победное лицо.
– До плетня доедем шагом, а от него до фольварка скакать… Идет?
– Поехали, – сказал он вдруг серьезно. – Держись, Пашка.
Мы тронули коней и шагом доехали до плетня.
– Я сосчитаю до трех, Афоня, – сказал я, останавливая лошадь и задрожав, – тогда…
– Считай, – тихо ответил Нагой.
Я медленно стал считать, подавая вперед весь корпус, и почувствовал, как заволновалась Колхида.
– Раз… Два… Три…
Дикий, пронзительный крик Афоньки оглушил меня.
Я увидел, как сбоку поднялась темная масса и на секунду застыла в воздухе.
Испуганный криком, горячий и необыкновенно нервный, Фараон прыгнул вперед и сделал «свечку». Затем все исчезло.
Колхида неслась, словно отделившись от земли, неслышно касаясь ее ногами.
Всем телом отдаваясь бешеной инерции скачки, я перестал видеть и слышать. Колени застыли в судорожном обхвате. На секунды все внимание ушло на то, чтобы не отстать телом от неуловимых движений Колхиды. Внизу, почти у самых глаз, вызывая головокружение, со стремительной быстротой, с быстротой смерча, неслась назад белая лента шоссе.
Около никого не было.
Равномерно с увеличивающейся силой свистел в уши ветер, и трепетала под щекой атласная кожа на шее Колхиды. Должно быть прошли лишь секунды, а казалось, я несусь вперед целые часы, слившись с телом лошади в одну массу.
Я не смел оглянуться. Сладкая дрожь восторга уверенности лихорадочно била тело, туманила голову.
…Внезапно неровный скок сзади тихо, настойчиво вошел в уши:
«Афонька… Справился с конем…»
Пространство таяло. Но скок сзади нарастал и, сразу надвинувшись, почувствовался спиной болезненно-остро. Тогда, в ритм движений Колхиды, я стал набирать и отдавать повод. Неуловимые кошачьи движения Колхиды участились. Буйно свистел ветер, не освежая, а заволакивая легкой серой пеленой сознание…
Вдруг справа неожиданно и страшно, наравне с моим стременем, выплыла вытянутая голова Фараона. На миг я увидел прижатые к голове уши, полуоскаленные зубы с закушенным мундштуком.
Он как будто смеялся.
И в тот же миг, поймав, когда Колхида была в сборе, я с отчаянием ударил ее хлыстом.
Голова сбоку пропала.
С каждой секундой нарастая в размерах, словно загораживая дорогу, бежал навстречу фольварк. Теперь я не мог оторвать глаз от его иглы, вонзенной в голубое небо.
«… Сейчас… Сейчас… Сейчас, милая», – шептал я Колхиде.
Но тут снова услышал я, совсем рядом, резкий шум вылетающего из ноздрей Фараона воздуха.
Ничего не сознавая, подняв хлыст, я с яростью стал сечь по голове Колхиду. Но Колхида не усилила бега, – она шла из последних сил, часто и коротко храпя.
Тогда похолодевшим сердцем я понял, что все пропало.
В следующую секунду голова Фараона сравнялась с головой Колхиды, и напряженная спина Афоньки возникла перед моими глазами.
Мы проскочили фольварк.
Разрывая рот железом, я далеко за фольварком едва остановил запененную, обезумевшую Колхиду.
Фараон все еще уносил боровшегося с ним Афоньку…
Днем в эскадроне к нам подошел вахмистр. Когда его огромная грузная фигура появилась из-за угла сарая, лицо Афоньки стало замкнутым, упрямым.
Он сказал вполголоса:
– Это к нам он, Паша. Наябедил ему шкура про гонку…
«Шкура» – унтер-офицер нашего взвода Беркетов, предмет неутолимой ненависти Афоньки – был сверхсрочной службы солдат, переведенный в полк из конного жандармского эскадрона.
Вахмистр остановился в двух шагах от нас и, широко расставив монументальные ноги, несколько скосил глаза. Как всегда, он молчал минуту, верхняя губа начинала ходить вверх и вниз (он рассматривал усы), глаза делались круглыми, пронзительными, волосатая шея наливалась кровью.
– По приказу командира, – сказал он басом. – Смирнов на два часа под шашку, а ты, молодец (это Афоньке), принимай не в очередь дежурство у Емельчука, а после поговорим. Поговорим еще… – сказал он с ударением. И, помолчав, пробормотал: – Что наделали, а?
Мы молчали. Я смотрел на закованные в блестящую лакированную кожу огромные его ноги и думал о мертвом гвардейце-кирасире императора Вильгельма. Прекрасные рыцарские сапоги, снятые с убитого гвардейца, были предметом зависти всего эскадрона.
Медленно раскачиваясь, удалялась от нас широкая спина вахмистра, и в нежном мелодичном звоне жестоких зубчатых шпор слышал я голос кирасира.
Я взглянул на Афоньку и удивился происшедшей в нем перемене: он потемнел лицом и почти враждебно смотрел на меня. Он чуждался меня теперь, Афонька, с первого дня боевой нашей жизни деливший со мной все свои задушевные думы.
Я понял: между нами в этот день стеной встала моя привилегия – звание вольноопределяющегося – «студента», не раз спасавшее меня от серьезных наказаний. Звание это было моей защитной одеждой, Афонька же был голый, нагой.
Я вспомнил, как однажды, шутя, сказал ему:
– А ты, Афоня, из царского рода; у русского царя Ивана Грозного жена была из Нагих, бояр, – видно, родня тебе.
Но Афонька не захотел понять моей шутки.
– Нет, – сказал он задумчиво и серьезно. – Мы все Нагие, – вся деревня одной фамилии. Бедные очень. Босота несчастная. Оттого и зовут так.
Мы молча разошлись.
Я встал под шашку на «лобном» месте, в трех шагах от конца коновязи. Я думал об угрозе вахмистра и не верил в нее. Хотя «равнять» коней запрещалось – в глазах начальства люди были дешевле лошадей, не было вреда коням от скачки; на фронте затишье; около месяца мы стояли на одном месте, высылали разведки, изредка перестреливались с немцами. И кто же не знал, как Афонька берег своего коня? Даже скудную солдатскую порцию сахара он отдавал своему любимцу. Нет, дело было не в скачке: гордого, самолюбивого Афоньку не любили «аристократы» эскадрона: вахмистр, фуражир, фельдшер, Беркетов. Они рады были привязаться к случаю. По своей жандармской привычке Беркетов донес на него. Но я надеялся: лихой Афонька был незаменим в разведке. «Нет, ерунда, ничего не будет. Вахмистр постращал только».
Из командирского дома вышли два офицера: полковник Кузнецов и ротмистр барон Нольде. Сумасшедший полковник (говорили, что он ставил под шашку свою жену) был прикомандирован к нашему полку и, в ожидании вакансии полкового командира, командовал дивизионом. Вакансии долго не было, и все знали: лучше не попадаться ему на глаза. Офицеры прошли в эскадрон, не заметив меня. Это – удача. Сухой, высокий ротмистр, в широком английского покроя френче, старательно умерял свой длинный шаг.
– Подойди сюда, мерзавец, – негромко сказал полковник, и его маленькая лопаткой бородка сладострастно задрожала.
Оправляя на ходу гимнастерку, вытянувшись, Афонька подходил ровным, как на марше, шагом. В двух шагах от полковника он остановился. С лица медленно отливала кровь, лицо становилось безжизненным – белая маска, на ней горели только глаза, острые, напряженные.
– Ближе, – сказал полковник, не повышая голоса.
Афонька шагнул, взял под козырек (пальцы у виска дрожали), стал ровно. В тот же момент голова его мотнулась от удара.
Тогда, не спуская с полковника горящих глаз, Афонька сделал невозможное в его положении нижнего чина: он резко отдернул от козырька руку и опустил ее. Он не хотел отдавать чести полковнику. Это была невиданная дерзость в императорской гвардии.
Полковник побагровел.
– Руку подними, мерзавец! Честь!
Я видел, как ротмистр, отступив на шаг в сторону, шарил рукой по кобуре револьвера.
Афонька медлил. Он порывисто дышал. Несколько секунд тянулись бесконечно долго. Но вот рука его дрогнула, мучительно-медленно стала подниматься, остановилась на полдороге, потом опять поползла кверху, и снова, как только она остановилась у виска, голова Афоньки мотнулась от удара. Рука резко упала вдоль тела.
Меня била дрожь. Я смотрел, как конвульсивно сжимались в кулак и разжимались пальцы этой руки. Мой друг Афонька боролся с собой страшно. Он стоял у последней черты…
– Руку подними, холуй, – хрипло сказал полковник, как и я, наблюдая за рукой сумасшедшими глазами, и вдруг закричал высоко и тонко, так что лошади в эскадроне подняли торчком уши:
– Расстреляю!.. Ты знаешь ли, мать твою!. Ты знаешь: вот ротмистр и еще один офицер, трое – три голоса – и решение: в пять минут… полевым судом… расстрелять… Руку, холуй!.
Изо рта Афоньки, пробивая дорожку по подбородку, бежала тоненькая струйка крови. Она пробивалась на шею, затекала за воротник.
– Александр Федорович… – тихо сказал ротмистр.
Полковник нервно вздрогнул плечами и, сдержав движение, круто повернувшись, пошел прочь к командирскому дому.
Не снимая руки с револьвера, ротмистр пошел вслед за ним.
Афонька остался один. Он шатался. Изуродованное его лицо было страшно синеватой бледностью. С минуту он смотрел на уходящих офицеров.
– Я не холуй, – с усилием сказал он вспухшими, разбитыми губами. – Нет… баре…
Афоньку не арестовали тотчас.
В полку был обычай – древний и тайный: уничтожать виновного руками неприятеля. Как ветхозаветный Давид послал Урия в опасное место сражения, чтобы погубить его, – в нашем полку посылали виновного в разведку. В разведке виновный всегда ехал дозорным, далеко впереди разъезда. Если было особенное счастье и он приезжал обратно невредимым, то из второй или третьей разведки уже не возвращался. Так был убит гусар первого взвода Сангайло на другой же день по прибытии бригады из Польши в Курляндию. Его пустили одного на заставу немцев. Назад прискакал его конь со сбитым на бок седлом, а он, сожженный пулями, остался лежать у палисада фольварка.
Но беда сторожила, беда не ждала.
Вечером она снова настигла Афоньку, обрушив еще более тяжкий удар на его смятенную голову.
На вечерней уборке, когда Афонька тщательно протирал сырой суконкой спину Фараона, к нему как-то боком, виновато, подошел взводный.
Афонька сразу испуганно повернулся к нему, – он почувствовал беду. И хотя взводный заговорил о ковке тоном безразличным и небрежным, Афонька побледнел и, не отвечая, смотрел на него широко раскрытыми глазами.
– Его высокоблагородие, командир дивизиона берет Фараона под седло, – сказал, наконец, взводный. – А ты возьми заводского Текинца, – добавил он примирительно. – Конь тоже хороший, Афоня, ты не кручинься.
И все-таки этой беды Афонька не ждал.
– Что? – придушенным голосом спросил он и шагнул к взводному. Мы с Роговым схватили его за руки.
– Но… Но… Ты легче, парень, – забормотал взводный, отступая. – Смотри-ка… Можно до командира…
Но Афонька вдруг стал жалок, – я никогда не видел его таким. Он растерянно затоптался на месте, потом бросился к Фараону.
– Не отдам коня. Мой он конь… Не отдам… Что же ты это? – заговорил он быстро, в беспамятстве.
Он обнял Фараона за шею, прижался к ней изуродованной щекой.
– Оставь, Афоня, брось. Я пойду, буду просить. Он отдаст, – бессмысленно говорил я, снимая его руки с шеи Фараона.
К моему удивлению Афонька не сопротивлялся, – он дрожал и позволил увести себя к шалашу.
– Ты ляг, Афоня. Брось. Выручим… Ну, поездит он день, два – отдаст, – говорил я, сам не веря своим словам. – Ты ляг. А Текинец тоже хороший конь…
Он лег на солому вниз лицом и замер.
За ужином я принес ему котелок с борщом, поставил рядом. Но борщ остыл нетронутым.
Афонька, не шевелясь, лежал до ночи.
Фараона увели.
На площадке перед командирским домом полковник учил его ходить испанским шагом. Когда полковник легкими ударами хлыста бил под сгибом ноги, Фараон вытягивал ее вперед и плавно ставил на землю. Потом другую. Он танцевал, как балерина. Он понимал ненужную науку. Он понимал все… Это был удивительный конь. Ослепительные качества скакунов всех пород, от арабских до английских, воплотились в его огненном теле.
В оскорбленной жизни Афоньки был он единственной радостью.
Ночью Афонька ушел из шалаша.
Я подождал, пока затихли его шаги, и тоже вышел наружу.
Эскадрон спал. На соломе, покрытой попонами, в островерхих шалашах из хвороста и прямо под высоким темным небом спали гусары. Сбоку каждого – седло со сложенными на нем накрест винтовкой и шашкой. Длинным частоколом выстроились вдоль забора пики.
Бредит во сне рослый Демидов, вытянув ноги через дорожку к коновязи. Снится ему, должно быть, деревня…
Дремлют стоя и лежат на земле лошади на свободно отпущенных во всю длину с коновязи чумбурах.
Покачиваясь на сухих стройных ногах, чутко спит: кровная Колхида, моя золотистая красавица. А в конце взвода, на крылечке рабочей избы, нахохлившись ночной птицей, сидит дневальный, – тоже дремлет.
Зачаровала, усыпила всех ласковая таинственная ночь… Висит над лесом месяц. Рассматривает он древние владения грозного Ливонского ордена.
Многое изменилось… Он, вечный бледный соглядатай, помнит… Не вчера ли здесь по лесным дорогам, с надменными лицами посвятивших жизнь богу, ездили суровые монахи-меченосцы? Скрывали закованное в железо тело длинные плащи, с нашитыми на груди черными крестами. Не вчера ли стройными рядами проезжали искусные в бою шведские рейтары и словно собравшиеся на бал пышно-нарядные польские рыцари? Не вчера ли тяжелыми сапогами топтали эти лесные дороги солдаты Шереметьева и проносилась запряженная цугом карета владетельного герцога? В золоте герба переливался тогда месяц. Давно ли было?
Неотступно крадется сбоку тень, – провожает меня к озеру, передразнивает движения. Светлая полоса бежит по дороге, – в серебряные ризы одевает деревья. Но не дошла она до мельницы – и в черной сутане фанатиком-иезуитом стоит она на пригорке. Застыли цепкие крылья-руки…
Качается и дробится в озере месяц. Лежит оно, застывшее в низких тенистых берегах.
Со всех сторон обступили его тесно деревья. Ни один звук не нарушает заколдованной ночной тишины…
У озера Афоньки не было. Где же он? Всегда он любил приходить сюда один, скрытный Афонька.
Ах, конечно, там он, где и Фараон…
Хитро присматривается месяц. Прямая и строгая бежит обратно тень.
Ломается тень по деревьям аллей. Блеснула античная колоннада баронского дома. Эскадрон.
Черная фигура прижалась к решетчатому забору у командирского дома. Там, за забором, стоят офицерские лошади.
– Афоня, что ты здесь делаешь?
– Уйди, Пашка!
Утро началось обычно. Мы встали на уборку. Седлали коней семеро. Среди них – Афонька. Они уезжали сменять заставу из гусар третьего взвода. Афонька не был назначен в заставу, – вызвался сам. Впервые уезжал без меня Афонька и со старшим смены Беркетовым… Потом уехал на проездку полковник с ротмистром. Полковник на фараоне. А через час с заставы прискакал в эскадрон бледный, непохожий на себя Рогов. Путаясь ногами, он прошел к командиру эскадрона. И было то, чего не бывало никогда на позициях, вблизи неприятеля: труба пропела тревогу. В пешем строю бежали мы к заставе оцеплять лес.
Афонька бежал с заставы.
Вот как это случилось.
Сменив пост на заставе, Беркетов прежде всего послал на крышу халупы дозорного. Выбор пал на Афоньку. Беркетов рад был хотя бы на время избавиться от него. Рад был Афонька. Ему становилось невыносимо-тяжело среди людей. Он взял у сменного дозорного бинокль и с винтовкой полез по короткой лестнице на крышу.
По привычке он осмотрелся. Сразу за заставой влево раскинулось ржаное поле; светло-зеленая его полоса замыкалась вдали плотной стеной леса. За лесом были немецкие заставы. Вправо из ржи выбегала дорога в баронское имение; она разветвлялась в полуверсте от заставы, и один отросток ее уходил в дальнюю аллею парка.
У сарая гусары возились Около лошадей. Не расседлывая, они ослабили у седел подпруги, освободили лошадям рты от железа, засыпали в торбы овес.
– Афоня, куда ты засунул торбу, курицын сын? – крикнул Афоньке Кириллин, оправлявший его коня. – Ищу, ищу… В шапку, что ли, сыпать овес-то?
Афонька ответил не сразу. Торба лежала под скатанной, притороченной к седлу шинелью, но не хотелось заботиться о постылом Текинце. Фараона не было – не хотелось отвечать. Тяжко… Со вчерашнего дня тяжко, невыносимо…
– Нету. Потерял как будто, – хрипло сказал он, не оборачиваясь. – Сыпь так. – И, не отвечая больше на вопросы словоохотливого Кириллина, он лег на живот, положив горячую голову на приклад винтовки. В виски стучало. «Погоди, разберемся как-нибудь», шептал он, прислушиваясь и отвечая чему-то, камнем ворочавшемуся у сердца.
Ворочалась обида…
Гусары ушли в халупу. Лошади мирно жевали овес. Припекало солнце. И небо было как синька.
…Нет, это была не обида. Обид было много. Разве Афонька считал их? В сердце ворочалась темная Афонькина жизнь. Вот она…
…Отдаленный мерный топот поднял Афонькину горячую, затуманенную голову.
На дороге показались два всадника. Они ехали крупной рысью, одновременно поднимаясь над седлами.
Несмотря на то, что всадники были еще далеко, Афонька сразу признал в правой лошади Фараона. Сердце вдруг забилось неровными толчками, потом провалилось куда-то, как будто в груди образовалась пустота. Не веря себе, не желая поверить, он схватил бинокль. В стеклах у самых глаз, словно в воздухе, плыл Фараон. Ведя бинокль направо, за ходом лошади, Афонька судорожно пересохшими губами ловил воздух, в глазах темнело…
С усилием оторвав от глаз бинокль, задыхаясь, он прижался похолодевшим лбом к дереву приклада. Он боролся. Непреодолимая сила властно звала вниз, на землю. Она поставила его на колени, заставила доползти до лестницы. Раскачиваясь, как пьяный, он поднялся во весь рост и оглянулся на дорогу. Всадники приближались к повороту в боковую аллею. Тогда, чувствуя необыкновенную точность в движениях, Афонька в два прыжка сбежал по лестнице, на бегу бросился на одно колено у угла сарая и раз за разом, быстро отбрасывая от плеча винтовку, защелкал затвором.
Что было дальше – он не видел. Он не видел, как Фараон, сделав несколько неверных прыжков, грохнулся у боковой аллеи, придавив своим телом ногу полковника. Почти обезумев, ничего не сознавая, Афонька обернулся на шум сзади и в упор выстрелил в грудь подбежавшего Беркетова. Без звука, с вытянутыми вперед руками, унтер-офицер ткнулся головой к его ногам. Рядом, серой пропотевшей подкладкой кверху, упала фуражка.
Не спуская застывших глаз с кучки гусар, с винтовкой подмышкой, Афонька пятился в рожь.
Первым опомнился и выстрелил Рогов, в последний момент дернув вверх ствол винтовки. Еще минуту беспорядочно стреляли гусары, но Афонька не отвечал, как уж извивался он в волнистом море ржи, постоянно меняя направление.
Мы не нашли Афоньку. Мы не искали его. Офицеров с нами не было. Редкой цепью шли мы по лесу и молились в душе, чтобы он не попался нам навстречу.
Потом вернулись.
В двуколке в полусидячем положении застыла тело Беркетова. Голова с жесткими с проседью волосами завалилась на грудь; вислые усы стрелками ткнулись в большую черную рану с пороховым нагаром. Он был убит наповал.
Двуколка поехала с нами.
У входа в боковую аллею кучка людей столпилась около чего-то, лежащего на земле.
Я подошел.
На левом боку со стреноженными задними ногами лежал Фараон. Два гусара, – навалившись на бок, прижимали его к земле; третий за ремни недоуздка сдерживал нервно вздрагивающую голову коня. Около бедра передней ноги сидел на корточках эскадронный – фельдшер Гурьев и каким-то странным инструментом копался в ране. За тонкой, влажной от боли кожей Фараона, как рябь в реке, бились мелкой дрожью мускулы; из красных, неестественно расширенных ноздрей с шумом вылетал воздух, большая мутная слеза выкатилась из глаза.
Бедный конь порывисто возил по земле задними ногами, пытаясь встать, а державший за недоуздок голову гусар, отвернувшись от раны, жалко сморщив лицо, ласковым голосом уговаривал его.
Рана сначала была невелика, но фельдшер, ковыряясь в ней лопаткой, оказавшейся самодельным ножом, сделал ее ужасной. Кровавое обнаженное мясо трепетало и дымилось.
Удовлетворенно сопя сквозь рыжие усы, довольный общим вниманием, фельдшер потянулся было зачем-то к лежавшей у головы коня парусиновой сумке с красным крестом, но раздумал.
– Ничего тут теперя не поделаешь, – сказал он, для чего-то сгибая в колене раненую ногу коня. – Готов конь… Пропал конь… Теперя он – никуда. В переплет костей ударило… – И, как бы в подтверждение поставленного диагноза, он покопался кровавым пальцем в ране, отчего измученный, весь мокрый от испарины Фараон конвульсивно задергался.
– Так и доложь, – сказал фельдшер, поднимая вверх свое толстое бабье лицо с крошечным носом и обводя всех торжествующими глазами. – Стрелять надо коня.
В переплет костей ударило, – подтвердил он, с видимым удовольствием, и стал вытирать руки о гриву Фараона.
Не сказав ни слова, взводный пошел к командиру.
Мы, не шевелясь, стояли вокруг лежащего коня, только фельдшер самодовольно, с противным чмоканьем, обсасывал свои рыжие усы, да дрожала вытянутая в воздухе нога Фараона. Нестерпимо было смотреть на него, надо было уйти, но уйти я не мог.
Шпоры взводного звенели где-то близко.
– Ну? – спросил фельдшер и, зная вперед, что ему скажут, отстегнул кобуру револьвера.
Взводный издали махнул рукой.
– Подожди! – с отчаянием закричал я фельдшеру и побежал прочь, зажимая уши.








