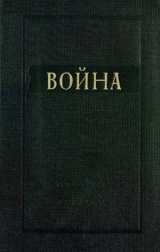
Текст книги "Война"
Автор книги: Михаил Зощенко
Соавторы: Лев Славин,Николай Тихонов,Виктор Финк,Михаил Слонимский,Юрий Вебер,Семен Розенфельд,Николай Брыкин,Кирилл Левин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 52 страниц)
В восемь двадцать девять на средней полевой дороге показался зеленый огонек: конвойный на велосипеде объезжал владения Альфонса Вейнерта, по-видимому, для очистки совести, ибо сумрак становился черным. У оврага дорога кончалась; огонек сделал круг и повернул назад.
– Завтра приведут собаку… – неожиданно решил Костя, хотя мысль о собаке до тех пор не приходила ему в голову.
– А если еще сегодня ночью? – подхватил Игнат, сразу уверовав в собаку.
Собака была враг гораздо более опасный, чем плывущий в темноте огонек, чем завтрашняя облава молодежи. В казарме оставались вещи с их запахом: солома на нарах, попоны, мешки с брошенной мелочью, – никто не предупредил товарищей, что вещи надо перепутать, спрыснуть дезинфекцией, пересыпать паприкой, а сами они едва ли догадаются.
– Догадаются, – сказал Игнат с полной уверенностью. – Ты нашей команды не знаешь…
Были и другие доводы, утешительные для беглецов:
– Собаку Альфонсу пришлось бы выписывать из города за свой счет…
Кроме того:
– Альфонсу сейчас не до собак…
И главное:
– Если всех беглых пленных немцы будут ловить с собаками, то в Германии не хватит собак.
И все-таки, если при всех неудобствах ночного передвижения – без дороги, с оглядками и заметанием следов, с длительными пережиданиями в канавах и редкими вылазками на перекрестки для чтения надписей на столбах – они в первую же ночь откачнулись от Козельберга на шесть километров, – этому немало помог призрак полицейской собаки, от которой они не ждали спасения.
С рассветом они залегли в яму на холме, откуда горы на горизонте были по-прежнему далеки, но куда достигал гудок кирпичного завода близ Козельберга. Сам Козельберг лежал в отдалении внизу, и отчетливо была видна большая липа, о которой писал Адальберт.
Они провели мучительный день в ожидании собаки, а к ночи собака погнала их дальше. Она преследовала их еще несколько дней, но так же безрезультатно, и понемногу они перестали ее бояться. Вероятнее всего, никакой собаки и не было, а был всего лишь телефонный звонок от конвойного по начальству и на границу, где чья-нибудь скучающая рука приписала к огромному списку беглых пленных еще две фамилии с отметкой, что, в случае поимки русских с такими-то фамилиями, их следует направить в Козельберг, в команду с таким-то номером.
Гроза и дождь на шестой день побега помогли им перейти австрийскую границу. Многие беглые благословили эту прекрасную ночь, когда у часовых затылки и уши были запрятаны в воротники, когда штыки за их спинами наводили ужас на них самих, ибо могли привлечь молнию, когда они обходили свои участки, подхлёстываемые дождем, с единственной мыслью поскорее смениться и без желания хвататься за винтовку даже и при достаточно подозрительном шорохе.
В Судетах, далеко за пограничными столбами, весь следующий день отдыхали. Лесные места, мало людей; приятно, проснувшись после тревожной ночи, полежать на солнце под кустом дикой малины, срывая ягоды губами. Приятно сознавать, что собаке нет хода через границу. Еще веселее представлять себе, как с каждым днем вытягиваются лица в Козельберге, – сведений о поимке беглых с такими-то фамилиями не поступает и не поступает… Совсем весело от уверенности, что таких сведений туда уже и не поступит: Козельбергу – точка…
После приятного дня наступила ночь, и ночью Судеты показали, что для побегов они малоподходящее место. Дороги в горах круговые, по спирали – кольцо спирали во много верст, а на самом деле служит для того, чтобы поднять телегу с грузом на десять сажен. Можно наплевать на дороги и всю ночь продираться сквозь ельник с направлением как будто на восток, чтобы утром прийти к тем же самым местам, откуда вечером вышли, и даже найти след от своего вчерашнего костра. А если такая история повторится не раз и не два, лучшие друзья посмотрят друг на друга с разочарованием и заведут каждый свои особые мысли.
Призрак собаки исчез, но вскоре исчезли и сухари, до конца съеденные. Картофельные участки попадались редко и то лишь у избушек лесников, от малины и грибов тошнило. Падала дисциплина: на рассвете, чтобы выдержать стужу, уже требовалось жечь костер, без чего прежде обходились.
Днем Костя, с выросшей бородой, разглядывал карту:
– Здесь Австрия входит в Германию острым углом. Мы пересекли одну сторону угла, но стоит нам чересчур углубиться в том же направлении, и мы снова вылезем в Германию…
Он подвигал карту Игнату, словно оправдываясь и прося его убедиться, но Игнат смотрел строптиво:
– Кто его знает…
Костина карта уже не вызывала в нем почтения.
– Где фронт? – спрашивал он кратко.
Костя; показывал. До фронта спичка укладывалась три раза.
– А сколько мы прошли?
– Кусочек – чуть побольше спичечной головки.
Игнат откидывался, возмущенный и с удивлением.
– Когда же мы придем?
– Видишь ли, Игнат, – осторожно начинал Костя – добраться до фронта в один прием нам едва ли удастся. Но есть другой способ: мы отойдем подальше в Австрию, нас арестуют и отправят в австрийский лагерь, а оттуда на работу – куда-нибудь в Галицию – и вот уже мы ближе к России. Снова побег, снова арест – новый лагерь, еще ближе к России, и наконец…
Игнату такая бухгалтерия не нравилась.
– Если нельзя на фронт, чего было трепаться?..
Он не верил взятому Костей направлению. Несколько раз он говорил о каких-то высоких трубах, идущих сплошь на десятки верст, о воздушных вагонетках на столбах из железной паутины, об огромных зданиях из стекла, которые он видел по дороге в плен, через верхнее окошко запертого товарного вагона, и которые желал увидеть на обратном пути. Судя по лагерю, куда его привезли, он говорил о трубах Силезского горного округа. Костя уверял его, что сейчас они взяли на юг и трубы остались в стороне, но Игнат снова и снова возвращался к ним.
Его сведения из географии были очень спутанные. Однажды в Судетах, выйдя в темноте на берег горного озера, он серьезно спросил Костю, не Черное ли это море и не попали ли они случайно в Турцию. Между тем, был всего десятый день побега, из которых последние четыре они топтались на месте.
В Судетах Костя оказался во всем виноват. Он не умел делать компас из двоих часов, и из-за этого дело гибло. На досуге он пробовал своим умом догадаться, в чем тут был секрет, брал у Игната часы и подолгу вертел их в руках. Игнат иронически наблюдал его. Совсем другое лицо было у него теперь, не такое, как в первые дни, когда подкидывал он Косте лучшие сухари или когда ночью на перекрестках подставлял спину, чтобы Костя прочел надпись на столбе.
Костя теперь долбил одно: надо держаться на восток. Но где он, этот восток, когда ночью плутаешь среди деревьев, не видя звезд. Косте казалось, что Игнат, живший в пермских лесах, должен лучше его находить направление. Об уменьи Игната ходить по лесам у него было преувеличенное представление, такое же, как у Игната о его карте и его немецком языке.
– Игнат, – спрашивал Костя с надеждой, – где восток?
Игнат долго соображал и показывал в какую-нибудь сторону.
– Игнат, – спрашивал Костя через некоторое время, снова запутавшись, – где восток?
Игнат показывал, но уже соображал гораздо меньше.
В дальнейшем промежутки между вопросами и ответами делались все короче, в жесте были досада и небрежность, и как-то раз Костя заметил, что Игнат с одного места показывал в разных направлениях. Так мог делать только человек, разуверившийся в побеге, смеявшийся над товарищем и таивший свои особые мысли.
Однажды ночью, в самое горячее время, они сидели без толку над обрывом, утомясь скитаниями по местам, на которых уже они были.
– Нам надо вниз… – вдруг сказал Игнат, как командир, показывая на чащу ельника, покрывавшую обрыв. – Вставай…
– Зачем нам вниз? – удивился Костя. – Мы там бы ли вчера. Мы ходим вокруг одной и той же горы.
– Все равно, – настаивал Игнат. – Идти так идти. Нечего сидеть.
– Но зачем через чащу, когда есть тропа? – сопротивлялся Костя.
– Как знаешь, – крикнул Игнат, задыхаясь.
Он ринулся вниз сквозь дебри, сопя, работая руками. Костя невольно двинулся за ним, попадая под удары раздвигаемых им ветвей. Он считал, что в Игнате говорила потребность преодолевать препятствия, что-нибудь делать, чем-нибудь утолить бушевавшее в нем раздражение человека, готовившегося к подвигам, но попавшего в нудную заводиловку. Он считал это признаком еще сохранившейся в нем энергии и был рад этому, ибо сам от голода давно предпочитал сидеть на одном месте и мрачно размышлять.
Но вдруг он заметил, что Игнат словно меняет след, он зарывается в кусты все дальше в сторону, иногда затихает, и тогда кусты перестают шуметь, – было похоже, что он попросту хочет убежать от Кости, как от досадного, потерявшего кредит командира.
– Игнат, – окликнул Костя тихо. – Игнат!
Никто не отвечал ему, и почти сейчас же, через несколько шагов, он наткнулся на Игната, который должен был слышать его зов, но не отозвался.
– Я здесь… – выдохнул Игнат, глядя мимо Кости. – Я здесь. Чего тебе?..
Место, куда они пришли, было, как и говорил Костя, одним из поворотов круговой дороги, по которой они плутали уже несколько дней.
Днем, в прикрытии, устав от дум в одиночку, разговаривали. Игнат все чаще вспоминал о Козельберге: как они там без них? Выкопали ли картошку? И кто теперь отгребает у машины? И кому в эту зиму Альфонс поручит делать грабли, которые в прошлую зиму делал Игнат? К этим вещам у него был интерес и теплота, и было видно, что Козельберг повернулся к нему другой стороной.
– Из-за чего я от них бежал? – задал Игнат сам себе вопрос и, подумав, ответил: – Из-за конвойного… Хозяева его кормят, и пленный у него всегда виноват…
Костя не поверил, чтобы все дело было у него в конвойном, но промолчал.
– Впрочем, – перебил сам себя Игнат, – конвойному иначе нельзя. Не будет потрафлять, его из деревни выживут, на фронт отправят… Альфонс – вот кто главный командир. Гордец, пленных за людей не считает… Блошивую солому назад требует… За два года работы – двадцать папирос… – Впрочем, – продолжал он размышление, – не в Альфонсе дело. Он хозяин, ему нельзя распускаться. Марта – вот главная язва. Ведь это она конвойного на меня натравила…
Еще дальше нашлось оправдание и для Марты. Костя ждал, когда дело перейдет к свадьбе Гуго и Каролины, которую он для Игната считал главным поводом к побегу, – но или он в Игнате ничего не понимал, или Игнат не хотел быть с ним искренним, – о них он промолчал.
Одно было несомненным: Козельберг снова стал для Игната местом, о котором было приятно вспоминать. А когда человек в побеге начинает смотреть не вперед, а назад, это означает, что к такому человеку бесполезно обращаться с вопросами, где восток и где запад, ибо ему это уже безразлично, и все его мысли, вольно или невольно, клонятся к тому, чтобы быть арестованным.
Ночью добыли картошку и в яме в лесу разложили костер. Стало уютно, но между делом Игнат сказал, будто в эту ночь, плутая, они переступили какие-то камни, похожие на пограничные, – в свое время он не придавал этому значения, а сейчас вспомнил.
Костя взволновался. Последнее его утешение – уверенность, что он находится в Австрии, а не в Германии, – заколебалось.
– Туши костер, – сказал он резко. – Опасно…
– Это зачем? – недружелюбно ответил Игнат, заслоняя собой костер.
Костя отступил.
– Ты точно помнишь, что это были камни? – спросил он еще раз.
– Как будто… Да и не все ли равно: Австрия или Германия? – тяжело засмеялся он потом. – Сдаваться надо, сержант, вот что… Не вышло наше дело…
– Игнат, – выдвинул Костя последний довод, – ты бежишь в первый раз, тебе простят. А мне за второй побег, если я к немцам попаду, знаешь, что будет?
– Вот и выходит, – ответил Игнат, – что у нас с вами шкура трещит по-разному. Если вам наш костер не нравится, можете себе отойти и прятаться, как хотите. А мне – наплевать. Я желаю у костра сидеть…
– Прощай, – сказал Костя, вставая, взбешенный, но довольный тем, что дело наконец пришло в ясность. – Будешь в Козельберге, кланяйся Альфонсу.
Он рванул котомку и пошел в темноту.
– Стой, – переждав момент, вскочил Игнат. – Так нельзя… Надо по-хорошему…
– Я не виноват, что так вышло, – сказал он, когда Костя снова подошел к огню и остановился, не кладя мешка на землю. – Мы вместе пошли на это дело, мы столько времени были товарищами. Скажи, что мы расходимся по-хорошему.
– Конечно, – сказал Костя, тяготясь объяснением, – ты не виноват в том, что мне нельзя сдаваться.
Он торопился уйти. Он словно боялся, что Игнат вдруг раздумает и снова захочет честно продолжать побег, и тогда он не будет знать, что ему ответить.
– Подожди, – остановил его Игнат.
Он развязал котомку, достал пачку табаку, отсыпал немного в табачницу, остальное протянул Косте.
– Это тебе…
Он выгреб из золы картошку, большую часть отделил Косте, ему же отдал спички, всю соль, снял с себя какую-то добавочную споротую где-то подкладку, которую носил от холода.
– Мне уже не надо. Если ночью меня не загребут, сам завтра на дорогу выйду…
На прощанье они поцеловались. Они перестали быть ярмом друг для друга, и опять в их отношениях появилась прежняя сердечность.
– Что же, – сказал Игнат раздумчиво, на самый конец, – у тебя карта. Может, ты с ней чего и добьешься.
И снова почтенье к карте было в его голосе.
Отойдя, Костя долго разглядывал костер. У огня, успокоенно потягиваясь, заложив руки под голову, лежал Игнат и смотрел вверх: в такой позе перед побегом он лежал на снопах, и, может быть, та же ясность и решимость были теперь в его душе, как и тогда, когда он твердо знал, что ему предстоит делать.
Костя мыкался еще три дня: по карте – все еще в пределах спичечной головки. Главной его заботой было найти пограничные столбы, которые будто бы они во второй раз перешли с Игнатом, узнать, в Австрии ли он или в Германии.
Ночные переходы по-прежнему никуда не подвигали, он стал похаживать днем, – подготовляя себе этим провал, – мерз на рассветах, отсыпался на солнце в полдень.
Солнца было мало, из ям и из прикрытий тело тянулось к теплу, осторожность забывалась, и однажды он проснулся не сам, не от того, что выспался, и не от начавшегося дождя, – его разбудило чужое и неласковое прикосновение.
Открыв глаза, он прежде всего увидел палку, пахучую, свежевырезанную, концом которой кто-то шевелил его локоть. Выше палки была корзина с грибами, а еще выше востренькое бородатое лицо. Человек был очень мал ростом и носил драное платье. Он ничего не говорил, он смотрел на Костю с угрожающим лицом.
– В чем дело? – сказал Костя, вставая, с независимым видом. – Вы штатский человек, какое вам дело? Идите своей дорогой…
Но человек застучал палкой о землю, поставил корзину под дерево и схватил Костю за руку.
– Я никому не делал вреда, – сказал Костя тоном убеждения. – Не мешайте мне идти, куда я иду…
Человек задвигал губами, коротко промычал и, дернувшись, потащил Костю за собой. У него была цепкая рука. Костя, упираясь, продолжал говорить. Он перешел к просьбам, он простым и ясным образом доказывал ему, что он не злодей, а пленный, и идет домой в Россию, и что только человек без сердца может ему в этом помешать. Он обращался к его жалости, но человек тряс головой все яростнее и, выбрасывая слюни, мычал. Наконец, Костя понял, почему он не отвечает ему: он был глух и нем, – можно было до вечера распинаться перед ним, и он все равно не понял бы ни звука. У Кости опустились руки, и он молча пошел впереди человека, который одной рукой держал его за плечо, а другой держал наготове палку.
По одну сторону дороги был редкий сосновый лес, по другую – поле с работающими на нем людьми. Костя посматривал в сторону леса, и человечек, заметив это, снова замычал и застучал палкой, а затем, забежав вперед Кости, повернулся к нему с улыбающимся и хитрым лицом и начал что-то показывать на пальцах.
По-видимому, от мер устрашения он решил перейти к мерам убеждения. Он показал на лес вдали, помотал пальцами у себя под носом и сморщился, точно от дурного запаха.
Это могло означать:
– Не ходи в лес: там плохо пахнет…
И Костя, ошарашенный его преувеличенной мимикой, так и понял его, и с удивлением посмотрел на лес, соображая, что бы там могло плохо пахнуть.
Человечек еще раз показал на лес, сделал зловещее лицо, схватил себя сзади за шею и клацнул зубами.
Это означало:
– Не ходи туда: там тебя схватят за шею…
Затем он повернулся в другую сторону, где за полем были видны яркие черепичные кровли, и изобразил на лице восхищение. Все в этой стороне было прекрасно. Он показал, будто что-то ест и что-то пьет, и перевел палец на Костю, давая понять, что пить и есть дадут Косте. Он несколько раз ткнул Костю пальцем в грудь, чтобы у него не оставалось сомнений.
Его резкая и страстная мимика в первые минуты действовала на Костю подавляюще, невозможно было оторвать взгляда от его лица, но очень скоро Костя привык к нему и стал соображать. Кем, собственно, был этот человечек, явившийся мычащим препятствием на его пути: каким-нибудь десятым помощником лесника, вооруженным только палкой? Не позорно ли сдаваться глухонемому? Не лучше ли показать ему кулак и броситься от него в сторону, в тот самый лес, в котором плохо пахнет? Если люди, работающие на поле, не захотят бросать работу, дело может выгореть.
Толкнув человечка в грудь, он бросился через жнивье к лесу. К его удивлению, человечек, пронзительно промычав, побежал не за ним, а в противоположную сторону, к людям на поле, дико размахивая палкой. Люди на поле, по-видимому, привычные к подобным делам, сейчас же отозвались и бросились вдогонку. Костя, задохнувшись, остановился: нельзя было рассчитывать уйти от стольких преследователей. В деревню он вошел со связанными руками, под конвоем того же человечка и под наблюдением издали всех остальных.
Деревня называлась Вейсбах. Это он прочел на столбе. Там было еще написано, сколько в ней было жителей, но ничего не говорилось, в Австрии она или в Германии. Люди говорили по-немецки. Костя, мучаясь неизвестностью, шагал вдоль домов.
Седой военный, в белых штанах, черном мундире и с галуном на кепи, шел ему навстречу. Это был несомненный австрияк, сельский жандарм, принявший Костю в свое ведение. Он был дружелюбен, с первого же слова вспомнил, что человек, столько дней проведший без крова, должен хотеть есть, и повел его к старшине, который и должен был придать его дружелюбию вещественное оформление и накормить Костю хлебом и кофе.
Затем на голову Кости одна за другой обрушилось несколько радостей.
По дороге в арестный дом жандарм сказал ему:
– Если вы хотели в Германию, вы не добежали совсем пустяка: граница – вон там…
Он показал как раз на лес, в котором плохо пахло и куда, по счастью, не добежал Костя.
– Но раз вы в Австрии, – продолжал он, – вы в Австрии и останетесь. По новому указу Австрия не выдает пленных…
К ночи Костя был доставлен в уездную тюрьму. Там уже несколько дней сидел Игнат, дожидаясь отправки внутрь Австрии.
Николай Брыкин
Малиновые юнкера
Особые полкиВ полки особого назначения попадали только стройные, рослые, грамотные и красивые солдаты.
Отбирались они так.
Солдат гоняли в баню, выдавали новое обмундирование и, основательно помуштровав, выстраивали на пыльном плацу.
Курносых, раскаряк в этот день наряжали на кухню чистить картошку. Они могли испортить настроение бригадному генералу.
Окруженный всегда с иголочки разодетыми адъютантами, надменными и высокомерными штабными офицерами, генерал, не торопясь, шел по фронту, внимательно всматриваясь в каждого солдата.
Солдаты не дышали. Им было приказано замереть, превратиться в истуканов, что каждый по мере своих сил и способностей и делал.
Пройдя несколько шагов, генерал вдруг останавливался. Он впивался в лицо, рассматривал солдатский нос, глаза, затем взгляд его превосходительства незаметно опускался на плечи, грудь, живот.
И если солдат имел стройную фигуру, длинные, как у журавля, ноги, привлекательное лицо, правильной формы голову и если он к тому же держал колесом грудь, генерал улыбался. Солдат осчастливлен: его повезут во Францию, он удостоится чести значиться в списках особых полков, со всеми вытекающими отсюда «заманчивыми» последствиями.
Выбрав отвечавшего всем требованиям солдата, генерал делал знак «пальчиком»: «Иди-ка сюда, голубчик!»
Счастливец вылетал, расталкивая товарищей, из строя и, высоко задирая ноги, шел к бригадному. Дойдя до генерала, он зверски ударял каблуками и, став во фронт, замирал. Генерал еще раз, точно барышник, осматривал солдата, щупал грудные мышцы и мягко, с легкой усмешкой говорил:
– Пройдись-ка, голубчик. Не хромой ли ты?.
Солдат рубил тяжелыми, точно колоды, сапогами плац, поднимая тучи пыли.
– Кругом! – внезапно подавал команду бригадный.
Ротные нас предупреждали об этой хитрости бригадного – ловить неожиданной командой солдата. Мы держали, что называется, ушки на макушке. Шли и все время ждали команды, – дескать, не проведешь.
Солдат молодцевато с довольным выражением на лице, – мол, не удалось его превосходительству подловить нашего брата, – ловко поворачивался и еще отчаяннее рубил ногами по всем правилам строевого искусства, размахивая руками, навстречу генералу. Сейчас должна последовать команда «стой» (вторая хитрость бригадного), и надо вовремя молодецки остановиться, замереть.
– Стой!
Солдат озверело отстукивал каблуками и замирал.
– От ста отнять семнадцать, сколько будет, голубчик? – спрашивал бригадный.
– Восемьдесят три, ваше высокопревосходительство.
– Сколько? – делая вид, что не расслышал, прикладывая руку к уху, переспрашивал довольный генерал.
– Восемьдесят три, ваше высокопревосходительство, – отчеканивал солдат.
– Как, как? – сразу оживлялся генерал. – Что ты, братец, сказал?
– Восемьдесят три, ваше высокопревосходительство.
Генерал начинал отечески журить солдата за ошибку, поучать, а заодно показывать молодым офицерам блестящее знание устава: дескать, смотрите, молокососы, генерал – а как вызубрил устав.
Но история с титулом повторялась каждый раз, когда приезжал генерал. Солдат отлично знал, как нужно титуловать генерал-майора, но, желая доставить бригадному приятное, офицеры полка приказывали нам ошибаться. Ну, мы и ошибались, величали бригадного генерала «ваше высокопревосходительство», а не просто «ваше превосходительство».
Задав солдату еще несколько вопросов: «Как называется столица нашей союзницы – Франции?», «Какой главный город Англии?», «Кто, кроме Германии, враг русского народа?» – генерал, довольный смышленостью солдата, трепал его по плечу и благодарил за службу.
Затем следовал деловой вопрос:
– Как фамилия, голубчик?
– Иванов, ваше превосходительство.
– Молодец, Иванов, молодец. За богом молитва, за царем служба не пропадет. Верю, не ударишь лицом в грязь.
– Рад стараться, ваше превосходительство.
– Грамотен?
– Так точно, ваше превосходительство.
– Женат?
– Так точно, ваше превосходительство.
– Дети есть?
– Не могу знать, ваше превосходительство.
Генерал делал изумленное лицо:
– А как же это так, голубчик? Кто же должен знать? Я? Я тоже не знаю.
– Два года дома не были мы, ваше высокопревосходительство.
Генерал несколько секунд безмолвно смотрел на солдата, как бы говоря: «Что же это ты, голубчик, так опростоволосился», затем весело и заразительно смеялся. Он любил этот старый тупой военный анекдот, который ему, видимо, никогда не надоедал, любил он и солдат, знавших, как нужно отвечать.
Но вот интермедия кончилась. Генерал еще раз осматривал солдата и, посоветовавшись с окружающими его офицерами, кивал головой:
– Налево, голубчик. Послужи царю-батюшке и родине на чужой земле.
Солдат бессмысленно пучил глаза, молодецки поворачивался и, озверело топая коваными тяжелыми сапогами, шел в сторону от строя, где уже толпились отобранные генералом кандидаты в особые полки.
Мне очень хотелось побывать в заморских странах, посмотреть на иных людей, на иные земли и города. А больше всего хотелось побывать на Эйфелевой башне. Солдаты говорили, что башня в сто раз выше Ивана Великого.
И еще в ротах говорили, что ежели забраться на самую ее макушку, то можно увидеть весь мир, всю матушку Россию.
С Эйфелевой башни я рассчитывал увидеть и свое село Даратники, большой пруд, в котором водилось много карасей, и покосившуюся избушку матери, а может быть увидеть даже и свою мать…
В запасных частях обмундирование выдавали, не считаясь с ростом и телосложением. В особых полках все обстояло иначе. Там с каждого «француза» сначала снимали мерку и только после этого заказывали обмундирование. Гимнастерки и брюки шились из тонкого чистого сукна. Шинели офицерские.
Но особенное восхищение вызывали погоны «французов». Малиновые, с небольшими белыми кантиками и красными римскими цифрами на полях, обозначавшие номер части, они, словно терпкое вино, кружили нам головы.
С завистью глядели мы на солдат особых полков. Счастливцы! Им разрешалось ходить по солнечной стороне (нижним чинам в царское время запрещалось в городах ходить по солнечной стороне), а тульские девушки (четвертая особая дивизия стояла около Тулы) были без ума от особцев. На нас же они и глядеть не хотели.
Это здорово донимало нас. Постепенно зависть перешла в ненависть. Мы потихоньку поколачивали малиновых юнкеров. Не оставались в долгу и особцы. Между солдатами запасных полков и особыми полками шла негласная война. Мы лупили друг друга где придется и как придется. Начальство не слишком взыскивало с нас за это и ничего не предпринимало к прекращению междоусобицы. А под конец дело дошло до того, что «французы» в одиночку боялись показаться на улицу.
К чему грех таить? Сейчас об этом можно сказать. Я крыл на чем свет стоит малиновых юнкеров, издевался над ними, не один раз участвовал в побоищах, а самому мне очень хотелось попасть в особые полки. Я мечтал о той счастливой минуте, когда я, разодетый юнкер, пойду по солнечной стороне города. В моих ушах уже звенели восхищенные голоса тульских дульциней:
– Кто этот красавец? Как фамилия этого красивого мальчика? Как он хорош.
В деревне у меня осталась подруга. Расставаясь с ней, я поклялся ей, как это водится в таких случаях, быть верным до гроба. Бог мой, как бы она была поражена, увидев меня в такой роскошной форме.
В общем все говорило за то, что мое место только в особых полках. Но я не вышел ростом. А туда отбирали только жердяев. И придумал я великую хитрость.
В день смотра обвязал я грудь длинным домотканным полотенцем, напялил на себя две нижние рубахи и подбил к сапогам толстые деревянные каблуки.
Но зря я выпячивал грудь колесом, зря «ел», больше чем следует, глазами начальство. Бригадный даже не посмотрел на меня. Но я решил идти напролом: была – не была.
Когда счастливцы проходили мимо роты, я выскочил из строя и, нарушая все воинские правила, пристал к последнему солдату и, задрав голову, зашагал, каждую минуту ожидая, что вот-вот начальство вытащит меня из рядов и отправит на гауптвахту. Но все мои страхи и опасения оказались напрасны. Взводный, переписывая нас, со вздохом сказал:
– Неужели тебе, Глебов, на Западный фронт хочется ехать? Дурак, родная земля мягче. Да и теплее.
– Брат там у меня, господин взводный… С братом давно не виделся, – соврал я взводному.
– Брат, говоришь, там. Это – другое дело. Это – другое дело, – и взводный внес мое имя в списки 16-го особого полка, в роту связи, – там, мол, и такой «орел» сойдет.
Вечером он вызвал меня к себе в палатку, дал полтинник и, не глядя на меня, буркнул:
– Принеси бутылку вина, фунт колбасы, две булки, банку ваксы, десяток малосольных огурцов и полтора рубля сдачи.
Я негромко – как и подобает нижнему чину – рассмеялся. Шутник этот господин взводный! Но, взглянув на побуревшего взводного, я понял, что он и не думал шутить.
– Ну! шагом марш! Да побыстрее! – скомандовал взводный.
– Господин взводный… На полтинник нельзя столько купить…
– Мало? Ты что думаешь, взводный – неграмотный, считать не умеет? Раз говорю – хватит, значит хватит! – угрожающе наступая на меня, закричал взводный.
Кровь прилила к моей голове. За дурака, что ли, меня принимает он? Не помня себя, я крикнул:
– Господин взводный, как же на полтинник все это купить?
– А вот как! – подскочив ко мне, ударил взводный меня по лицу и вытолкал из палатки.
– Ты что? Летать учишься? – обступили меня товарищи.
– Да, вот, – говорю, – взводный полтинник дал, а купить велел на два рубля товаров… Да еще полтора рубля сдачи ему неси…
– Ну, и что ж такое? Иди и покупай.
– На полтинник?;
– Эх ты, деревня-матушка. А еще в Москве жил… Спасибо говори, что дешево отделался… Вчера взводный псковскому четвертак дал, товара на пять рублей приказал купить, да еще сдачи семь рублей доставить.
И, посмеявшись над моей темнотой, они посоветовали отправляться в лавку.
– Беги, беги скорее, чубук ты этакий! Сколько велено вина купить? Бутылку? А ты две купи да сдачу удвой, тогда, может, простит он тебя. А так сгниешь, чубук ты зеленый, на кухне за картошкой.
Но мне так и не удалось откупиться. Произошло ли это оттого, что я порцию вина удвоил, а сдачу оставил прежнюю, – не знаю, но только на следующий же день взводный к чему-то придрался на учении и поставил меня на два часа с полной боевой выкладкой под винтовку. А затем пошло и пошло. То стою под винтовкой, то чищу на кухне картофель, то освежаю ротные уборные, то мою посуду, а затем снова под винтовку.
Так продолжалось две недели. Наконец мне это надоело. Надоело стоять под ружьем, чистить картошку, освежать солдатские отхожие места. Я решил жаловаться. Иначе, чего доброго, взводный сгноит меня на кухне. И жаловаться я решил прямо командиру полка.
Командир полка, полковник Караганов, звал солдат братцами, детьми, и я решил обратиться к нему как к отцу родному, рассказать ему о бесчеловечном обращении взводного.
Несколько дней сочинял я заявление, в котором решил не скрывать и не утаивать все свои мучения. Не позабыл сообщить командиру и о случае с полтинником.
Но как передать заявление? Идти в штаб – боязно. Да меня туда просто не пустили бы. Не придумав ничего лучшего, я решил передать жалобу через денщика командира.
Выслушав мою просьбу, он оглядел меня с ног до головы и, презрительно усмехнувшись, протянул:
– Эх ты, деревня!
И пошел прочь. Что он хотел этим сказать – не знаю.
«Ну, хорошо, – подумал я, – не хочешь помочь мне, так я и без тебя все устрою». Набравшись храбрости, я дошел до командирского особняка. В садике играли две девочки, нарядные, похожие на грациозных кукол. Это были дети командира полка.
Когда одна из девочек подошла к решетке, я попросил ее передать письмо отцу и, обрадованный своей находчивостью, побежал в казармы.








