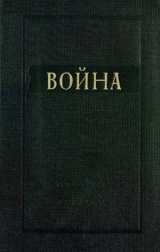
Текст книги "Война"
Автор книги: Михаил Зощенко
Соавторы: Лев Славин,Николай Тихонов,Виктор Финк,Михаил Слонимский,Юрий Вебер,Семен Розенфельд,Николай Брыкин,Кирилл Левин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 52 страниц)
Третий батальон оторвался от своего полка. Васильев вывел его из взбаламученного моря растрепанных, перемешавшихся между собой войск, которые никем не управлялись и метались, совершая бесцельные марши, натыкаясь всюду на немцев, поколачивая их иногда, но в конечном счете ни разу не сумевших использовать плоды своих побед. Бледный, с перекошенным лицом шел Бредов во главе своей роты. Штабс-капитан сильно страдал. Иногда ему казалось, что он подобен слепому щенку, который не видит и не понимает, что делается вокруг него. Была победа. Он гнал неприятеля, он брал пленных, он видел эти жалкие бегущие фигурки, видел, как яростно и беззаветно шли в атаку русские солдаты, как здорово управляли своими ротами и батальонами многие офицеры, и все же русские были разбиты. Вот они идут, оторванные от своего полка, – куда, зачем? Спасаются, бегут. Он боялся смотреть на солдат, он испытывал странный стыд перед ними, – ведь он был одним из тех, кто своим плохим управлением лишал солдат плодов их страшной кровавой работы, кто губил их, разрушал веру в своих начальников.
С трудом мог он представить, как это случилось. Положение резко изменилось за два-три дня. Почему-то стремительно отступила соседняя дивизия. Он видел, как по дорогам, по тропинкам, через леса, через немецкие деревни торопливо шли растрепанные части. Никто толком не знал, в чем дело, но все были охвачены паникой. Их дивизия держалась дольше других. Но, атакованная немцами и лишенная поддержки, она покатилась назад. Казачий офицер, задержавшийся со своей сотней возле стоянки полка, рассказал о том, что он видел за последние дни.
– Сбиты фланги, – говорил он. – Немцы прорвались в тыл. Мы наступали, а они обходили нас. Вот и рассыпалась армия, словно карточный домик.
Это был худой, жилистый человек с кротким лицом, осыпанным веснушками. Садясь на коня, он повернулся к офицерам и показал нагайкой на запад:
– Мы были верст за сто отсюда, – сказал он. – Ей-богу, думали, что через месяц будем в Берлине… Ведь как дрались, как наступали… Я не поклонник пехоты, но должен признать – классически воевали. Хар-рошие я видел полки, превосходнейших офицеров… Как же все-таки получилось так, господа?
И, не дождавшись ответа, поехал прочь, впереди сотни.
Бредов хмуро смотрел ему вслед.
– Господин капитан, – услышал он робкий голос и оглянулся.
За ним шел толстоватый, с узкими бедрами офицер – прапорщик Олейников. Он был из запаса, университетский значок, белый с синей эмалью, висел на его груди. Офицеры посмеивались над ним за его штатский вид, и Бредов раздраженно подумал, что прапорщик испуган поражением и будет нудно расспрашивать о том, выберутся ли они, и о других вещах, о которых не говорят настоящие военные.
– Не напоминает ли вам, – негромко говорил Олейников, догоняя Бредова и шагая рядом с ним, – наше теперешнее шествие («фи, какое слово!» – поморщился Бредов) великое переселение народов? Мне, как историку, всегда приходят в голову исторические примеры, – как бы извиняясь, пояснил он, – но все-таки сравните; ночь, где-то скрипят повозки, ржут лошади, идут бесчисленные толпы воинов, звенит оружие, и над всем этим, как и тогда, тысячу пятьсот лет тому назад, светят чистые вечные звезды, кометы совершают свой путь, миры проходят над нами.
Бредов стиснул зубы. Злобы у него не было к этому, очевидно, совершенно постороннему человеку, была только усталость и ноющая, похожая на зубную, боль во всем теле.
– Я не думаю о переселении народов, – с усилием ответил он, – есть, как будто, дела поближе и поважнее.
– Это вы о нашем отступлении? – спокойно спросил Олейников. – Но ведь мы победим в конце концов. Ведь Германия окружена с запада и востока, ей ни за что не устоять.
Бредов опять подумал, что прапорщик совершенно посторонний человек в военном деле. Он не понимает тех ужасных внутренних причин поражения, которые больше всего пугают Бредова.
«Да, да «в конце концов», – горько подумал он. – А кто мне скажет, что будет через неделю, через месяц, хватит ли снарядов и винтовок, придут ли на смену теперешним негодным полководцам другие – знающие, полные железной энергии и воли к победе?»
Они шли в темноте грозной ночи, на каждом шагу таящей в себе смерть, панику, – одинокий батальон, выведенный своим командиром из кипящего моря разбитой, растерянной армии, которой никто больше не управлял и которая, не будучи еще разбитой, уже утратила самое свое драгоценное качество: воинский дух и веру в своих командиров.
На опушке леса стояли три автомобиля, окруженные маленькой группой казаков. Васильев заметил их еще прежде, чем ему доложил головной дозор, так как он шел впереди батальона.
Он подходил к автомобилям своим спорым, развалистым охотничьим шагом, щуря зоркие синие глаза, привыкшие к темноте.
– Что за часть? – спросил повелительный голос, и Васильев, сдвинув каблуки и подняв к козырьку руку, отдал краткий рапорт. Он вглядывался в спросившего его человека и все яснее различал тяжелую, плотную в груди и в плечах фигуру, опиравшуюся на борт автомобиля.
– Останьтесь пока при мне, – сказал голос, и Васильев окончательно узнал командующего армией, которого он видел в начале кампании.
Охваченный тревожным чувством, он не смел, однако, спросить, почему полевой штаб армии (автомобили, конвойные казаки) очутился ночью в лесу, вдали от жилых мест, очевидно лишенный связи с корпусами, подвергаясь угрозе неприятельского нападения. Он, хмурясь, отошел к своему батальону и вполголоса стал отдавать распоряжения. К нему подошли офицеры, и он отрывисто сказал им, в чем дело, и, дергая себя за усики, сейчас же скрылся, явно не желая ни с кем разговаривать. Но слух, что в лесу находится командующий армией, не мог не распространиться среди солдат. Они тревожно и любопытно поглядывали на автомобили. Подходили ближе, пытались поговорить с казаками, догадываясь, что раз штаб, который по обычаям всех крупных штабов должен был находиться где-то далеко позади, попал так близко к неприятелю, в кучу перепутанных и отступающих войск, то дело должно быть плохо.
Так действительно и было. Самсонов ехал в Нейдебург, чтобы взять в руки руководство наступлением своих центральных корпусов. В дороге ему донесли об отходе шестого корпуса, то есть о том, что левый фланг армии, как и правый, был обойден германцами. Офицер, который привез Самсонову известие об отступлении шестого корпуса, был нервный, с беспокойными движениями человек, на бледном измученном лице которого заметно выделялся широкий, тонкогубый вдавленный рот. Видимо, желая оправдать командование своего корпуса, он говорил о тяжелых боях с превосходными силами немцев. Самсонов слушал его молча. Только по его чуть дрожавшим плечам и все более красневшей шее чувствовалось напряжение, которое он испытывал. Он оглянулся и, видя, с какой растерянностью и отчаянием смотрят на него офицеры штаба, и чувствуя, что нельзя молчать, произнес первые слова, которые пришли ему в голову:
– Передайте, полковник, командиру корпуса, что он должен какой угодно ценой держаться в районе Ортельсбурга. От вашей стойкости зависит успех наступления тринадцатого и пятнадцатого корпусов.
Он болезненно отметил, с каким недоумением переглянулись капитан Новосельский и полковник Вялев.
«О каком наступлении может идти речь? – спрашивали их взгляды. – Ведь мы обойдены с флангов. Отступать, скорее отступать». Но Самсонов не знал, как ему можно отступать. У него уже не было армии. С то-то момента, когда он снял Юз, соединявший его с командованием фронта, и бросился в передние ряды своих войск, он потерял управление армией и знал о ее положении не больше, чем любой начальник дивизии. Он чувствовал себя раздавленным стихийно надвинувшимся на него хаосом, бежал от него и по старой привычке храброго кавалериста бросился в самую гущу боя. Он думал, что у него есть только один выход: умереть. Это было самое простое, самое легкое из того, что он мог сделать. Но когда он вспомнил об армии, о сотнях тысяч солдат и о тысячах офицеров, жизнь которых была ему вверена Россией, он чувствовал, что и смерть не выход. Надо было попытаться что-нибудь сделать, и опять начинался для него заколдованный круг. С великой завистью смотрел он на младших командиров. Они не знали этих иссушающих забот. Они могли драться, непосредственно руководить своими частями, вести их в бой, гибнуть в бою. Ах, с какой радостью встретил бы он неприятельскую пулю, честную солдатскую смерть на поле битвы!
Проходила ночь. Вокруг стояли зарева, выстрелы орудий доносились со всех сторон. На сидении автомобиля, скорчившись, спал адъютант и по-детски сопел носом. Казалось, что никогда не наступит утро. Самсонов не спал, ходил по дороге. Он увидел истомленные лица штабных офицеров, конвойную сотню, расположившуюся кругом, и пехотный батальон, которому он неизвестно зачем приказал остаться при себе. Маленький армейский офицер с соломенными усиками в сопровождении двух солдат возвращался по лесной тропинке. Его сапоги были мокры от росы. Они встретились, и Самсонов остановился. Ему понравилось, что батальонный командир сам ходил в разведку, понравились его неторопливые движения, его умные глаза.
– Какие новости, капитан? – отрывисто спросил он.
Васильев, всю ночь проведший в разведке, тихо доложил, что в деревне Мушакен находятся артиллерия и пулеметы противника, что перед деревней Саддек им обнаружены кавалерийские разъезды германцев, что окружающие дороги заняты в беспорядке отступающими русскими и забиты обозами. Самсонов слушал молча и кивнул головой, как бы отпуская Васильева. Но капитан не уходил. Он сделал шаг к генералу, вытянулся и голосом, в котором были преданность, просьба и служебная суховатость, сказал:
– Ваше высокопревосходительство, я хорошо знаю местность. Штабу надо выбраться отсюда, разрешите мне выполнить это.
Самсонов все так же молча смотрел на него, и вдруг испуганное выражение появилось на его лице.
– Нет, зачем же? – как бы защищаясь от предложения Васильева, сказал он и быстро пошел к автомобилям.
Там уже толпились офицеры. Среди них выделялась высокая, сухая фигура генерала Нокса, одетого в хаки, в фуражке с большим козырьком.
– Генерал, – сказал Самсонов, отводя Нокса в сторону и, видимо, торопясь высказать то, что он хотел, – я считаю своим долгом осведомить вас… – (тут он запнулся, подыскивая слова), – да, осведомить вас, что положение моей армии стало критическим. Мое место при войсках, но вам я советую вернуться, пока еще возможно это сделать. Прошу вас, передайте, что я остался на своем посту.
Нокс протестующе поднял руку, но Самсонов, отвернувшись от него, приказал, чтобы все автомобили шли на Валленберг. Он с упрямым выражением лица следил за тем, как, подымая пыль, машины уходили по лесной дороге, и слабым движением поднес руку к козырьку, отвечая на приветствие Нокса, сидевшего в задней машине.
– Мы поедем в Надрау, господа, – тихо сказал он, ни на кого не смотря. – Прикажите дать нам лошадей.
14Командир конвойной сотни, есаул со смуглым, восточного типа лицом, исподлобья посматривая на генерала, точно он не верил отданному им приказанию, отбирал восемь лучших лошадей, шепотом ругая казаков, неохотно слезавших с седел (сотня уже стояла в строю). Самсонов тяжело перенес грузное тело через круп маленького донского коня, пошатнувшегося под ним, и, улыбаясь, сказал Постовскому:
– Люблю казацкие седла. Сидишь, как в кресле.
Постовский ничего не ответил.
«Ну да, все пошло к черту, – думал он. – Но почему он этой ненужной вредной храбростью хочет загладить свои ошибки? Куда он ведет нас? Нет, ужасно это донкихотство».
Васильев решил двигаться за штабом, держась от него на расстоянии версты. Он обошел свой батальон, шутил с солдатами, старался показать им, что ничего плохого не случилось. Но отчаяние охватывало его. Он понимал, что штаб, попав в гущу отступающих войск и оторвавшись от всяких средств связи, обезглавил армию, лишил ее всякого руководства.
Он видел спокойное лицо полковника Вялова, видел Дюсиметьера, гвардейского офицера, с непринужденным видом сидевшего на рыжем сухом донце, генерала Постовского, самого Самсонова и вздохнул. Неужели никто не видит, что наступает катастрофа?
Среди сосен с их грозной темной хвоей стоял клен, и его лапчатые листья краснели по-осеннему ярко. Все, проезжая мимо, внимательно смотрели на красивое дерево.
Не прошло и часа, как вся картина отступающей, развалившейся и дезорганизованной армии, картина, напоминающая процесс разложения огромного трупа, открылась перед ними. Они вышли на дорогу, ведущую из Мушакена в Янов. Вся дорога была забита повозками, орудиями, зарядными ящиками, походными кухнями. Закинув за плечи винтовки, без всякого строя шли толпы солдат, молча или громко разговаривая между собой. Тут же с безучастным видом лежали на траве и под деревьями сотни людей. Среди солдат попадалось немало офицеров. Они угрюмо посматривали на штаб. Вялов окликнул пожилого капитана и спросил у него, куда идет его часть. Капитан иронически посмотрел на него.
– Виноват, господин полковник, – ответил он, останавливаясь и сутулясь, как очень усталый человек. – Тут нет моей части и нет, по-моему, никаких частей. Здесь сброд с бору по сосенке от двух, кажется, корпусов.
А куда они идут, – лицо у него задрожало, и глаза сузились, – куда они идут, про это вам, штабным, должно быть лучше известно.
Он приложил руку к козырьку и пошел дальше, припадая на правую ногу. Штаб пересек шоссе и по неширокой тропинке углубился в лес. Вдруг послышались выстрелы. Стреляли из деревни, дома которой виднелись сквозь редкие деревья. Полковник Вялов посмотрел в бинокль и приказал есаулу атаковать деревню. Есаул построил казаков офицеры штаба встали впереди и бросились вперед, крича «ура». Но сотня, состоявшая из казаков второй и третьей очереди, осталась на месте. Постовский посоветовал обойти деревню, пробиться на Вилленберг. Штабс-капитан Дюсиметьер с двумя казаками поехал на разведку. Прошло около часа. Самсонов, сгорбившись, сидел в седле, лицо у него осунулось, под глазами висели мешки. Дюсиметьер прискакал галопом и доложил, что Вилленберг занят неприятелем. Все молчали. Выходы в тыл были отрезаны. Оставалось пробиваться силой. Самсонов слез с седла, прошел в лес. Сосновые иглы скрипели под его ногами. Лес был старый, мощные высокие сосны стояли, как колонны древнего храма, сделанные из гравированной бронзы. Самсонов услышал легкие шаги и посмотрел. К нему подходил офицер маленького роста, с соломенными усиками, с тонким широким ртом.
– Ваше высокопревосходительство, – тихо сказал он, – вы меня видели вчера ночью и приказали остаться при штабе. – (Самсонов сделал отстраняющее движение и сказал: «Не нужно, никого не нужно».) Но офицер не уходил. Синие глазки смотрели сурово, сильнейшее волнение выражалось на его лице.
– Ваше высокопревосходительство, – сказал он, вытягиваясь. – Я поступаю не по правилам, вы можете взыскать, с меня, но сейчас я говорю с вами, как русский офицер со своим начальником в страшную минуту ответственности перед родиной, которую мы оба защищаем. Ваше высокопревосходительство, тыл отрезан, но там, – он показал на запад и на север, – там идут два наших корпуса. Может быть их еще можно собрать (это нужно сделать), сосредоточить в одном направлении, прорваться с ними из кольца.
Самсонов стоял, опираясь спиной о ствол дерева.
– Вы думаете? – медленно спросил он. – Нет, нет, я не знаю, как это можно сделать. Ведь все развалилось, нет никакого управления, нет связи с частями… – Он говорил, как в забытьи. – А потом такие командиры корпусов, как Артамонов, как Благовещенский, они же мне фланги проиграли. Другие не лучше… Разве один Мартос. Как же воевать при таких условиях? Нет, теперь ничего нельзя исправить, теперь можно только умереть, чтобы не влачить куропаткинского существования, – усмехнулся, точно поморщился, он.
Он пошел, наклонив голову, по-старчески сгибая колени. Васильев стоял, пока Самсонов не скрылся из виду. Он вернулся к своим.
С каждым часом размеры катастрофы, постигшей русскую армию, становились яснее. На небольшом пространстве лесов и болот, все больше сгущаясь в своей массе, сходились десятки тысяч растерянных, измученных и голодных солдат, многие из которых вели успешные бои с немцами и до сих пор не могли понять, как это вышло, что они, наступавшие и бравшие пленных, очутились в таком положении. Разрезанная на несколько живых кусков, армия слепо ворочалась в мешке, тонкие стенки которого она могла бы легко прорвать, если бы нашлись инициативные и энергичные штабы, сильные и хладнокровные вожди. Слабый кордон первой германской дивизии был растянут на несколько километров по шоссе Нейденбург – Вилленбург, и два русских корпуса, стеснившиеся в районе грюнфлисского леса, не могли, да и не пытались прорвать этот кордон. На севере в полной прострации пребывала первая армия. Но еще ближе, всего в пятнадцати километрах от окруженных корпусов, дралась третья гвардейская дивизия. Против нее действовали всего три батальона германцев, и, потеснив их, дивизия заняла Нейденбург. Ей нужно было сделать еще одно, последнее усилие – захватить деревни Мушакен и Напивода, и германское кольцо вокруг центральных корпусов Самсонова было бы разорвано.
Была ночь, над пылающим Нейденбургом стояло зарево горящих домов, редкие выстрелы слышались с германской стороны. После полуночи начальник дивизии генерал Сирелиус, слабовольный, неустойчивый командир, опасаясь обхода, которого не было, решил отступить. Так стоящий на берегу человек видит, как тонет его товарищ, он уже входит в воду, чтобы спасти его, но вдруг, охваченный малодушием, бежит. Дивизия Сирелиуса отступила, не дожидаясь рассвета, так как моральная неустойчивость, охватившая всю самсоновскую армию, коснулась и ее, и она была разбита еще прежде, чем вступила в сражение. Гвардейцы бежали так поспешно, что бросали орудия, винтовки, боевое снаряжение. Целые роты сдавались небольшим дозорам.
Восходящее солнце осветило высокие сосны грюнфлисского леса. На узких лесных дорогах, в оврагах, усыпанных хвоей, под каждым деревом сидели и лежали русские солдаты. Здесь были люди из нескольких корпусов – пехота, артиллерия, обозы, саперы, пулеметчики. Паника, трепавшая их еще накануне, теперь затихла. Все они были так изнурены и деморализованы, что не были в силах ничего больше предпринять. Они лежали с выражением полной апатии на худых, заросших лицах, слушали артиллерийский и ружейный огонь, грохот которого доносился к ним со всех сторон, ждали решения своей судьбы. Всего лишь неделю тому назад это была гордая, полная боевого духа армия, составленная из лучших кадровых частей и запасных самых молодых возрастов. Она обладала превосходной артиллерией, она была храбра, и когда сталкивалась с неприятелем в открытом бою, и когда ею правильно руководили, она действовала решительно и била противника. Несколько раз она ставила германцев в опасное положение, но в тот момент, когда крепким толчком надо было довершить начатое дело, проявить сильную волю, инициативу, – некому было это сделать. Для проведения ответственнейшей операции были выбраны, как на подбор, самые нерешительные, бездарные и просто безграмотные в военном отношении генералы.
15В ту же ночь, когда третий батальон наткнулся на штаб армии, Бредов увидел Новосельского. Он удивился перемене, которая произошла с блестящим капитаном генерального штаба. Лицо Новосельского осунулось, в глазах был нездоровый блеск, крупные зубы казались еще крупнее оттого, что у него ввалились щеки. Бредов был подавлен событиями последних дней и ни о чем не спрашивал Новосельского… Но капитан сам начал разговор.
– Помнишь, – усмехаясь, сказал он, – как ты, прости меня за откровенность, высокопарно говорил о генеральном штабе? Мозг армии – называл; ты нас, и вот смотри, как точно мыслит этот мозг, как прекрасно управляет он всем организмом армии.
Они сидели на поваленной сосне. Высоко над ними горели звезды. Липкая смола пачкала их одежду, но оба не замечали этого.
– Я состарился за эти дни, – глухо продолжал Новосельский, ковыряя стеком землю. – Еще в начале войны мне пришла в голову проклятая мысль; вести стратегический дневник всей нашей операции. Думал, что получится замечательная вещь, памятник нашего героизма, нашего военного искусства во вторую отечественную войну. Я копировал, я собирал все приказы по армии, по фронту, по корпусам, делал выписки из полевых книжек наших высших начальников. И знаешь, – он сухо рассмеялся, – это совершенно ужасно, то, что получилось. Если мы – мозг армии, то мозг разжиженный, да, да. Судя по этой операции, мы страдаем размягчением мозга.
Его позвал генерал Постовский. Он ушел, не прощаясь с Бредовым, горбя плечи, вяло передвигая ноги. Бредов смотрел ему вслед, охваченный страхом, чувствуя, что эти слова, ночь, окаймленная далекими заревами, суровые, ставшие чужими солдатские лица ломают его, путают так, что ничего, ничего не может он понять. Он бродил по лесу, натыкаясь на деревья. Косматые тени метались перед ним, ночное небо приняло буроватый, зловещий оттенок.
…Весь следующий день батальон метался по грюнфлисскому лесу. Жизнь армии затухала тут. В гигантской западне стеснились солдаты. Иногда они делали отчаянные, напоминающие агонию, попытки прорваться. Батальоны, полки развертывались неровными цепями, бросались вперед с последней храбростью смерти. Глухое «ура» вспыхивало, как предсмертный крик, и стрекотание германских пулеметов, выстрелы германских орудий тушили эти крики. Цепи в беспорядке возвращались в лес, падали на землю.
Васильев был молчалив. Он ехал на своей пегой толстоногой лошадке, сбочившись, в рассеянности опираясь левой рукой на окованную медью луку седла. В рядах батальона шли Карцев, Черницкий, Голицын, Рогожин. Ужогло, грустивший с тех пор, как убили Чухрукидзе, оглядывался кругом с беспокойным видом. Толкнув Карцева, с которым шел рядом, он сказал ему:
– Хочу с тобой попрощаться. Надо мне уходить.
Карцев с удивлением посмотрел на него, и латыш спокойно объяснил:
– Не хочу больше воевать. Пойду домой. Немецкий язык знаю, до дому двести верст. Нечего мне здесь больше делать.
Карцев кивнул головой. Он смотрел на Ужогло, и вдруг такая ясная и простая мысль прошла перед ним:
«А почему бы ему и другим тоже не уйти? Что удерживает их здесь?»
Батальон проходил как бы сквозь строй разбитых корпусов. Два солдата стояли в стороне от лесной дороги и разговаривали. Они одновременно повернули головы, и Карцев узнал их. Это были Мазурин и Мишканис. Мишканиса Карцев не видел с того времени, когда литовца вернули из побега. Черницкий тоже увидел их. Он первый вышел из рядов. Карцев последовал за ним. Машков молча отвернулся. Сейчас было не до дисциплины, он боялся сделать им замечание. Ужогло неторопливо присоединился к друзьям. Лицо Мишканиса было спокойно. Он радостно пожал руки солдат и, засмеявшись, потрепал по плечу Ужогло.
– Здорово, четырнадцатый годок, – сказал он, – как тебе служится?
– Вот домой собираюсь, – просто ответил Ужогло.
Мишканис внимательно посмотрел на него.
– Тебе пара, – улыбнувшись, сказал Мазурин, – ведь и ты собирался.
Мишканис пожал плечами. Он был такой же, каким видел его Карцев в первые дни своей военной службы – крупный белокурый человек с толстыми ногами, с неторопливыми движениями.
– Да, я собирался, – ответил он, – да, я не хочу здесь больше оставаться. Но я не знаю, куда я пойду. У меня нет дома.
– Дом мы тебе найдем, – тихо сказал Мазурин, – и товарищей найдем.
Третий батальон остановился. Вся дорога перед ним, все пространство леса было забито солдатами. Мазурин сосредоточенно смотрел на них.
– Когда уезжали на фронт, – заговорил он, – старик один, хороший старик, сказал мне, что война учит людей жестокой наукой. Побили нас немцы – и слава богу. Спасибо надо сказать, как в пятом году японцам спасибо говорили. Много будет у нас ученых после этой войны.
Карцева покоробили эти слова. Он глядел на лес, на тысячи солдат, валявшихся под деревьями, и не мог понять, как можно желать всем им – своим, русским людям – еще больших несчастий, чем те, которые они переносили. Как можно желать им поражения?
– Чем же все-таки это кончится? – спросил Черницкий. – Если было начало, должен же быть конец. Боюсь только, что конец будет для нас очень скучный.
– Я не буду дожидаться конца, – упрямо сказал Мишканис. – Меня много били в моей жизни, мне причиняли много несчастий. Мне противно терпеть за тех, кто меня гнул к земле. Да, я ухожу с войны.
Тяжелый германский снаряд разорвался над лесом. С треском рухнуло дерево. Расщепленный сук упал совсем близко от солдат, зеленые, точно испуганные листья дрожали еще несколько секунд после падения. Сухой, небольшого роста генерал, сердито помахивая рукой, прошел мимо них, сопровождаемый офицерами.
– Сделаем, сделаем, – резко выкрикивал он. – Прикажете умирать, как бабам? Собирайте ваши части господа.
До них донесся дребезжащий голос Васильева. Что-то происходило в лесу. Офицеры подымали солдат, высокий полковник звучным голосом говорил, что немцев на шоссе совсем мало, и молодецкий удар может вывести русских из окружения.
– Бодрей, бодрей, ребята! – кричал он. – Кто останется, тех побьют, как куропаток.
Конные ординарцы скакали по узким тропинкам, развозя приказания, судорожная жизнь вспыхивала среди мертвых полков, батарея, грохоча колесами, выскочила на самую опушку, снялась с передков, и первая очередь шрапнели брызнула по шоссе. Нестройные цепи выбегали из леса и бросались на немцев. Васильев, отшвырнув свою сабельку, с винтовкой шел впереди батальона. Громкое «ура» доносилось справа, ожившие батареи галопом выезжали на позиции.
Это была последняя атака левой колонны окруженных самсоновских корпусов, состоявшей из тридцать шестой дивизии и примкнувших к ней частей.
Рядом с собой Карцев видел яростное лицо Черницкого, ощерившегося Рогожина, сурового бородатого Голицына. Луг перед лесом был болотист, покрыт кочками. Сапоги у солдат были полны воды, но они, не замечая ничего, бежали в атаку.
Отчаяние, последняя надежда прорваться гнали солдат и офицеров. Они атаковали так стремительно, что германские шрапнели рвались далеко позади, пули летели высоко над головами.
– Достигли, достигли! – заревел Голицын. – Бей их, братушки…
Близко перед собой Карцев увидел шоссе, низкие брустверы перед шоссе и каски и фуражки германцев. Одни бежали, другие падали, третьи бросали винтовки и поднимали вверх руки. Германская бригада генерала Тротта, застигнутая врасплох, была разбита, двадцать орудий и сотни пленных достались русским. Но когда кончился бой, войска остановились, не зная, что делать. Управление, организованное штабом дивизии, куда-то исчезло. Очевидно, штаб не был уверен в успехе предпринятого им маневра. Высокий полковник бросился вперед, когда появились свежие германские батальоны, но остатки его полка и сам он погибли в бесплодной атаке. Растерянные солдаты, никем не руководимые, побежали обратно в лес. Германцы не преследовали их.
Медленно надвигалась ночь. Огромный грюнфлисский лес, в котором находилось много десятков тысяч людей, был все же тих. Бее то, что люди скопили из своей последней энергии, было полностью исчерпано ими. Дух их был мертв, никакая сила не могла больше поднять их. Так они лежали до рассвета и дальше весь день до тех пор, пока не приходили германцы, забирая их, как богатую жатву. Дивизии сдавались батальонам, роты – отдельным бойцам. Армия умерла, морально и физически – девяносто тысяч нераненых солдат, пятьсот орудий, огромнейшее количество боевого материала досталось победителям.
Третий батальон не сдался вместе со всеми. Васильев вывел его в узенький просвет, который он заметил в германской линии. Десятая рота шла в атаку в центре батальона. Бредов был впереди цепей. У него ввалились щеки и виски, в глазах светилась мука. Ему казалось, что мир рушится вокруг него, что он ступает по его обломкам.
– Ближе, ближе, – бормотал он, прислушиваясь к тонкому, как щенячий визг, свисту и вою германских пуль, – ближе, ко мне, конец, скорее конец.
Он видел хмурые, изверившиеся, полные отчаяния лица солдат, смотрел на их спотыкающиеся фигуры и не удивился, когда из цепи вышли двое и пошли назад.
Он знал, что перед его глазами совершен ужасный проступок, но никаких сил, никакой энергии уже не было у него, чтобы противодействовать тому, что произошло.
– Ближе, ближе, – шептал он, – ради бога, ближе ко мне, – и шел вперед, приближаясь к тому, что могло дать ему какое-то решение. И когда больно хлестнуло его по груди и стало тянуть к земле, он не сделал никакого усилия, чтобы удержаться на ногах, и упал с чувством успокоения, с чувством сладостного конца, пришедшего после тяжелых, унизительных мучений.
Батальон с солдатами, приставшими к нему из других полков, прорвался сквозь слабую цепь германцев и, проблуждав два дня в лесах и болотах, присоединился к своим.








