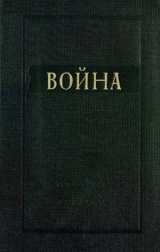
Текст книги "Война"
Автор книги: Михаил Зощенко
Соавторы: Лев Славин,Николай Тихонов,Виктор Финк,Михаил Слонимский,Юрий Вебер,Семен Розенфельд,Николай Брыкин,Кирилл Левин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 52 страниц)
Сестра с трудом кормит Лихачева. Столовой ложкой она раздвигает его челюсти и вливает в рот молоко. Но молоко булькает во рту, не проходя дальше.
С больного сваливается одеяло. Я вижу судорожно втянутый живот, похожий на живот борзой.
Он с трудом дышит. Температура доходит до сорока двух. У него начинаются судороги дыхательных путей.
Ноги и руки вытягиваются, как палки. Воздух со свистом выходит через нос. И больше не входит… Спазма сжала горло и не отпускает его. Долго еще его тело остается судорожно сжатым и жестким.
В один из вечеров, после операций, врачи отдыхают в комнате сестер. Главный врач, сидя на диване с папироской в зубах и окружая себя облаком дыма, подсчитывает количество ампутированных за неделю рук и ног: семьдесят пять рук… сорок ног… Семьдесят пять и сорок…
Многие из них умерли. Остальные отправлены в тыл. Причины ампутации делятся почти поровну – раздробление костей и гангрена.
Врачи и сестры смертельно устали. Они садятся на диван и стулья, будто падают, и долго остаются неподвижны.
Один венеролог не сдает. Он обожает анекдоты. Он может их слушать и рассказывать без конца. При этом он сам громко и заразительно хохочет, смакуя отдельные словечки и удачные фразы. Героями рассказов он делает себя и своих знакомых.
Офицеры не видят живого солдата-еврея. Он рядом с ними, в каждой роте, в каждом взводе. Он сидит рядом в окопах, такой же грязный, обросший, вшивый, голодный. Он несет сквозь всю войну все ее тяготы, он абсолютно слился со всей остальной массой, и солдаты его не ощущают чужим. Но в каждом офицерском анекдоте по старой, славной традиции фигурирует только еврей:
– У нас тут в пятой палате Каплан лежит. Ранен пулей. Входное отверстие со стороны спины. Я его спрашиваю: «Что ж ты, Каплан, струсил, зачем бежал от немца? Ну, сознайся, – ведь ты трус». А он отвечает: «Ах, ваше благородие, лучше быть пять минут трусом, чем всю жизнь покойником».
Для анекдота доктор поэтически извратил факт: Каплан был ранен не только в спину, но и в живот. Он был не только ранен, но и контужен. Это тот самый Каплан, который в первом же бою повел свой взвод в атаку, который за блестящую разведку получил Георгия, который был отмечен всем полком как образец храброго солдата.
Сестры смеются. Одна из них – единственная в компании краснощекая и цветущая, совсем малявинская баба, только слегка смягченная и облагороженная белой косынкой. Крикунья и хохотунья, она, как настоящая общинная сестра, заворачивает такие словечки и фразы, что даже врачи смущаются… Круто посолив и поперчив каждое словечко, она рассказывает, как у них в общине сестры наказывали подругу за опоздания на дежурство.
Венеролог опять рассказывает:
– Я в дивизионном госпитале работал. Работали сутки напролет. Кромсали, как попало. Ампутировали налево и направо. Раненых класть некуда. Лежат на полу, на столах, в коридорах, во дворе… Умирают пачками. А тут является ксендз утешать солдат-католиков. Подходит к одному, к другому, пробормочет что-то, даст распятие поцеловать и дальше идет. В одной палате, в углу, на полу, лежит тяжело раненый еврей Свирский. Перепутал, что ли, ксендз, или фамилия его сбила с толку, но он подходит к Свирскому и протягивает ему распятие. Свирский не движется. Ксендз спрашивает, протягивая распятие ближе: «Знаешь ли ты, сын мой, что это?» А Свирский этак печально улыбается и говорит, глядя на меня: «Хорошенькое дело… У меня пуля в животе, а он мне шарады задает…»
Юный доктор, шлифуя розовые ногти кусочком замши, рассказывает:
– Один солдатик, еврей, приносит после боя неприятельское знамя. Ему дают за это Георгия. После следующего боя – он опять тащит знамя. Ему опять Георгия. Так он четыре знамени притащил и все четыре Георгия получил. Восхищенный полковой командир спрашивает: «Ну скажи ты мне, Абрамович, как ты умудряешься доставать столько знамен?» А солдатик отвечает: «Видите, ваше высокоблагородие, у меня двоюродный брат в германской армии служит – так мы с ним меняемся…»
В компании хохот.
Этот анекдот, построенный на совершенно невероятном эпизоде, рассказывается уже сотни лет и основан на том, что евреи, будучи рассеяны по всему земному шару, служат в разных армиях.
Смех прерывает дежурная сестра. Прибыла новая партия раненых.
Их вносят на носилках одного за другим в приемный покой и оттуда разносят по палатам. Многих нужно срочно оперировать. Многие без сознания. Раны у доставленных покрыты бинтами, намотанными горой. Бинты промокают, и сквозь них сочится кровь.
В палатах больше нет мест, и раненых кладут в коридорах на пол. Пленные оставлены напоследок. К ним не подходят. Раненые заполняют все лестницы, коридоры и двор.
Простреленные груди, развороченные животы, проколотые горла, оторванные челюсти, раздробленные кости, разбитые черепа, выбитые глаза и тяжелые контузии всего организма…
Из всех палат несутся стон, крик и плач. Больные в бреду разговаривают и ругаются.
Пленные просят воды. Приношу кувшин с водой и кружку. Они жадно пьют и просят еще.
Красивый светло-русый немец тихим, едва слышным голосом зовет сестру. Он повернул лицо, бледное, с огромными серыми глазами, и смотрит на сестру:
– Schwester, ich kann nicht Urin lassen.
Голос его так слаб, что едва слышно. Я передаю его слова сестре. Сестра пробегает дальше:
– Ладно, потом катетер принесу.
У одного немца лица совсем не видно. Оно все забинтовано. Сквозь оставленные в бинте дырочки темнеют глаза. У него оторвана челюсть. Как он будет жить? Как будет есть и говорить?
Издали он похож на снежную бабу, одетую в солдатский мундир.
В операционной и перевязочной работа не прекращается всю ночь.
Уже наступает рассвет. Нежный рассвет теплого, почти летнего дня. В палатах и коридорах серый сумрак. Тихо спускаюсь во двор. Глаза воспалены. Я устал от бессонной ночи, духоты, вони, йодоформа.
Как прекрасно во дворе и в саду! Свежая светлая зелень сада, покрытая еще ночной росой, блестит и розовеет, озаренная ярко-красным солнцем.
От сада несет спасительной свежестью цветов и влажной земли. Воробьи подняли ребячий шум и гомон, тучами перелетая с места на место.
Как хорошо! Жадно и глубоко втягиваю прохладный, насыщенный весенней радостью воздух.
Солнце поднимается выше, зелень становится светлей, и воздух насыщается теплом. Сижу на скамье, согреваемый солнцем, убаюканный радостью весеннего утра, шелестом листвы и птичьей музыкой…
Как хорошо!
Но надо вернуться в палату. Сегодня ухожу из госпиталя обратно на фронт.
Я прощаюсь со своими новыми знакомыми.
Многих уже нет. Одни умерли, других отправили дальше. Коридзе умер. Раненый осколком под лопатку – умер. Молодой солдатик, раненый в грудь, три дня назад диктовавший мне письмо к матери, – умер. Еще многие умерли… Вчера, третьего дня говорили, диктовали письма, плакали, мечтали о доме. Сегодня их нет…
В палате тихо. Я сижу на койке Каплана, о котором так весело рассказывал венеролог. Каплан ранен не только в спину, но и в живот. По его иссиня-желтому, ввалившемуся у висков, под скулами и у глаз лицу проходят черные тени близкой смерти. Серые губы пересохли. Тонкий нос обострился и пожелтел. Каплан часто и поверхностно дышит, полуоткрыв неподвижный рот… Холодными и влажными руками он держит мою руку.
Лицо его морщится в гримасу плача, но мышцы полупарализованы и непослушны. Плакать он уже не может… Только две маленькие капельки выжимаются в углах его глаз.
На соседней койке – гангрена легких. И при каждом выдохе из груди больного вырывается струя невыносимой вони, отравляющей всю палату. Вблизи сидеть совсем невозможно.
Глаза раненого закрыты. Грудь часто поднимается. На шее бьется синяя жилка. Лицо застыло.
На последней койке контуженный. Он крепко привязан простынями к ножкам койки, но под простынями тело ходит волнами от внутренних судорог. Тело содрогается, у живота вздымается гора и откатывается к груди, как будто внутри движется что-то живое, не находя себе выхода…
Нас, несколько человек, отправляют в штаб корпуса. Я хочу попасть в свой полк. Утром мы строимся во дворе госпиталя, нам вручают документы, и мы уходим. Сестры нас провожают до ворот.
Я опять в своем полку.
В шестнадцатой роте ничего не изменилось. Те же люди, те же рваные шинели, обросшие грязные лица, усталые глаза. Чайка заметно обрюзг, пожелтел, посерел. Он уже подполковник, но его это не радует. А давно ли он мечтал дослужиться до штаб-офицерского чина и выйти в отставку, чтобы заняться живописью? На гладких защитных погонах проведены химическим карандашом две полоски и нарисованы три звездочки.
Наша армия отступает. За последние месяцы отданы большие и малые города, целые уезды и губернии. Атаки немцев обрушиваются с неслыханной силой и жестокостью. На маленькие участки нагоняют сотни пулеметов, орудий, танков, аэропланов.
Мы чувствуем превосходство неприятеля.
Солдаты никогда не знают, что делается за пределами их роты. Они не имеют представления не только о том, что творится на фронте, но даже в пределах бригады и полка. Часто свою неудачу принимают за победу, и наоборот.
Но теперь все знают, что армии отступают.
Солдаты уже научились ненавидеть тыл и тыловое начальство.
– Воевать посылают, а обуть не во что. Сами-то, небось, сапоги с гармошкой носят. А тута на сырой земли босиком сиди.
– И зачем только воюем? Все равно толку никакого… Не устоять нам теперь против немца, ни за что не устоять. Он прет самосильно, а у нас – снарядов нет, сапог нет, жратвы нет… одним словом – ни хрена нет.
– Ну и отступаем понемногу. Все назад и назад. Так, гляди, и до дому докатимся.
– Докатишься, пожалуй. До могилы. А ежели домой – не иначе как обрубком.
– Раньше с голоду подохнешь, или вши заедят…
– А то лихорадка затрясет.
– Одним словом – выбирай, что те больше по ндраву.
– Немцы не зря прут самосильно. У них морды – што у твово кабана. В вещевых мешках и сыр, и колбаса, и щиколад.
– И што за народ такой – хрен его знает! Сами такие умные, или начальство ученое, или царь вроде Наполеона? Один ведь – противу всего света.
– Ну, не один. Им австрияк помогает. Опять же – турок…
– Ну, турок… Так только, меж ногами путается. Какой из его вояка! Лахудра… У его нос длинный – сует куда не надо.
– Сует, не сует, а немцу от него помощь большая. Сколь народу на тот фронт напихано. А могли бы сюда послать.
– А кухни-то, пока што, не едут. Опять жрать не привезут.
– Который день на одном аржаном сидим. Сволочь поганая, сука нестроевая, где они с кухнями путаются!?
– Надо до батальонного идти. Пускай звонит в штаб – почему народ не кормят. Голодный не навоюешься…
– Не накормят, сами пойдем кухни искать. Пущай пока штаб здеся повоюет…
– Пойдешь, пожалуй. Сдохнешь тут, а никуда не пойдешь.
Былин, веселый, живой Былин, крепко сдал. Постарел, увял, оброс и как-то обмяк, опустился. Он мне рассказывает, как доставили сюда подарки.
– Я здесь вспоминал тебя. Вот бы тебе побалакать с ими. Таки дамочки – абрикосы… Приперли нам махорки, подметок, белья и теплых подштанников… «На што, – говорю, – милые дамочки, нам подштанники?.. Дюже, – говорю, – в их жарко убегать будет, потому, – говорю, – лето на дворе…» А вона говорит: «Звините, милый солдатик, мы, – говорит, – еще зимой их готовили, да не успели; вы, – говорит, – солдатик, их спрячьте до той зимы…» Видишь, куда загибает, – до той зимы. У ней глаза не вылазят. Она до зимы ждать может. Ну, махорку-то мы скурили, а подметок прибивать некому, бо уси сапожники в тылу на оборону работают, тут никого немае… А так – барыньки, действительно, ласковы, румяны – черешни, ей-бо! От бы хоть разок такой попользоваться.
Наши окопы беспрерывно укрепляются. Нам помогают саперы. Подвозят лес, колючую проволоку, роют ходы сообщения, делают блиндажи для пулеметов. Позади наших окопов роют резервные.
Пока здесь тихо, солдаты хозяйничают в соседних деревнях. Воруют кур, уток, поросят. Днем сидят раздевшись и греют спины, сушат портянки, штопают шаровары и ведут бесконечные разговоры.
– Не иначе – скоро мир. Немец не идет, может, кумекают – воевать или мириться.
– Немцы первые миру не попросют, немцы гордые…
– А чего он просить станет? Он сколько земли себе откромсал и дальше прет… Народ одетый, обутый и сытый. Не наш брат.
– Ну, и наш царь просить не станет.
– Стало быть, мира не будет… Так и будем воевать, пока не перебьют.
– Эх, ребята! Вдруг – манихфест. Кончена война. Айда, ребята, домой… А за то, что воевали, кровь свою проливали, кажинному солдату три десятины земли и лесу на постройку…
– Дадут, пожалуй, держи карман шире. Три аршина землицы дадут и лесу на гроб… А то и без лесу обойдешься, так полежишь, не барин…
– А сейчас бы домой в самый раз поспеть. У нас только-только теперь сеять. У нас долго зима держится.
– А у нас, в Херсонской, скоро поспеет пшеница. В июле уже снимают.
– А тут, гляди, вспахать успели, может, и посеяли, да всю и затоптали…
– Тут много добра зря погубили.
Я лежу у бруствера, греясь на солнце, и слушаю разговор, не видя лиц беседующих. Среди солдат много новых.
У нас крепкие окопы, построенные по всем правилам саперного искусства. Здесь, видно, решено оказать неприятелю решительное сопротивление. Если он здесь нас сломит, его не удержать никакими силами.
В окопах глубокие ниши для патронов, для бочек с питьевой водой. Над окопами крепкие навесы. Внутри окопов стоки для дождевой воды. Дальше, по ходу сообщения, клозеты и еще дальше кухни в земле. Впереди – широкая полоса проволочных заграждений. Таких основательных окопов мы еще никогда не строили.
Но как мы будем воевать – неизвестно. Отсутствие снарядов стало притчей во языцех. Сколько бы ни стреляла по нас неприятельская артиллерия – наша почти не отвечает. Батареи вымаливают у парков снаряды как милостыню, но получают их не больше десятка в день. И никто не знает – когда прибудет пополнение.
Не только солдаты, но, кажется, все офицеры последними словами ругают штабное начальство. Досужие артиллеристы приходят к нам в часть, подолгу засиживаются и жалуются на свою судьбу.
Капитан Касимов из ближайшей батареи подружился с Чайкой и каждый день изливает перед ним свою душу. Меня он не стесняется.
– О чем же там прохвосты думают?.. Скажите, пожалуйста! Чем, сукины сыны, заняты?.. Неужели такая огромная страна как наша Россия – не в силах снабдить свою армию боевыми припасами? Зачем же нас сюда послали? Зачем морят голодом, нуждой, вшами? Зачем заставляют воевать?
Он странно выражает свой протест вопросами, будто ожидая «оттуда» немедленного ответа, точного разъяснения. И, не дождавшись, он снова спрашивает:
– Или в самом деле там сидят только изменники, взяточники, воры?..
Я передаю его слова Артамонову. Он по обыкновению долго молчит, медленно достает свой кисет, медленно сворачивает козью ножку и, только закурив, отвечает:
– А он, стало быть, еще сомневается… «Неужели?», «может ли быть?»… Дурак он, интеллигент, вроде тебя… Кабы не были они воры, разве сидел бы здесь народ разутый, убогий, голодный?. Разве дрался б против пушек штыками?.. Весь их механизм воровской, весь наскрозь, от низу до верху! Этим и живут.
Ночью слышим далекий грохот орудий. И далеко, слева от нас, на черном горизонте вспыхивает зарницами багровое зарево. Оно то вдруг становится золотисто-ярким и огромным, будто придвигается к нам, то спадает, темнеет и уходит вдаль…
Весь следующий день орудийный гул слышен все ближе и ближе, и небо за далеким хребтом холмов затянуто черным туманом.
Проходит еще день. Гул орудий приближается. Ночью зарево появляется справа от нас. Нам кажется, что нас сжимают огненным кольцом, что нас охватывают гигантской петлей и нам уже не уйти из чудовищных лап. Завеса огня и черного тумана стеной стоит перед глазами; гул и грохот орудий, как далекие раскаты грома, перекатываются по небу.
Мы, как звери, изощренные чутьем, животным инстинктом чувствуем опасность.
На рассвете нового дня, когда мы спали, завернувшись в шинели, с грохотом, с воем, свистом и гулом в пятистах шагах от роты разорвался огромный снаряд.
Земля под ногами дрожит, и нас будто подбрасывает. Все сразу вскакиваем и долго слышим гул в воздухе, как после удара гигантского колокола.
Впереди, на пустом пространстве, еще не рассеялась огромная туча дыма и пыли. Она медленно отделяется от земли и, разрываясь на клочья, расплывается по сторонам.
Медлительно проходят минуты. Мы напряженно и неотрывно смотрим в сторону разрыва, ожидая нового удара. Моментами напряженность ожидания доходит до безумного желания – скорей бы, скорей новый удар!
На серых, истомленных лицах солдат разлита желтоватая бледность. Блестят запавшие, больные глаза.
На востоке загораются первые багровые полосы, еще омраченные сверху синевой. На маленьких голубых облаках появляются снизу золотистые барашки. Небо окрашивается в розовые, багряные, изумрудные, бирюзовые и синие цвета.
Левее нашей роты, против расположения соседнего батальона, не долетая до окопов, разрывается снаряд. Опять огромный столб черного дыма и земли, с красно-желтой огненной сердцевиной. Опять грохот, гром и гул и медленно расплывающееся черное облако.
Каждые несколько минут раздается оглушительный взрыв то в одном, то в другом месте, против линии нашего полка. Ветром доносит запах дыма и взрывчатых веществ. Снаряды разрываются уже и позади наших окопов. Мы сидим глубоко в своих норах, прижавшись к стенкам. Взрывы слышны чаще и чаще, почти один за другим. Один из них раздается совсем близко, оглушая с такой силой, будто взлетели в воздух тысячи пудов листового железа, Звук взрыва смешивается с каким-то глухим, плотным призвуком тяжелого шлепанья, будто на землю упали тяжелые мешки с песком.
За взрывом раздаются крики и стоны. Они длятся много времени и заглушаются только следующими снарядами. Потом стоны продолжаются. Мы их слышим, кажется, много часов. Под ураганным огнем тяжелых орудий раненых не подбирают, и они лежат в развороченных окопах, полузасыпанные землей и бревнами, с оторванными конечностями, истекающие кровью. Проволочные заграждения во многих местах разворочены, спутаны и сбиты в кучу.
Вечером мы выползаем из окопов и видим позади себя горящие деревни. Все небо объято ярко багряным заревом. На фоне его вьется причудливыми фигурами черный дым над горящими халупами. Тонкие языки пламени лижут клубы дыма, вздымаясь вверх и наклоняясь, как деревья, колеблемые ветром… Видны очертания построек, освещенных пожаром и нетронутых еще огнем. Внезапно вспыхивает один угол, и через минуту постройка горит ярким костром. Горят все соседние деревни, зажженные огнем снарядов…
Мы сонными глазами смотрим на пылающий горизонт и на черные силуэты сгоревших деревень…
По линии окопов в разных местах мелькают фонари. Убирают раненых и убитых. У санитаров длинные палки с острыми наконечниками. Проходя между неподвижных тел, они тыкают палкой в тело, чтобы отличить живых…
Уснуть, уснуть, скорее уснуть!
Я влезаю в блиндаж к батальонному командиру, заворачиваюсь в шинель и прижимаюсь к стенке. Чайка говорит:
– Спите, спите, на рассвете разбудят. Спокойной ночи…
– Спокойной ночи…
Война.
От рассвета до позднего вечера мы не можем высунуть головы и сидим в полутемном окопе без движения. Навесы над окопами не сплошные, и под сильным огнем мы сбиваемся в кучу, прячась под легким прикрытием. В конце ходов сообщения имеются убежища от сильного огня, но нам не разрешают туда уйти, ожидая каждый час атаки. Да и убежища могут спасти только от шрапнели, – тяжелые снаряды их разносят, как и окопы.
Где-то недалеко позади нас расположились наши тяжелые батареи, и к грохоту немецких разрывов прибавляется гром орудийных выстрелов. Беспрерывный гул сотрясает воздух. Мы ждем как избавления ночной темноты.
Но ночью нас заставляют чинить окопы и проволочные заграждения, рыть новые ходы сообщения и хоронить мертвых.
На рассвете к огню тяжелых батарей прибавляется шрапнель. Она осыпает нас мелкими осколками и фонтаном пуль.
Немцы открывают ураганный огонь, подготовляя атаку. В окопах суматоха и паника. Ее создают недавно прибывшие запасные и ополченцы. Снаряды рвутся у самых окопов и над головой.
Аэроплан, летающий над нами, сбрасывает бомбы.
Нам приказывают не отходить от своих мест. У ног каждого из нас груды патронов и ручные гранаты.
Издали видны редкие цепи перебегающих немцев. Огонь тяжелых снарядов прекращается. Мы высовываем головы и видим разрывы наших шрапнелей над немецкими цепями, растянувшимися в несколько рядов по всему полю. Немцы приближаются, и мы открываем бешеный ружейный и пулеметный огонь. Оглушительная, резкая, сухая трескотня дробью рассыпается по полю, вздымая облака пыли.
Наш огонь подбадривает, и мы энергичней заряжаем винтовки, беспрерывно стреляя. Цепи продолжают придвигаться. Они уже ясно видны. По окопам бегут взводные, указывая прицел.
Совсем близко от меня, над нашей ротой разрывается шрапнель. На минутку оглядываюсь и схожу со ступеньки в глубину окопа. Там лежат и сидят раненые, сбившись в Кучу. Возле них возятся санитары, укладывают их на носилки. Возвращаюсь на свое место и вижу цепь, заметно придвинувшуюся к нам. У меня мелькает мысль: «Они отчаяннее других, и черт их несет прямо на нас…» Рядом со мной надрывается пулемет.
Цепи движутся все ближе и ближе… Огонь артиллерии прекращается. И длинные изогнутые ряды, отрываясь от земли, несутся на нас… Сквозь грохот и шум стрельбы слышно: «О-о-о-о-о-… О-о-о-о-о…»
С винтовками наперевес немцы бегут, широко раскрыв орущие рты.
Позади редеющих немецких цепей лежат по всему полю разбросанные тела. Из-за дальних холмов появляются новые цепи и быстро приближаются к передним. Наш огонь становится еще сильнее…
К нашему окопу приближается большая группа немцев… Мы ясно различаем их искаженные лица… Огонь нашего пулемета, винтовок и ручных гранат вырывает из их группы больше половины. Остальные бросают в нас гранаты и приближаются к самому окопу. Мы стреляем в упор, и они падают у самого бруствера. Несколько человек бросают винтовки, поднимают руки, но падают, сраженные пулями…
Новые цепи приближаются, но рассеиваются под режущим огнем.
Атака не удалась.
Немцы бегут назад. Одни бегут, даже не пригибаясь, другие ползут, немногие, бросив винтовки, ползут к нашему окопу… Два аэроплана, окруженные белыми дымками нашей шрапнели, набирают высоту и исчезают.
Все пространство впереди нас усеяно немцами. Наш огонь их преследует. Падают убитые, раненые и укрывающиеся от огня.
Убегающих преследуют разрывы шрапнели.
Поле, насколько видит глаз, от края до края засыпано тысячами людей. Поле живет, колышется, и на нем копошатся, как муравьи, кучки людей.
Потом остаются одни раненые и убитые.
Раненых, лежащих ближе к нашим окопам, подбирают наши санитары. Позже далеко от нас появляются немецкие команды, уносящие своих раненых и убитых. Беру у взводного бинокль и смотрю на работу санитаров. Они движутся в разные стороны с носилками в руках, возятся на земле, уходят за холмики и вновь возвращаются.
Все дни после атаки немцы беспрерывно засыпают нас снарядами. Огонь не прекращается весь день и причиняет нам жестокий урон, разрушая окопы и вырывая тысячи людей. По ночам мы вместе с саперами чиним окопы, нам посылают подкрепления, и мы снова сидим, оглушаемые взрывами и осыпаемые осколками.
Теперь уже наша артиллерия всю ночь бьет по неприятелю. Всю ночь ползают по небу щупальцы прожекторов, освещая облака и внезапно падая на землю.
Нам не уйти отсюда. Мы – безвольные жертвы чужих планов и решений. Немцы решили во что бы то ни стало «выбить» нас из окопов, сбить с наших позиций, продвинуться во что бы то ни стало вперед.
Наши решили во что бы то ни стало удержать позиции, не уступать ни пяди земли, устоять против любого натиска.
Немцам нужно сломить сопротивление, прорвать фронт, и они с варварской настойчивостью, железным натиском прут на нас, бросая полк за полком, теряя тысячи людей, расстреливая десятки тысяч снарядов…
Русским надо удержать фронт, не допустить прорыва, и мы губим полк за полком…
За восемь дней – три атаки… Подготовляя каждую длительным, упорным разрушительным огнем, засыпая нас тысячами снарядов, создавая ад вокруг окопов – немцы внезапно бросают свои цепи в атаку. Не доходя до наших окопов, разорванные цепи теряют своих людей, сраженных густой тучей ружейных и пулеметных пуль. Оставшиеся ползут назад или гибнут у самых проволочных заграждений.
Здесь за десять дней на длинном и узком пространстве погибло несчетное количество людей. Здесь изуродованы и искалечены огромные толпы, бесчисленные массы немцев и русских…
В безумной, фантастической ночной атаке немцы не доходят до наших окопов. Наши малочисленные и скверные прожекторы открывают их случайно слишком рано, и в кромешной тьме мы стреляем без цели, неизвестно куда… Не видя неприятеля, не зная, далеко ли он или у самых окопов, напрягая зрение, мы механически стреляем в пространство и швыряем ручные гранаты. Мы стреляем долго, очень долго… Это длится, кажется, часами. Стволы винтовок накалены.
Потом прожектор освещает поле впереди нас, и мы видим много лежащих тел и уползающих людей.
Напрасно мы ждем обещанной смены. Смены нет. Нас некому сменить. И мы продолжаем сидеть в окопах.
Над нами царит странная, непривычная тишина. Канонады нет. Все кругом сожжено. Земля разворочена. Мы сидим возле окопов и лениво беседуем. Молодой вольноопределяющийся из третьего батальона, обросший и грязный, лежит на спине, заложив руки за голову.
– Неужели же никто за нас не заступится? Неужели нас весь мир забыл? Ведь есть же десятки нейтральных стран, – почему они не вмешиваются, не пытаются помирить воюющих?
Ему никто не отвечает. Он садится и опять говорит:
– Вы знаете, я вот был на юридическом факультете. Изучал право. Каких только прав нет! Право государственное, право римское, полицейское, международное, естественное и еще десятки прав… Есть и право войны. Так и называется. Право войны. Это – часть международного права. Этим правом еще с шестнадцатого столетия война рассматривается как средство восстановления нарушенных и выяснения спорных правоотношений. Иначе говоря, – это юридический процесс между государствами… И вот сумели ведь государства сговориться – что можно, чего нельзя. Даже правила ведения войны сочинили. И как объявлять войну, и как ее вести, и как можно убивать и как нельзя. И чем можно, и чем нельзя. Мол, вообще без войны никак не обойтись, это конечно, но надо ее обязательно гуманизировать… А потому – воюйте, но, пожалуйста, соблюдайте правила приличия и гуманности… Ну, стреляйте там, ну, из пушек, из пулеметов, из винтовок; колите штыками, рубите шашками, отрывайте руки, ноги, головы; разрывайте животы, вываливайте внутренности; сжигайте и разрушайте города и деревни, выгоняйте миллионы беженцев, уничтожайте миллионы людей; оставляйте десятки миллионов калек и сирот, – но только, пожалуйста, делайте это как можно гуманнее… Иначе, знаете ли, вам придется за это отвечать…
Вольнопер вскакивает и, возбужденно размахивая руками, кричит:
– Но почему же не могут сговориться, что воевать совсем нельзя? Нельзя, и кончено! Сто прав всяких выдумали, почему нет простого человеческого права? Нельзя воевать, нельзя натравливать миллионы на миллионы и долгие месяцы друг друга уничтожать, грабить и жечь. Нельзя!..
Он сразу умолкает, смотрит на нас потухающими глазами и устало садится. Он вяло продолжает:
– Сколько юристов в мире! Сколько охранителей законов! Сидят они в своих кабинетах и составляют обвинительные акты или защитительные речи по поводу кражи со взломом, убийства из ревности или покушения на строй… А почему они не соберутся и не выработают закона для всех государств, запрещающего войну?
Он осматривает всех, как бы ожидая ответа, но все молчат. Немолодой солдат из вновь прибывших запасных замечает:
– Н-да… Закону, конечно, такого нету. А только его ежели и напишут, все едино толку не будет… Нет… Воевать завсегда будут… Потому – в ей, в войне то есть, кому-то есть интирес. Да… Нам это ни к чему… Н-да… И с которыми деремся, тем тоже не надо. Им тоже ни к чему… А которым надо, те дома сидят и в каретах ездиют. Н-да… А нам от этого – одна гибель.
Артамонов коротко бросает:
– Ну, нам ли, – это еще неизвестно…
Вольнопер продолжает:
– И еще знаете что? Я вот в православной семье родился. Родители религиозные. И сам я, знаете, как-то так и в церковь ходил, и говел, и крест целовал… Все, знаете, как полагается. Я, знаете, думать обо всем этом не успел. Но сейчас я думаю. Я много думаю…
Он снова вскакивает:
– Почему же высшее духовенство молчит? Ведь Христос заповедал: «не убий». Почему же духовенство благословляет войну? Почему нас батюшка ведет в бой с крестом в руке? Почему молчат патриарх православный и папа римский? Почему они не вмешиваются и не говорят: «Довольно, остановитесь! Христос запретил убивать»?
Он как-то сразу устает, увядает и, как будто поняв свою юношескую наивность, смущенный, молча садится.
Артамонов, в последнее время как-то сразу заметно постаревший, обросший мохнатой бородой, с глазами еще более впавшими и темными, лежит возле оратора животом вниз и, упершись локтями в землю, положил подбородок на ладони. Когда студент умолкает, он еще некоторое время молчит, потом садится, сердито лохматит бороду и резко бросает:
– Папа римский… Черт крымский… И еще чего? Ведь вот – образованный, студент, ученый… «Я думаю, много думаю»… А много ль ты надумал? Только и всего, что про патриарха православного? А ведь того умная твоя голова не понимает, что в них-то все горе, в них-то весь обман…
И, неожиданно вскакивая, он с несвойственной ему горячностью, резко, сердито кричит:
– Все-то вы учили, все-то узнали, все поняли! Образованные! А почему самого главного не знаете? Или, может, врете, что не знаете? А? Я вот ничему не учился. И книг, может, с полсотни за всю жизнь прочел. И слов-то я таких не знаю, как твои – про права и прочее… А только одно я знаю: сколько времени земля существует, столько народы между собой воюют… А почему воюют? Сами они того хотят? Им она нужна? Народам то ись? А? Нет, не им нужна, а верховодам, высшей власти – императорам всяким, королям, папам римским, землевладельцам, фабрикантам, купечеству! Какую б причину ни выставляли – за Христа, за веру, за народ – все врут, все людей колпачут… За свои богатства воюют, за свою землю кровь чужую льют, за свое золото народ на бойню гонют… Все для своего брюха! Все!.. Народ как был нищий да убогий – таким и останется… Только что калек и сирот прибавится. Вот… Понял, умная твоя голова?. А когда народ сам все раскумекает, когда сам за ум хватится, да против мучителей своих обернется, тогда такой войне конец. Понял? Народам между собой ссориться незачем, им делить нечего. Всем добра хватит, только работай…








