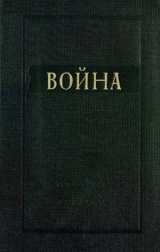
Текст книги "Война"
Автор книги: Михаил Зощенко
Соавторы: Лев Славин,Николай Тихонов,Виктор Финк,Михаил Слонимский,Юрий Вебер,Семен Розенфельд,Николай Брыкин,Кирилл Левин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 52 страниц)
Князь тьмы! Сколько уже недель работают его огнеметы, сколько уже цифр прибавилось в донесениях, сколько обугленных трупов, закопанных в воронках и окопах, в глубине пулеметных гнезд, среди разбитых бревен, среди лисьих нор, – но ведь это только начало. Этого мало. Мысль Штарке работает днем и ночью и только в одном направлении: чего они медлят, эти штабы? Почему они всегда, всегда тормозят, не верят, сомневаются, эти господа? Париж был бы давно в немецких руках, выход на Ламанш – тоже. Англия была бы сломлена, если бы они поторопились, но они никогда не торопятся.
Эти люди, кажется, гордятся своей медлительностью. Они как будто ждут, что у него появится соперник, человек, который отобьет его славу, его труды. На что они вообще надеются – на то, что французские заводы остановятся, на то, что Англия испугается своего будущего и пойдет на мировую? – нет, они положительно непонятны.
Мотоцикл отлетел в сторону, чтобы пропустить медленно идущий грузовик с мотками проволоки. Проволока свешивалась с него, угрожая во все стороны рыжими иглами. Они затягивают всю армию в этот колючий корсет, они роют землю днем и ночью, они выпускают тысячу снарядов, чтобы вырвать у врага несколько метров, на которых трудно дышать от пороховых газов и неубранных мертвецов. Нет, они положительно делают не то.
Майор – уже майор – Штарке приподымается в каретке. Тяжелый мотоцикл лавирует между развалин и останавливается, недовольно треща. Большой зеленый бенц со штабным значком зарылся в край воронки передними колесами и не может выбраться. Десяток солдат потеет около него. Мотоциклист останавливается – прохода нет. Штарке смотрит на вылезающих из бенца людей с ненавистью.
– Всегда поперек дороги, всегда поперек дороги…
В группе офицеров в новеньких блестящих плащах, в ослепительных гетрах, в группе этих сытых красавчиков, вырабатывавших годами решительное выражение лица и надменность поступи, глубокомысленные морщины и снисходительную бледную улыбочку, – он видит штатских.
Они тоже таскаются на фронт. Читать лекции. Смотреть и умиляться на вшей, на солдатские бордели, на окровавленные бинты, на свежих официальных героев.
Майор Штарке лишается спокойствия, бенц кряхтит под дружным натиском серых рабов, стоящих по колено в воде и грязи. Один из штабных недовольно смотрит на часы.
– Мы опаздываем, профессор, – говорит он человеку с круглым симпатичным лицом, такому милому весельчаку, которому на фронте только и дела, что разъезжать в штабном автомобиле и завтракать в штабе. Может, это представитель нейтральной державы? Тогда его нужно облизывать со всех сторон, чтобы к нему не пристало ничего мрачного, ни одной кровавой пылинки.
Тот, кого назвали профессором, смотрит сквозь автомобильные очки зеленоватыми глазами в зеленоватое небо и пожимает плечами.
– В крайнем случае мы пересядем – мы вам сейчас устроим.
Штабной оглядывается с чрезвычайно умным видом.
– Профессор Фабер смог бы воспользоваться мотоциклом, – говорит бритый под англичанина офицер, указывая глазами на Штарке.
Штарке не слышит этой вопросительной фразы. Он презирает штатских сейчас, как никогда. Он выключает слух. Профессор подымает на лоб автомобильные очки.
– Сколько времени займет эта операция с нашим автомобилем? – спрашивает он.
– Фельдфебель, сколько времени вы будете копаться? – кричит штабной.
Лицо старого служаки сосредоточивается, точно его сейчас ударят. Он накидывается на своих серых рабов, и те бросаются из последних сил, без крика, пот выступает под перепрелыми шинелями, они существуют сейчас только для этой машины, для этой лужи, для этой группы штабных – потом им скомандуют: «вольно», потом велят разобрать винтовки.
Они выкатывают бенц на дорогу, шофер садится на свое место, и его меховые перчатки ложатся на руль.
Все в порядке. Штаб снова на колесах. Он проносится мимо Штарке. Штарке надолго запоминает профессора Фабера, забывшего опустить автомобильные очки.
Стрелки в узком ходе сообщения прижались к стенкам, чтобы пропустить тяжело дышавших, ежеминутно спотыкавшихся людей, тащивших непонятный груз. По-видимому, эти люди тащили свою ношу давно и держали путь к первой линии. Стрелкам сначала показалось, что несут труп, потом – что несут снаряд, и они удивились, что таким образом происходит невесть зачем доставка снарядов в полной тьме, и каких огромных снарядов!
Люди тащили на пажах загадочный металлический баллон, и мутное дыхание их с хрипом и задушенным кашлем показывало, что груз не легок.
– Что это такое, эй, товарищ? – спросили они, но тащившие мотнулись вперед и, шатаясь, исчезли в темноте. Навстречу стрелкам шла следующая пара, тащившая на палках точно такой же снаряд. За ними двигались на недалеком расстоянии еще другие. Казалось, темнота рождает этих носильщиков неизвестного по странному и причудливому капризу.
Стрелки стояли, затаив дыхание, а люди с баллонами все шли и шли мимо них. Стрелки насчитали уже двадцать четыре баллона, и шествию не предвиделось конца. Ничего подобного они не видели за всю окопную жизнь.
– Товарищи, что это за чепуха? Чем они набиты?
– Морковным мармеладом, – сказал один мрачный носильщик, отирая пот рукавом.
– Почем я знаю, мы сами не знаем, – сказал другой, повеселее, – я думаю, что мы так дотащим как раз до Парижа, если не сдохнем раньше.
– Что за часть? – спрашивали стрелки уже сорок третий баллон.
– Штрафная рота, арестанты, пулеметное мясо, – почти громко ответил остановившийся солдат, прислоняя баллон к стенке узкого хода. Стрелки тихо свистнули.
– Пулеметное мясо мы сами, – сказали они, и уже злоба начала просыпаться в них на это замогильное шествие, на дурацкую остановку, на этот узкий ход, не позволяющий разойтись, вылезать на край никому не хотелось. По небу бродили прожектора, и всякий знал, что это значит.
Товарищ солдата, назвавшего себя пулеметным мясом, тоже прислонился к стенке, несмотря на то, что к нему уже приближалась новая пара.
– Не пойду, – сказал он. За воротник ему сыпалась земля, но он испытывал громадное удовольствие отдыхать, вытянувшись, стоя после длинного перехода, где он шел, согнувшись, как обезьяна.
– Астен, не глупи, – сказал его товарищ, – подымай-ка палку, пойдем дальше, если нас затрат и мы загремим, что будет?
– А если пуля ударит в этот сволочной баллон, ты думаешь, мы уцелеем?
– А что в нем – черт его дери, он весит, по-моему, сто фунтов; если он трахнет, тут, я думаю, будет пахнуть жареным, мясом на целый километр. Идем, идем.
Они двинулись дальше в темную ночную жизнь бесконечных ходов, изломанных, нырявших то в глубину земли, то выводивших к черным постройкам, скудно освещенным, где прятались люди. Они шли дальше. Эрне временами казалось, что он спит. Он на ходу впадал в самое прозрачное забытье. Он чувствовал тяжесть груза и палку на плечах, ноги его передвигались, но тьма залезала в рот, глаза, уши и прекращала всякое человеческое движение, всякую человеческую мысль. О чем можно думать в таком мраке, задыхаясь от усталости, с исцарапанными руками, побитыми ногами, головой, переполненной усталостью?
Его запрятали в штрафную роту, сохранив за ним право открытой ненависти по отношению ко всему, что он видел. Он знал, что люди штрафной роты в глазах командования – материал, от которого нужно избавиться в первую голову, но избавиться с умом. Ночная тайна баллонов, однако, не была им угадана. Да и никто, кого он ни спрашивал, не мог сказать, в чем дело. Многие думали, что это что-нибудь взрывчатое вроде мин.
Прошедшая жизнь его осталась где-то в другом веке, в другой стране. Грязный, всклокоченный, загнанный в черные ходы земляных лабиринтов, голодный, сравненный с животным, он не мог бы сегодня возразить профессору Бурхардту с книжной горячностью увлекающегося молодого человека. Он мог взять в свой карман кусок этой земли, искрошенный лопатами и динамитом, перемешанный с кровью и костями, и принести его в подарок профессору на его званый ужин, когда он будет доказывать, что все благополучно – конституции государств совершенствуются.
Он ударился о забытую шанцевую лопату, которая разрезала ему штаны и провела глубокую борозду ниже колена. Боль не показалась ему острой: одним шрамом больше, одним меньше, разве в этом дело?
– Алида, – сказал он почти вслух и ощутил всем существом неведомое чувство того последнего страха, от которого трезвеет голова и ноги делаются ватными.
Он еще не видел ничего, а уже дыхание остановилось, и жила на виске выгнулась такой дугой, что он услышал, как она набухает кровью. Товарищ его, как будто он передал ему свое ощущение, нагнул голову и закрыл глаза, не выпуская, однако, палки. И тотчас же белое пламя выросло где-то вблизи, и дикий удар расколол ночь. Внутри белого облака прошли синие, с красными полосами, и черный, чернее ночи, косой столб упал с таким скрежетом, что свело челюсти.
Они очнулись, когда их толкнули сзади: они побрели вперед и снова втянули голову, потому что чудо черного столба возникло теперь справа и один комок грязи лег поперек лица Эрны, как след мокрой линяющей черной перчатки. Эрна размазал грязь, и они пошли дальше.
Теперь остановились передние, как будто им приказали остановиться. У развороченного перехода скопилась целая вереница носильщиков. Прожектор шел на них, неумолимо разворачивая свою широкую белую пилу. Прожектор дошел до них. Люди застыли. Лица стали меловыми. Руки посинели, точно их опустили в спирт. Тусклый блеск баллонов (покрылся морозной корой. Щеки у людей ввалились. Кто-то заплакал от страха. На него цыкнули. Люди стояли неподвижно. Прожектор обшаривал лица, задержался на баллонах и резко ушел в сторону. Люди потащились дальше. Но едва они прошли несколько десятков шагов, как с веселым свистом в небо вышла ракета. Она шла, набирая высоту, все выше и выше острым рубчатым огоньком, потом остановилась, лопнула, и на белых трех нитях повисли три маленьких луны, и эти луны начали превращать ночь в день. Им это удалось на такой промежуток времени, что можно было умереть от разрыва сердца.
Луны красовались над полем мертвых, потому что люди стояли как прислоненные к стенам мертвецы. Никто не дышал. Эрна царапал землю свободной рукой, и земля была мертвая, холодная, безотрадная.
Луны погасли. Шествие все продолжалось. Мимо них протиснулся человек, глухо шептавший: «Осторожней, осторожней, шире расстояние, последние шаги, нагнитесь; передавайте назад, чтобы шли тише, как можно тише».
Ходы стали разветвляться. У каждого разветвления стояли ожидающие люди. Они указывали дорогу дальше. Как можно видеть в такой темноте – об этом никто не думал. Шли безостановочно. Нет, они уже не шли. Они перетаскивали ноги с таким трудом и с такой тяжелой озабоченностью, точно несли стеклянные вазы. Эрна был полон злобой по самые плечи. Он никогда не ощущал смерть как распыление и исчезновение всего его существа так ясно, как сейчас. Он не помнил, сделал ли он сознательно это или он действительно оступился. Баллон звякнул в полной тишине, баллон соскользнул с – его палки и с ясным звоном ударился о какое-то дерево внизу. Была ли то обшивка окопа, развороченная бомбардировкой, случайное бревно – этого он никогда не узнал.
Кровь отлила от головы, потому что сейчас же, как будто рядом, началась стрельба, затем пришла очередь дежурного пулемета, рикошетирующие пули, отскакивая от невидимых щитов, фигурно отсвистывали свой конец.
Разрывные пули светились. Казалось, сейчас все покроется яростным припадком повсеместного огня, но суматоха исчезла так же внезапно, как и началась. Последние пули, кувыркаясь, зарывались в землю. Перед Эрной стоял человек, трясший его за грудь, и у самого своего рта ощутил он холодный запах маузера. Человек кричал придушенным голосом: «Если ты, если ты еще раз уронишь баллон, я застрелю тебя на месте».
И он пошел сейчас же следом, так что его дыхание слышал Эрна так близко, точно тот сидел у него на плечах. Когда он спотыкался, дуло маузера тыкалось в его затылок. Четыре человека приняли от него баллон и унесли его так бесшумно, словно он ничего не весил. Эрна облегченно вздохнул. Офицер исчез.
Все носильщики, держась за руку, погружались в самую глубокую темноту, и это был блиндаж. Жаркое дыхание нескольких десятков людей согревало его. Эрна смутно вспоминал эскимосов, зимующих в снежных хижинах вповалку со своими собаками; это было первое воспоминание из мира книг, из мира, давно погибшего, как Атлантида. Он лег между двумя невидимыми соседями. Огни папирос забегали перед ним.
Чей-то голос возник вверху. Человек говорил с лестницы блиндажа, не заботясь, слушали его или нет. Он привык говорить в темноту простуженным, лающим голосом, не внушающим никакого доверия.
– Отдых полчаса – не курить – эй вы там, аристократы!
Голос исчез, но огоньки остались. Люди на дне океана, считающие себя утопленниками, могут позволить себе роскошь не бояться простуженных голосов.
Эрне кто-то вложил в руку ломоть хлеба. На пальцы стекал холодный жир. Товарищ его, несший с ним баллон, сказал тихо: «Жри, я украл две банки там, на пункте. Это консервы, не бойся».
И он начал есть липкое, пахнувшее потом и землею волокнистое мясо. Он насыщался поспешно, оберегая каждую крошку. Сосед слева храпел. Гул сдержанного разговора шел по блиндажу. Кто-то начал кашлять, закрыв рот рукой. Было впечатление, что этого человека непрерывно бьют в спину. Сосед справа перестал жевать. Он перегнулся к Эрне:
– Ты не спишь, Астен?
– Я не сплю, Фриц. Что ты хочешь? Спасибо за консервы.
– Брось. Я узнал сейчас, в чем дело. Раздери меня гранатой, но я мало понимаю. Ты, ученый, может, объяснишь. Знаешь, что в этих баллонах, говорят, что мы тащили?
–. Ну? – Эрна, облизывая пальцы, равнодушно слушал шепот.
– В них газ.
– Газ? Какой газ?
– Так я тебя и спрашиваю: какой газ? Что горит на улицах, что ли?
– Вставать! – сказал простуженный голос с невидимого порога, – по одному тихо выходи. Не курить!
Жан Кенси был весь день в прекрасном настроении. Там, где он увидел вчера толстую крысу, там он увидел ее и сегодня. И даже крыса его развеселила.
– Тебя тоже призвали, – сказал он, не двигаясь с места, – где же твое оружие, собака?
Крыса сидела, почесываясь, толстая окопная крыса, отвратительный законченный представитель своего племени. Она показала Жану мелкие узкие зубы, покрытые какой-то плесенью.
– Ты, оказывается, умеешь и смеяться, – сказал он, – еще бы, ты живешь с нами жирно – это видно, но только это неправильно. Нам все опасности, а тебе все удовольствие. Ты жиреешь на нашей крови, как банкир на бирже, это не дело. Ты подумай об этом в свободное время, его у тебя достаточно. И устрой как-нибудь так, чтобы это поскорей кончилось.
Он неосторожно сдвинул винтовку, крыса убежала. Ее узкий кольчатый хвост минуту торчал из ямы, потом и он исчез. Кенси поглядел через бруствер. Тоскливые ряды проволочного заграждения, низкие окопы германцев, воронки, налитые водой, размытая земля, проволока и столбы с пустыми консервными банками, висящими там и тут. Скучно!
– Я так привык к этому пейзажу, как к набережной Луары. Вот только кончится война… – Он задумался.
Он разговаривал сам с собой, потому что все его товарищи спали, кроме часовых, изучавших бронированную щель в щите, заложенном мешками. Ближайший часовой глядел в его сторону, делая знаки. Кенси подошел к нему. Деревенский парень не знал, стоит ли звать капрала.
– Капрал бреется, – сказал Жан, – зачем он тебе?
– Немецкий аэроплан, смотри, как он крутится, крутится, будто подбит, того и гляди сядет.
Они стали смотреть оба. Немецкий аэроплан не думал падать.
– Вон там лежит Бараге, – сказал часовой, – на той вон проволоке, уже третий день. Я хочу просить капрала пустить меня за ним.
– Зачем он тебе понадобился?
– У него в кармане кости, которыми мы играем. Скучно без них, а с ним они пропадут. И я хочу прогуляться за ними сегодня вечером. Они в таком хорошеньком стаканчике. Они наверно целы. Он прятал их во внутреннем кармане.
– Я пойду тоже с тобой. Кто-нибудь из нас донесет их благополучно. Как ты думаешь?
– Смотри-ка, что делает эта свинья!
Немецкий самолет сбросил черный столб дыма, и дым повис. Едва он достиг земли, как где-то далеко взметнулись пушки, и первые гранаты упали перед окопом, вспарывая мешки, разбивая доски, рубцуя щиты прикрытий. И это уже была бомбардировка. Капрал выскочил сам. Появился лейтенант. Пространство за бруствером с надоевшей проволокой, с опостылевшими воронками через десять минут стало неузнаваемо. Все недолеты приходились на это пространство. Черные фонтаны земли следовали один за другим так часто, точно там резвилась целая партия необыкновенных китов.
Все лежали на животе с зелеными лицами. Гранаты, как электрические плуги, взрезали землю. Так было три дня назад, так и теперь.
– Приготовиться к атаке! – говорил лейтенант, и унтера подхватывали его распоряжение. В блиндажах проверяли ручные гранаты. В пулеметных прикрытиях готовились к контратаке. Так было три дня назад, так и теперь.
Веселость Кенси не проходила, несмотря на то, что он жевал щепоть табаку, чтобы утишить зубную боль, которую вызвала у него бомбардировка. Ливень гранат прошел. Повсюду, как после майской грозы, ходили лиловые тучи, то свертываясь, то распластываясь, залезая в воронки. Так было три дня назад, так и теперь.
За обрывками туч шел зеленовато-ржавый туман, не смешиваясь с облаками гранатного дыма. Этого не было три дня назад, этого не было никогда. Туман надвигался, как на море, ровный, спокойный, не имевший никакого желания дотянуться до неба, он скорее шел, как бы согнувшись, и в его зеленоватой мути исчезало поле сражения. Бруствера уже не было. Все бросились бежать. Никто не знал, что произошло. Кенси вскочил в блиндаж, но мысль об атаке выгнала его оттуда. Погибнуть, как крыса, разорванным ручной гранатой или получить удар по черепу – это не дело.
Он выскочил наверх. Он наступил на лежавшего капрала. Капрал лежал на животе. Он не был ранен. Он судорожно мял всем лицом землю, грязную, темную землю окопа. Капрал сошел, по-видимому, с ума. Кенси бежал по окопу, и всюду в тумане лежали люди. Он наступал на них, падал, вставал и ничего не мог сообразить. Вдруг все поплыло перед глазами. Потом сознание вернулось к нему. Он задыхался. Непонятно было, от чего он задыхался. Он начал делать руками движение пловца, но плыть было некуда. Он начал кашлять, как чахоточный. Он чихал, из носа текла не то кровь, не то вода, он не смотрел, в голове стоял звон. Горло стало сжимать резиновое кольцо, сотни игл кололи небо, он вздохнул, он проглотил кусок зеленого тумана.
Набережная Луары поплыла мимо, как картинка из кино. Она была ненужна. А что было нужно? Нужно было отыскать что-то совершенно необходимое. Пересмотреть молниеносно все впечатления памяти. Звон в ушах стал непереносим. Рот был полон мокрой слизью, точно он наелся тины. Зеленые луга, деревья летели, как страницы разорванной книги, но это было все не то. Винтовка упала из его рук. Он вбежал на бруствер. В разрывы тумана он увидал громадное одиночество. Мир кончился. Всюду бегут и падают люди. Это и есть конец войны. Как странно она кончается.
Сердце останавливалось. Надо было искать скорее, скорее. Пронеслось белое здание лаборатории, кафель стен, кривое лицо налилось зеленоватой водой, но он не сдавался. На него обрушились разноцветные пробирки, вытяжные шкапы, языки спиртовых горелок, белый бала хон. Да, конечно, Жан Кенси вспомнил: он же химик.
Стоя на бруствере, шатаясь и размахивая руками, он вдыхал зеленый туман, и дневная веселость возвращалась к нему удесятеренной. Он уже не чувствовал резинового кольца на горле, он уже не знал, остались на его лице рот или глаза, но, ныряя в зеленый мрак, он кричит, – ему кажется, что он кричит, – то единственное, что нужно было крикнуть:
– Это хлор, – кричит он, – ведь это простой хлор! – И в мире наступает последняя тишина, которую разрубает черный гром. Это не граната и не взрыв сапы. Это башмаки, солдатские башмаки Жана Кенси и солдатские плечи Жана Кенси ударились о дно окопа.
Часть третьяСтая голосистых подростков ворвалась в кафе, забросав столики листами свежих газет. Они кричали со всем упоением возбужденной молодости, их глотки будущих солдат работали уже сейчас на оборону.
– Колоссальный успех!..
– Впервые в истории войн!..
– Достойный ответ врагу…
– Кровавый разгром союзного фронта! Тысячи убитых! Колоссальный успех! Смертельные газы! Впервые…
Люди бросали чашки и тарелки и хватали газеты, перегибаясь через спинки стульев, читали через плечо соседа, кричали ура, кто-то требовал гимн.
Молодая женщина, сидевшая у окна, вздрогнула при первом крике мальчишек и долго искала мелочь, чтобы расплатиться за газету. Она развернула газету и начала читать, вглядываясь в каждую букву. Никто не обращал на нее внимания. Каждый по-своему толковал известие. Да, мальчишки кричали верно. Женщина читала: после сильной бомбардировки между Лагемарком и Биксшутом были выпущены удушливые газы. Вся позиция перешла в наши руки… Атаки были повторены двадцать четвертого и двадцать пятого апреля с большим успехом в районе к востоку от Ипра. Наши потери ничтожны.
Женщина дальше не читала. Она сложила газеты и оставила кафе. Она шла, точно сама наглоталась газа, почернев и дрожа. Прохожие уступали ей дорогу, некоторые оглядывались. «Верно, она потеряла кого-нибудь на войне, – думали они, – ну, что ж, обычное дело». Временами женщина приходила в себя и останавливалась, чтобы перевести дыхание. Потом она снова бежала и бежала неопределенно куда, казалось, гонимая преследователями, и ее действительно преследовали. Газетчики и газеты захватили улицы, это был час вечернего выпуска. Казалось, женщина страшится именно этих газет. Она сворачивала в сторону всякий раз, когда вплотную подходила к людям, остановившимся с газетой в руках. Отчаяние не сходило с ее лица. Если бы рядом была река, она, не колеблясь, перешагнула бы мостовую решетку. Никогда в жизни она не тосковала так, как в этот вечерний час. В домах зажигались огни.
У подъезда стоял под фонарем человек с газетой. Женщина кинулась через улицу; прямо перед ней явилась в воздухе гладкая конская морда и лаковая гладкость шорных дощечек. Пена висела на трензельной цепочке. Изо рта шел пар. И сейчас кто-то схватил ее сзади, повернул, и высокий человек укоризненно сказал, возвращая ее на тротуар:
– Сударыня, это неосторожно!
Она подняла голову, голос показался ей знакомым.
– О! – сказал человек уже растерянно, – Анни, Анни, что с вами, вы больны?
Анни вцепилась в его руку.
– Это очень хорошо, что это вы, Винни. Ведите меня куда-нибудь, куда-нибудь. Я схожу с ума, Винни. Если бы вы знали…
Бурхардт вел ее под руку. Он вел ее, как раненую на перевязочный пункт. Пункт был далеко. Собственно, Бурхардт вел ее к себе домой. Анни шла, смотря в сторону, кусая губы. Она села на большой бурхардтовский диван и заплакала. Бурхардт смотрел на ее энергичное лицо, смягченное горем, и думал, что она еще красива. Долг дружбы обязывал помочь ей. Он погладил ее по плечу.
– Анни, – сказал он, – первый раз я вижу вас плачущей. Анни, успокойтесь. Неужели случилось что-нибудь с Карлом? Я принесу вам сейчас воды. Кто вас обидел?
Он принес воды, она резко отстранила воду и выпрямилась. Потом голова ее снова опустилась, и она чуть слышно сказала:
– Мне очень тяжело. Простите меня, мне слишком тяжело. Винни…
Новый поток слез хлынул ей на руки. Бурхардт ходил по комнате, мрачно смотря на женщину. Она вынула платок и запихала его в рот, ломая пальцы. Отчаяние ее достигло предела; она сидела с закрытыми глазами, платок упал.
– Уйдите, – сказала она. Бурхардт, пожав плечами, вышел из комнаты. Он знал, как можно утешать своих легкомысленных приятельниц. Он знал, как разговаривать с женами приятелей. Он умел угождать их вкусам, ничем не жертвуя. Он гордился, что имеет твердый характер. Но Анни Фабер была особым человеком. Никогда в жизни он не думал, что она будет сидеть на его диване, захлебываясь слезами, как нервная девочка, – она, холодная, умная, спокойная фрау Фабер.
Когда он услышал, что она встала с дивана, он вернулся в комнату. Анни стояла у стола.
– Нет ли у вас одеколона? – сказала она. Он принес ей флакон и полотенце. Она вытерла слезы и освежила лицо.
– Не удивляйтесь, Винни, – сказала она печальным и ясным голосом, – я не пробую улыбаться, ничего не выйдет, больше ничего не выйдет. Анни Фабер нет, как нет и Карла Фабера.
Бурхардт взял ее холодную руку и поцеловал.
– Я вас давно знаю, Анни, но я ничего не понимаю во всем, что сейчас происходит, – ничего.
Анни вернулась на диван. Она подняла с пола платок и разглаживала его.
– Вы читали вечерний выпуск? – опросила она, глядя в упор. Его поразила огромность ее глаз.
– А, – сказал он, – газы… Вы, конечно, хотите сказать о газовых атаках. Это, должно быть, забавное зрелище, Анни…
– Забавное зрелище?! Вы сошли с ума! Вы ничего не знаете. Один человек сделал это. Мировой ученый, ваш друг, Карл Фабер, по доброй воле стал убийцей.
Она говорила, и плечи ее сводила судорога.
– Говорите все, – попросил он, – все, Анни, вам будет легче…
– Винни, вы знаете Карла. Не было человека, преданного науке больше, чем он. Я – химик, я была его помощницей. И не было человека счастливее меня, Винни. Меня упрекали за серьезность, за постоянную серьезность, но я умела смеяться и веселиться. Мы знали, что в жизни выше всего наука, и, когда я влезала в свой лабораторный халат, я становилась иной, Винни.
«Это были счастливые времена. Карл был окружен прекрасными помощницами. Его открытия известны всему миру. И недавно я узнала, что часть лаборатории давно стала тайной, закрытой для других лаборантов, охраняемой, как крепость. И в лаборатории появились военные. Они приходили как к себе. Я думала, что они производят случайные опыты, и я спросила Карла, что происходит. И он смутился, мой честный Карл стал путаться, стал лгать мне и объяснять так, что мне стало ясно: дело идет о серьезной и громадной вещи, не будет же сам Карл заниматься случайными вопросами. Я сказала ему все, что думала. Я сказала, что люди вдвоем проводят жизнь, делят все пополам, или же они исчезают в разные стороны. Так у нас было до сих пор. Что поделать, у меня такой характер, Винни. И он открыл мне то, что я подозревала. Я не имею права говорить вам это, Винни, вы должны забыть то, что я вам говорю, – если об этом узнают другие, вам будут большие неприятности, – но я не могу, не могу не говорить.
«Я узнала, что он разработал применение отравляющих газов в боевой обстановке. Я похолодела в ту минуту. Вы не химик, вы не можете себе представить ужас и мерзость этого дела. Никогда в мире ни один химик не решался на это. Я узнала, что дело зашло далеко, так далеко, что, как пишут сейчас там в газетах, достигнуты большие успехи…»
Анни говорила хриплым от слез и усталости голосом.
– Я умоляла его отказаться от мысли участвовать в этом деле. Солдат против солдата – честная битва, судьба которой решается искусством оружия, равным соревнованием сил, личной храбростью, я не знаю, или намеренное страшное нападение на людей, ничем не защищенных. Он говорил мне, что англичане применили газ в снарядах, что нужно ответить им для спасения родины. Я не верю, об этом кричали бы наши газеты. Я не спала ночи с того дня, но я верила, что Карл в последнюю минуту откажется, найдет в себе мужество не стать палачом тысяч, легким палачом, Винни, человеком, сидящим далеко от всякого риска и хладнокровно, как крыс, умерщвляющим себе подобных. Для этого ли он прошел такой блестящий, такой изумительный путь ученого, чтобы завалить его трупами, бесконечными трупами, потому что, знаете, Винни, – такое оружие нельзя безнаказанно вынести на свет. В этом его проклятие. Оно сильнее всего существующего в мире оружия. Никакая граната не сравнится с газом. И у газов есть неисчислимый запас смертоносных комбинаций. Химики всех стран, из патриотизма или из чувства самосохранения, начнут такую же работу. Винни, что будет с человечеством? Человек, изобретший пулемет, – ангел по сравнению с Карлом. Он дал слово, что он не будет участвовать в этом деле, и я жила три дня, как будто я только что вышла за него замуж, счастливая, такая счастливая, что вся моя лаборатория шутила надо мной, не понимая, в чем дело.
«И потом он уехал… Он уехал, как он сказал, в научную командировку. И он не вернулся до сих пор. Прошло много времени, и его все нет. Он присылает записки, что командировка скоро кончится. Где он, я не знаю. И вдруг по секрету мне сообщили, задолго до печати, о газовой атаке.
«Мне рассказали подробности, от которых, Винни, у меня волосы стали дыбом. Я не могла есть, у меня пропал сон, я не могу больше ходить в лабораторию, я не могу видеть эти стены, я не могу смотреть в глаза людям, я не могу больше видеть Карла, а без него я не смогу жить, Винни. Вот и все. Это так просто. Он нарушил слово, данное мне. Значит, он сделал выбор. Значит, все кончено. Зачем мне его объяснения? Я знаю, что он все объяснит. Он умный – умнее его мало людей на свете. Я ждала газет, но газеты молчали. И сегодня вечерний выпуск подтвердил все, все, и то, что я не ожидала – что это только начало ужасов, только первые опыты, но не последние».
– Анни, я ваш старый друг, – сказал Бурхардт, – мы живем в тяжелое время. Многое не под силу нам. Мы сгибаемся под тяжестью войны, но, Анни, вы не правы; некоторая мечтательность в вашем характере, удивительное сочетание ума и женственности…
– Не фальшивьте, Винни, не пробуйте меня утешать, я не хочу двигаться на каких-то духовных костылях. Ведь, вы подумайте, Винни, пока мы здесь сидим, он там убивает новые тысячи, он душит их, как душат бандиты, хватая за горло, потому что хлор, которым он душит, парализует дыхание.
– Анни, а если вы ошибаетесь, – сказал Бурхардт, – а если это все-таки не он? А если он спокойно сидит где-нибудь в лаборатории и вовсе не думает ни о каких убийствах? Где у вас доказательства?
Анни нахмурилась. Она глядела на Бурхардта почти враждебно.
– Где доказательства? – щеки ее сморщились, она дурнела на глазах, – доказательства? доказательства я получу сегодня же.
Она встала.
– Я не отпущу вас, – закричал Бурхардт, – преступление отпускать вас в таком состоянии. Вы не доберетесь до дому. Вы попадете под автомобиль. Вы не смотрите, куда идете. Я силой задержу вас, но не отпущу. Карл не простит мне, если я отпущу вас сегодня.








