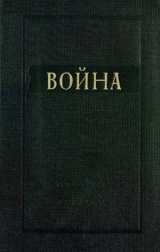
Текст книги "Война"
Автор книги: Михаил Зощенко
Соавторы: Лев Славин,Николай Тихонов,Виктор Финк,Михаил Слонимский,Юрий Вебер,Семен Розенфельд,Николай Брыкин,Кирилл Левин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 52 страниц)
В двух шагах от него, разбросав руки и ноги, лежит животом вниз солдат. Голова его раскололась пополам, как разрезанный надвое арбуз. Рядом с тыльной частью головы, держащейся на туловище, лицо держится только на коже и лежит, как крышка открытой коробки, поставленной вверх дном… Из коробки вывалились мозг и глаза.
Мне нехорошо. Горло сдавливают спазмы. К сердцу подкатывает холодок. Я не могу больше видеть разорванные животы, вывалившиеся внутренности, оторванные ноги и головы. Я не могу видеть кровь…
Напряженные и притупившиеся нервы устают и сразу ослабевают до крайности. Но некуда спрятать плаза, некуда бежать, негде укрыться. Куда ни повернешься, везде развороченные тела, корчащиеся фигуры, стоны и кровь…
Я бегу к нашему перевязочному пункту и прошу у фельдшера Глазунова глоток коньяку. Он наливает мне полстакана, и я залпом его выпиваю.
Через минуту тепло проходит по всему моему телу, голова кружится. Кровь и развороченные тела не пугают…
Я помогаю фельдшеру разрезать шинели, держать раненых во время перевязки и укладывать на двуколки. Мои руки в густой крови, шинель в красных пятнах…
В лесу, куда укрылись немцы, много убитых. Под ними на земле следы засохшей крови. Ногти их пальцев впились в землю, и скрюченные руки застыли… Позы конвульсивно изогнутых тел и искаженных лиц говорят о медлительности агонии.
Наши солдаты снимают с убитых сапоги и шлемы.
Я натыкаюсь на труп совсем юного немца.
Рядом с раскрытым ранцем валяется маленький голубой конверт.
Я долго не могу оторваться от тонкой фигуры и милого лица убитого. Куртка на груди изорвана и залита кровью. Руки разбросаны в стороны, и кисти сжаты в кулаки. Лицо повернуто в сторону и беспомощно смотрит на меня. Мертвое и застывшее, с незакрытыми голубыми глазами, оно сохраняет нежность овала, мягкость линий и детскую чистоту белой кожи.
Я поднимаю голубой конверт, вынимаю из него маленький листок папетри.
«Мой милый Альфи, еще не увяли цветы, которые ты мне принес перед отъездом, еще звучит в моих ушах твой ласковый голос, и я вижу совсем ясно твои глаза, такие родные и близкие и такие грустные перед прощанием, – а ты уже так далеко, так страшно далеко…
Сегодня день моего рождения. Я ждала твоего письма, но не дождалась. Ты помнишь этот день в прошлом году?.. Я не пошла в школу, и мы весь день провели вместе. Думали ли мы тогда, что судьба нас так скоро разлучит, что тебя отнимут у меня…
Кому нужна эта война? Кому?
Мой милый, любимый Альфи, я верю, я горячо верю, что скоро этот кошмар окончится и ты вернешься невредимый домой. Тогда мы будем всегда вместе, и нашего счастья никто у нас не отнимет.
Правда, милый?
Пиши мне чаще, как ты обещал. Когда долго нет от тебя писем, невольно всякие ужасы лезут в голову, и сердце охватывает тяжкая тревога.
Твоя мать так редко пишет тебе, потому что у нее опять болят глаза и дрожат руки. Она много плачет и молится. Она говорит, что вымолит тебя у бога, что он не отнимет у нее ее единственное в целом мире счастье?..
Да, мой дорогой Альфи, ты – наше единственное в целом мире счастье!..
Будь здоров и невредим. Да хранит тебя бог. Целую твои глаза.
Твоя Марта».
Но бог не услышал их молитвы.
Он не сохранил бедного мальчика ни для матери, ни для Марты. Раскаленный кусок свинца из русской винтовки отыскал юное сердце, и окоченевшее тело его лежит на промерзшей вражеской земле.
Прекрасные черты покрываются уже тенями тления, и темные пятна наплывают на лицо.
Мы уже много недель в окопах.
Против нас в полуверсте немцы. Каждый день на рассвете бомбардировка. Сначала с небольшими промежутками, редкие одиночные выстрелы. Потом беглый огонь, час, другой. И небольшая передышка. И снова то же. За несколько дней не трудно было пристреляться, и снаряды безошибочно разрываются над линией окопов. Мы настроили блиндажи, тратя все свободное время на укрепление и прикрытие навесов.
Когда близко разрывается снаряд, слышно, как ударяются осколки о крышу блиндажа. Когда тяжелый снаряд разрывается в самом окопе, взлетает крыша, разворачивается и обваливается окоп, десятки людей превращаются в кровавую мешанину.
За четыре недели мы потеряли сто человек. Пополнений пока нет. Наша рота стала совсем маленькой. В других ротах то же самое.
Батарея расположилась недалеко позади нас. Восемь орудий, отвечая немцам, производят такой гром, что сотрясают воздух, рвут уши, бьют по черепу…
По ночам на горизонте за линией неприятельских окопов полыхает багровое зарево пожаров, зажженных нашей артиллерией. Горят деревни, озаряя кровавым светом полнеба. К утру зарево бледнеет и сменяется клубами черного дыма.
Последние дни идут беспрерывные дожди. В поле вокруг окопов черная, глубокая, липкая грязь. Вода затекает в окопы, и мы с трудом спасаемся от нее, наложив под ноги доски, ветки и кирпичи, натасканные из соседней сгоревшей деревни.
Входить в окопы и вылезать оттуда трудно, так как края совсем размокли и превратились в черное месиво. К нашим шинелям, рукам и сапогам прилипает грязь. Лица у нас серые, кожа жирная и липкая.
Из окопов мы видим черную грязь поля, и над нами серое, сплошь затянутое тучами, зловещее небо. В стороне, на месте недавно еще богатой деревни, длинный ряд обнаженных печей и труб, груды обгоревших развалин…
От подземной норы, от невылазной грязи, от серо-коричневого неба и дождя, от бессонных ночей и голода, от вечно висящей над головой смерти – мрачная тоска не покидает нас.
Мы устали… Мы страшно устали, но нам невозможно отдохнуть. Мы хотим спать, голова кружится, глаза закрываются, веки тяжелеют, наливаясь свинцом. Ноги от слабости подкашиваются, но спать невозможно, лечь негде, некуда приклонить голову, не к чему прислониться…
Мы голодны. Наши желудки давно пусты, наши организмы ослабели. Но есть нечего. Кухни не могут пробраться по глубокой густой грязи; попытка пронести пищу в ведрах кончилась гибелью носивших.
Мы хотим работать, мы томимся от безнадежного безделья, но делать нечего, и мы часами ловим вшей, пускаем их гулять по ладошке, рассматриваем их, сравнивая с чужими, и, наконец, бьем, придавливая ногтем к осколку кирпича…
Былин рассказывает, какое замечательное сало в его губернии:
– Белое, белое… вершка на полтора толщиной… В рот положишь, як масло тает… А то можно кусочками его накрошить, с луком поджарить; оно на сковородке шипит, а зарумянится, надо яйцами облить… Э, и вкусно, ребята!..
Гончаров сердится:
– Брось ты, чертов хохол! И без тебя горько! Аж слюнки потекли.
Но ему некуда скрыться от разговоров о еде. Колонисты оскорблены.
– Нет… Это есть неправда… Наш свинина лучше. Наш свинина, как сметана, можно мазать на булка… Это есть шпик, немецкий шпик…
– Ось погоди, немцы из тебя сделают шпик!
Другой колонист вспоминает домашнюю ливерную колбасу и паштет из потрохов:
– Окорок и колбаса в труба надо вешать. Там шесть недель должна висеть, коптиться, а паштет и ливерная надо сейчас кушать… Надо на теплый хлеб мазать… Немножко горчица мазать…
Гончаров вне себя:
– Довольно, колбасники проклятые! Что вы душу мотаете?
– Господину фельдфебелю, конешное дело, обидно, – говорит Родин. – В Никольске недавно еще рюмочку выпьют и колбаской закусют или огурчиком хрустнут… Хорошо… Потом еще разок. От бы, ребята, сейчас стопочку смирновки!
– Ага, верно. А потом жменю кислой капустки и копчену грудинку.
– Не-е. Сейчас бы перво-наперво чашку горячих щей… Да… Да пожирнее. Апосля – мясца кусок, с жирком и, значит, горчичкой смазать или хренцем… Апосля этого чайку, чашечек пару, и «а боковую… Поспать бы. Э-эх… На печку бы, да под тулуп…
Запасный, из крестьян Олонецкой губернии, не выдерживает:
– Верно, ребята, ничего лучше чайку не быват. Хорошо к яму баранков горячих али, скажем, пирожка с тварожком. Э-эх, бывало, раньше в праздник десяткам их жрешь, горя не знаешь, ей-бо. А все мало было, зря бога гневали, истинный хрест…
– Брось, зверь олонецкий, божиться – все равно врешь. Видать по тебе, и в праздники, поди, мяса не жрал. Бедный ваш край, а ты «пирожка с тварожком»…
– Не, правда, вот те истинный хрест! По нашим мястам народ богато живет, ей-бо. Быват – по шесть, по восемь коров, да столько ж лошадей, а быват и больше.
Немцы не уступают.
– Наший колоний еще Екатерина Великий даваль. Наший колоний есть колонисты семьдесят десятин есть. Нас есть колонист Иоганн Гретц, он имеет восемьдесят пять десятин. Одна пшеница пятьдесят десятин, кукуруза и овес; есть много картофель и много арбузов. Он имеет двенадцать лошадей и двенадцать коров и много свиней, а птицу так много – считать нельзя. Нас много такой колонист.
– Известно, немчура, не пьют, не гуляют, только рубли собирают.
Сибиряки – тобольские и томские – не верят в такие богатства.
– У нас коровенка-другая, и обчелся. Земли – на семью три-четыре десятины. Бедно у нас живут.
– Не у вас одних так живут, – говорит Артамонов. – Вся Россия нищая. Я много по ней мотался. Куда ни ткнись – везде нищета, убожество… Избенка без окон, без печей, крыша дырявая, в доме ни коровенки, ни хлеба – ничего.
– И у нас такой уезд. В деревне один, другой хорошо живут. Остальные только маются…
Артамонов снова, как когда-то в этапе, оброс большой темной бородой. Лицо его пожелтело, и характерные его складки, протянувшиеся от носа к углам губ, стали резче и глубже.
– Нищета была и будет. И ежели войну Россия выиграет, народ богаче не станет. Ежели землю у немцев и оттяпаем, все едино народу она не попадет… Все господа разберут.
– А за што ж воюем? – спрашивает кто-то из запасных.
– То-то и оно, что ни за что… Ты пораскидай мозгой, пошевели ей маненько… Авось догадаешься…
– Уж догадались… Ни за што воюем… Оттого и скучаем… А ежели б за свое дело, за свой дом, за свою землю – не так бы мы повоевали!.
– Правильно.
Артамонов осторожен. До слуха ротного и батальонного доходили его разговоры, и фельдфебель не раз ему говорил:
– Смотри, Артамонов, держи язык за зубами! Больно разговорчив стал. Смотри, говорю!.
Пронин, болтаясь в обозе, по-старому узнает все новости не только в полковом штабе, но и в штабе дивизии и корпуса. Изредка попадая к нам, он в беседе со мной торопится высыпать все, что знает.
– Начальник штаба корпуса приказ отдал… Мол, во всех частях имеются злонамеренные люди, ведущие вредные и опасные разговоры… Всем командирам частей иметь строгое наблюдение за подозрительными нижними чинами… В случае обнаружения преступников, немедленно арестовывать и доставлять в штаб…
И, затянувшись козьей ножкой, шепотом прибавляет:
– Наш батальонный поручил фельдфебелю следить за Артамоновым…
И теперь, взглянув на меня, Артамонов вспоминает мои предупреждения. Он медленно достает кисет и молчит.
Потом, не выдержав, тихо говорит, адресуясь куда-то в пространство:
– Ладно… Погодите… Заговорят… Не один, не два, не тыща… Все заговорят… Да так, что рта уж им не закроешь… Нет!..
Он молчит с минуту, раздраженно лохматит бороду, потом, будто сердясь на слушателей, прибавляет:
– Да к словам еще кое-чего прибавят… покрепче слов… Тогда наслушаетесь!.
Разговор постепенно увядает. Мы все одинаковым жестом залезаем за пазуху и неистово скребем грудь и подмышки. Но это нисколько не помогает. Вшей развелось безнадежно много. Раздеться и почистить белье невозможно – очень холодно.
Мы идем много часов по разрытой снарядами дороге.
Проходим сожженные огнем артиллерии деревни… Только печи с торчащими трубами и груды обгорелого мусора. Двумя длинными шеренгами тянутся они от края до края. И ничего больше. Ни единого человека. Ни лая собак.
Сгорело все, что может сжечь огонь. И упрямо торчат длинные трубы, как протянутые к небу руки.
Мы проходим одну за другой деревни, и все они похожи одна на другую. Будто мы ходили-ходили и незаметно вернулись к той же сожженной деревне.
Опять только трубы, насколько видит глаз.
Будто стояли шеренги солдат, и с них сняли обмундирование, содрали кожу и мышцы, скальпировали черепа и оставили ряды скелетов.
Над пепелищами вьется еще тонкий серый дымок, напоминая о недавней жизни, о только что ушедших отсюда людях.
На полях встречаем толпы крестьян. Они останавливаются и дают нам дорогу. Дети, закутанные в кучи тряпок, сидят на грудах утвари в наполненных телегах. У ребят синие от холода личики, сморщенные красные носики и глаза, опухшие от слез. В телеги набросаны, как попало, корыта, ухваты, горшки, подушки. За подводами, равнодушно пережевывая жвачку, стоят привязанные худые коровы.
Женщины плачут, неслышно всхлипывая, вытирая кулаками грязные лица.
Навстречу нам движутся новые толпы беженцев-крестьян. На женщинах остатки когда-то ярких национальных одежд. Красные платки на головах, завязанные высоко, как чалма, коричневые сермяги с вышивкой на воротнике и рукавах. Скрипят несмазанные телеги, мычат голодные коровы, стучит и дребезжит убогий скарб.
Куда они идут?
Кругом на сотни верст все сожжено, залито кровью и затоптано тяжелыми солдатскими сапогами двух великих враждующих армий.
Солдаты, равнодушные ко всему, ничему не удивляющиеся, ожесточенные, бездушные и апатичные, глубоко сочувствуют крестьянам.
– Ну, чем воны виноваты? Воюют немцы с русскими, а поляки причем? Та еще мужики… Деревни посжигали, народ прогнали, а куды воны пойдут? Чего жрать будут?
Кайзер печалится о хозяйстве:
– Сколько добра погубили!.. Землю затоптали, посевы погубили, лошадей забрали, коров поубивали… Теперь долго ничего не будет…
Попыхивает выгоревшая трубка, вьется вонючий дымок над ней, и Кайзер, сплевывая сквозь желтые зубы, продолжает:
– Сломать легко, сломать просто… А строить надо много, много лет; что в день сломаешь – годы надо строить… А мужику прямо смерть. Где он потом возьмет и дом, и корову, и лошадь, и плуг, и семена? Пропадет мужик совсем.
Кто-то говорит:
– Мужику всегда плохо. Ему первому попадает. Работает от петухов до ночи. Спину ломает всю жизнь. Сердце надрывает, а все равно ни к чему. Картошки не хватает, хлеб с квасом жрет. А горе хлебает первый… Неурожай – мужику горе. Пожар – вся деревня горит. Война – одних только мужиков в солдаты гонят. А кого не возьмут, то так с земли сгонят, и дом сожгут и всего изничтожат. Мужику нет спасения…
Былин замечает:
– Да, брат, паны дерутся, а у холопов чубы болят.
– От бы панам чубы надрать, може холопам лёгше станет…
Артамонов, загребая свернутой козьей ножкой махорку из кисета, как всегда думая какую-то долгую, постоянную думу, медленно, с длинными паузами говорит:
– Я все думаю… За что воюем? Кто нас обидел? Тебя, меня, его… Сердит ты на немца? Нет. И я нет. И никто здесь на него не сердит. За что? Тут мужик – и там мужики. Тут мастеровые – и там мастеровые. И воевать нам не за что, нету нашего интересу в этой драке… Тут интересы господские, хозяйские, не нашего брата… Иной раз думаешь, думаешь и эдакое придумаешь… Эх, сукины дети, собрать бы здесь побольше народу, да пойти в Питер, да спросить там начальство: «какой такой важный интерес может быть, чтоб такая тьма народу за его пропадала? Кто надумал воевать? Покажите-ка…» Да взять их и при всем народе засечь розгами, чтобы другим неповадно было. И всех, кто там за войну – сюда послать: пускай повоюют, а мы поглядим. И немцам скажем – пусть то же сделают.
Былин весело хохочет.
– Правильно: вы повоюйте, а мы поглядим.
Кто-то робко возражает:
– Да кто-то воевать должен. На то и солдаты, чтобы на войну шли… Ежели армия родину защищать не станет, так кто же?
– А кто нападал на твою родину?
– Немцы… Известно кто…
– А ты сам видал? Ну, расскажи, как дело было? Кто на кого, да за што нападал?. Ну, говори…
– Этого нам знать не полагается… Наше дело маленькое… Это дело начальства.
Арматонов крепко рассердился и даже сплюнул злобно.
– Тьфу, сукин ты сын, холуй господский! «Дело начальства». А твое дело – за начальство помирать? И ничего больше?
– Присягу давали…
– «Присягу давали». Холуй – холуем и помрешь… А за что помрешь? За чьи интересы? За свои, что ли?
– Мы за Россию.
Кто-то говорит:
– У евонного батьки сорок десятин.
– Оно и видать… Заметно, чью сторону тянет.
Есть почище хозяева… Которые по десять тысяч десятин…
– По десять?
– Да… И по двадцать бывает… Таких помещиков много. И больше бывает. У одного только царя миллион десятин да сотни поместьев, да десятки дворцов.
– Миллион?
– Да… Да у монастырей миллионы десятин.
– Миллионы?
– А-а… То-то и оно.
Скрывается последняя телега. Пестрая, рваная толпа, подводы, лошади, коровы, скарб, плач детей и женщин – все исчезает позади…
Ударили неожиданные морозы. Пока мы идем, ноги согреваются, останавливаемся – ноги быстро стынут. Мы все еще в фуражках. Где-то в обозе второго разряда болтаются наши сибирские полушубки, папахи и варежки. Они согревают обоз, а мы здесь замерзаем. Солдаты ругаются.
– Ну, и сволочь Горпыченко, маринует зимнее обмундирование.
– А причем Горпыченко? Всему полку не дают, значит, начальство не приказало.
– Боятся, что нам ходить тяжело будет, взопреем.
– А верно, ходить тяжело будет.
– Зато тепло.
Мы уже давно непохожи на тех подтянутых, крепко подпоясанных солдат, вид которых обожали полковой и батальонный командиры.
Всевозможными хитростями мы раздобываем разные тряпки, обрывки материи, старые шапки и напяливаем на себя. Я купил у беженца большую облезшую барашковую шапку и натянул на голову, закрыв уши. Воротник шинели поставлен и обвязан полотенцем вместо шарфа. Былин обвязал длинной портянкой голову, как деревенские бабы платком, и сверху надел фуражку. Сапоги обмотал пестрыми лоскутьями из рваных матрацов. Василенко снял с мертвого немца шлем и хорошо себя в нем чувствует. Родин, очевидно, украл башлык и совсем благодушествует. Запасливый и хозяйственный Кайзер сложил в узкую полоску кусок фланели и обвязал уши, засунув узлы под фуражку. Кто-то из запасных, найдя большой клок рваного одеяла с вылезающей ватой, набрасывает его себе на плечи…
В стороне от дороги сгоревшее местечко. Посреди его – развалины кирпичного здания. В разных местах остатки кирпичных домов: остальные домишки, беспорядочно разбросанные по всей площади, сгорели дотла и маячат бело-красными полуразрушенными трубами.
Солдаты делятся впечатлениями.
– Здорово расколошматили! Ничего не оставили. Вдребезги.
– А зачем по штатским стреляют? Ведь никого они не трогают. Тут бабы ходят, детишки играют, зачем в них стреляют?
– Жили себе люди, трудились, кусок хлеба ели, никому не мешали, вдруг приходят: бах, бах, бах, и кончено…
– Господи, сколько горя от войны! И кто ее выдумал? Кому она нужна? Кому от нее радость?
– Може, кому и есть радость, може, кому и нужна…
Это говорит новый в нашей роте запасной Кузнецов. Он городской, работал упаковщиком на складе. Сероглазый блондин, среднего роста, худощавый, он разговорчив и боек.
– Вот кончится война, считать начнут, сколько убитых, раненых. А разве можно сосчитать? Никак невозможно. Одних наших, поди-ка сосчитай! Наши и здесь, и в Австрии, и в Румынии, и на Кавказе. А во флоте сколько народу! И каждый день бьют, бьют, бьют… Из пушек, из пулеметов, с аэропланов, шашками, винтовками… Эх, сколько убитых, раненых, пропащих… Не, не сосчитать вовек, ни за что не сосчитать. Разве за прошлые войны сосчитаны покойники?.. А которые нас сюда послали, тех немного… Их против нашего брата совсем немного. Они, небось, в городе сидят, в каменных домах прячутся… За их воюем… Их интерес защищаем, а больше ничей. Наше дело маленькое…
– То-то же что маленькое… Погоди, авось расчухаемся, может, умней станем. Тогда будет не маленькое…
Он, видимо, не знает цифр. Ему, очевидно, незнакома статистика. Он ничего не слыхал о военных отчетах.
Иначе ему, может быть, было бы известно, что с начала Азиатско-Европейского периода истории на войне погибло свыше миллиарда двухсот миллионов человек.
Миллиард двести миллионов!
Это – почти население всего земного шара.
Если бы он знал статистику войн, он припомнил бы, что, например, десять лет «завоеваний» Наполеона обошлись Франции в два миллиона жертв, а всему остальному миру – в восемь миллионов.
Десять миллионов человек – за десять лет!
Эти цифры не касаются прочих жертв войны – калек, слепцов, сирот, вдов, навеки брошенных отцов и матерей.
Любая дата из мировой военной хроники, любой крупный эпизод войны связан с огромными цифрами человеческих жертв.
В бою под Аустерлицом, в так называемой «битве трех императоров» за один день погибло тридцать пять тысяч человек! Под Бородино за двенадцать часов не стало свыше восьмидесяти тысяч солдат! На поле битвы под Ватерлоо, после восьмичасового сражения осталось пятьдесят две тысячи убитых и раненых! Знаменитая Плевна обошлась Румынии, Турции и России в сто тысяч жертв! В бою под Шахе русские и японские войска потеряли семьдесят пять тысяч бойцов!
И будущие историки в будущие годы хладнокровно запишут:
«В боях под Варшавой погибло тридцать тысяч солдат».
«В сражении под Стрыковом потери составляли пятьдесят тысяч воинов».
«В Мазурских болотах русские потеряли полностью два корпуса».
«На русском фронте легло два миллиона бойцов».
К этим сухим, холодным цифрам быстро привыкнут.
Их не понимают, не чувствуют. Сидя дома, падают в обморок от вида крови на порезанном пальце, корчатся при виде раздавленной трамваем кошки, но спокойно запивают глотками горячего чая свежий отчет генерального штаба о последних боях, в которых погибли десятки тысяч солдат.
А старые отчеты о давно прошедших «военных действиях» читаются как интересный роман.
Кенигсберг, Варшава, Брест! Марна, Вогезы, Аррас!
Какие цифры человеческих жертв проставит история против этих географических точек!
Какой страшный миллионный итог вырастет к последнему дню этой всесветной бойни!
Ведь каждый день, каждую ночь бьют, бьют, бьют… Из пушек, из пулеметов, с аэропланов… Винтовками, шашками, штыками… На всех фронтах, у всех народов…
Мы входим в лес.
В огромных воронках между деревьями жгут костры. Мы сидим вокруг и греем ноги. В большой воронке, кроме нашей компании, сидят батальонный, ротный, телефонист с аппаратом и два офицера. Аппарат каждые несколько минут пищит, и телефонист вяло отвечает: «слушаю». Потом сам вызывает и так же монотонно говорит: «поверка линии».
Батальонный жалуется на боли в боках.
– Должно быть, почки. Я давно уже страдаю, но надо терпеть. Служба – не шутка. Особенно на войне. Бог даст, одержим полную победу над врагом, кончим войну, тогда отдохнем. Его величество никого не забудет, он всем воздаст по заслугам…
Чайка, чтобы остановить поток патриотического красноречия батальонного, рассказывает фронтовой анекдот.
– У нас в роте новый солдат, еврейчик из запасных. Услышав первый раз стрельбу из немецких окопов, он выскочил из блиндажа и закричал не своим голосом, грозя кулаками в сторону немцев: «Что вы делаете? Вы с ума сошли? Здесь же живые люди сидят!.» Еле втащили его обратно в окопы.
Слушатели смеются. Батальонный тоже хохочет:
– Ха-ха… «Здесь же живые люди сидят…» А что же, в мертвых стрелять? Ха-ха, вот чудак!
Анекдот понравился. Офицеры рассказывают свои, но все уже дремлют. Василенко положил свою голову на мое плечо и сладко похрапывает. Чайке это понравилось, и он ложится, кладя голову на мои колени. Батальонный дремлет, медленно нагибаясь вперед, и вдруг, резко вздрагивая, выравнивается, смотрит непонимающими, испуганными глазами и снова засыпает… Ноги у костра быстро согреваются, но всему телу холодно. Оставаясь неподвижными, мы быстро мерзнем и дрожим, но, скованные дремотой, не решаемся подняться.
Сидеть или лежать спокойно невозможно. Вши ползают по телу. Они не дают ни минуты покоя.
Не хочется будить Чайку и Василенко, но я больше не могу сидеть неподвижно. Им тоже зуд не дает уснуть, и они скоро вскакивают и яростно чешут пятерней тело.
Я вспоминаю недавно прочитанную статью о вшах и вслух восстанавливаю ее.
– Платяная вошь дает в две недели пять тысяч молодых вшей. Вошь на теле человека пьет кровь три раза в день. Вошь причиняет зуд ползанием и укусом… Головная вошь откладывает гниды на волосах хозяина, платяная на швах и в складках белья. Вши относятся к разряду бескрылых. У них три пары ног. У них сильно развиты мышцы, особенно груди и ног. Молодые вылупляются из гнид совершенно похожими на родителей. Через восемнадцать дней они уже сами способны размножаться. Напившись крови тифозного и укусив потом здорового, вошь вносит инфекцию в кровь…
Чайка в отчаянии.
– Боже, какие ужасы вы рассказываете, оставьте – это хуже чемоданов!
Я спрашиваю его:
– А что вас больше угнетает? То, что они относятся к семейству бескрылых, или то, что у них, как у спортсменов, сильно развиты мышцы ног и груди? Меня, например, умиляет, что они вылупливаются совершенно похожими на родителей… Люблю фамильное сходство.
Офицеры из другого батальона: говорят мне:
– Вам нельзя читать научные статьи: вы сами с ума сойдете и других сведете.
– Никак нет… Но поймите, если вшей у меня хотя бы только пять тысяч, и у них развиты мышцы ног… и каждая напьется моей крови три раза в сутки…
Чайка начинает сердиться:
– Довольно. Прошу вас прекратить.
– Слушаю… Но, если бы и им приказать не кусаться…
С ними ничего нельзя сделать. Их бьют. Швы обжигают на огне – не помогает. Порошок, присланный из дому, только окрашивает их в зеленый цвет. Они ползут по белью, неся на спине зеленую краску.
Разговор о вшах прекращается.
Приходит телефонограмма:
«…полку на рассвете выступить по направлению к Стрыкову и во что бы то ни стало войти в соприкосновение с неприятелем…»
Очень приятно. Слова какие милые: «Войти в соприкосновение…» Войдем. Чего уж! Возражать не приходится.
Я себя начинаю чувствовать старым, прокопченным в пороховом дыму, ворчуном гвардейцем. Этаким седоусым наполеоновским гренадером. Ведь я один из немногих старых кадровых солдат. Большинство – запасные и новобранцы.
Поднимаюсь и брожу от костра к костру. Солдаты спят на земле. Они ворочаются во сне, чешутся и снова ложатся. Некоторые, несмотря на мороз, раздеваются, снимают рубаху, достают вшей и бросают в огонь…
И вот снова длинной походной колонной мы тянемся по шоссе. Еще совсем, темно. Где-то недалеко по дорогам, идущим параллельно с нашей, так же движутся колонны. Слышен шум обозов и артиллерии, топот копыт, лязгание железа и ржание лошадей. Мы дрожим от холода, кутаемся и ляскаем зубами. Холодно. Все тело ощущает только страшный, пронизывающий холод и леденящую стужу.
Над нами серебряной пудрой рассыпался далекий млечный путь. С высоты спокойно смотрят сине-золотые звезды, как смотрели вчера, как смотрели на прошлой неделе, как смотрели тысячи лет назад.
И мысль поневоле уносится к ушедшим векам. Звезды так же тихо и ясно, как сейчас, смотрели на землю с высоты своего невозмутимого покоя, так же, как сейчас, ласково и чуть-чуть иронически подмигивали друг другу, будто показывая на то, что творится внизу.
И так же, как и теперь, на земле передвигались полчища людей нищих, голодных, обманутых, неизвестно куда и зачем бредущих. Полчища двигались, ведомые своими властителями, топтали хлеб чужих народов, разоряли целые страны и царства, сжигали города и крепости, уничтожали племена и армии.
Скрипели колеса бесконечных обозов, плелись огромные стада навьюченных животных, двигались табуны лошадей и мулов, тянулись толпы рабов и пленников.
Вся земля изрезана дорогами, и по всем дорогам во все века тащились огромные орды завоевателей и убийц.
История земли – история войн!
Персы, греки, римляне! Гунны, скифы, монголы! Александр Македонский, Дарий, Ксеркс! Аттила, Чингис-хан, Тамерлан, Наполеон!
Они вели свои полчища, как другие завоеватели ведут сейчас свои армии – за новыми землями, за новым золотом, за новыми рабами.
С Востока на Север – с Севера на Восток! С Юга на Запад – с Запада на Юг!
По всем дорогам мира, во все давние и недавние века, бороздили пути исполинские армии – римские легионы, варварские полчища, татарские орды.
Как сейчас, скрипели колеса, ржали лошади, стонали раненые, проклинали умирающие. Как сейчас, стучали копыта, горели костры, лязгало железо.
Прошли тысячелетия. Мир изменился. Изменился человек. Люди изучили звезды, недра, моря – люди сделали величайшие открытия, покорили природу, написали миллионы томов великих творений, создали совершенные образцы высочайших искусств…
И вот, как тысячелетия назад, в той же черной мгле, под теми же звездами, по тем же путям бредут полчища нищих, голодных, обманутых людей, тоскливо бряцают оружием и ищут в темноте такие же полчища таких же нищих, голодных, обманутых братьев, чтобы в равнодушной беззлобной резне предать врага и себя бессмысленному уничтожению.
Века ничего не изменили.
Мы те же древние монголы, мы гунны, мы татары. Низкорослые, приземистые, скуластые, с узкими щелками раскосых глаз, мы тяжко шагаем по старым путям, как встарь шагали воины за Хромым Тимуром, Аттилой или Мамаем.
Начинается серый рассвет.
Мы встречаем огромную толпу беженцев-евреев. Они покинули окрестные местечки и идут в неизвестность, так же как встреченные раньше польские крестьяне.
Подвод совсем мало. В толпе беженцев они желтеют одинокими пятнами, нагруженные убогим хламом. Их тянут маленькие, облезшие, костлявые клячи, едва переставляя ноги.
На руках у женщин, в грудах тряпья – младенцы. Уставшие их носить женщины тяжело дышат и идут, странно откинувшись назад, нелепо выпятив животы. Много беременных. Женщины и девушки закутаны в платки, шали и одеяла.
Старики в позеленевших от времени шубах, рваных, заплатанных, с рыжими собачьими воротниками, переставляют ноги с тяжелым трудом, опираясь на палки. Несчастье лежит безмерным грузом на их согбенных спинах. Нищета, голод и бездомность наложили печать скорби на изрезанные морщинами лица. Глаза бледных седобородых стариков, как глаза библейских пророков, полны горькой тоски…
Свое нищенское имущество, связанное в узлы, люди тащат на себе десятки верст. У них нет ни лошадей, ни коров, ни даже собак.
Над жалкой рваной толпой беженцев повисли непоправимое бедствие и обреченность.
Медленно проплывают загнанные испуганные глаза, бледные лица, согбенные фигуры.
Через несколько часов мы проходим мимо брошенных местечек. Домишки стоят печальные, молчаливые, осиротевшие. Мертвая тишина зловеще нависла над брошенным человеческим станом.
Наши дозоры, идущие впереди частей, исчезли. С ними нет связи. Разведка давно донесла, что неприятель близко, но точных сведений нет. Движемся совсем медленно. Высылаются новые дозоры. Чайка поясняет, что в случае, если неприятель занимает заранее укрепленную позицию, не трудно собрать разведке точные сведения о нем. Тогда можно подойти походным порядком только до дистанции действительного ружейного огня. Здесь надо быстро окопаться, создав исходное положение для атаки.








