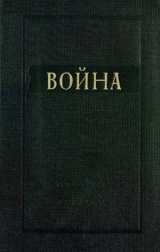
Текст книги "Война"
Автор книги: Михаил Зощенко
Соавторы: Лев Славин,Николай Тихонов,Виктор Финк,Михаил Слонимский,Юрий Вебер,Семен Розенфельд,Николай Брыкин,Кирилл Левин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 52 страниц)
Другое он приготовил к отправке на следующий день:
Я сегодня весь день вспоминаю с тоскою
Тихий вечер, тебя и рояль у окна…
Ты аккорды элегии нежной рукою
В мое сердце впервые влила…
Я люблю эти звуки осенней печали,
Их глубокую скорбь по ушедшей весне;
Их тоску по мечте, по неведомой дали,
По всему, что бывает лишь в сладостном сне…
Я нашел свою душу в аккордах мятежных
И тщету светозарных порывов моих;
Я в них повесть нашел о страданьях безбрежных,
И о многом, чего не расскажет мой стих…
Здорово завинтил! Чего не сделаешь для хорошего человека! А главное – чтоб заказчик был доволен.
А вот Харбин. Кажется, совсем недавно я проезжал мимо по дороге в Никольск! Мелькали город за городом, станция за станцией. А теперь все опять, только в обратную сторону. Как будто пьяный механик пустил ленту не с того конца.
Солдаты, высунувшись, смотрят на высокие здания домов, на куполы церквей и хором орут:
– А церквей-то, церквей, ах, твою… А б… то, боже мой!.
Эту коллективную полковую остроту, пущенную с чьей-то легкой руки, сделали обязательной и, приближаясь к какому-нибудь городу, неукоснительно повторяли.
Насколько Былин весел и радостен, настолько Тюрин печален и угрюм. Он целыми днями сидит или лежит в своем углу, благо его оставили в покое. Только Былин беззлобно его задевает и тормошит, не давая ему, как он объясняет, «с тоски удавиться».
– Тюрин, а Тюрин! Да тебе я, пузатая кобыла, говорю или нет? Тюрин!. Да отвечай же!
– Ну, чего тебе?
– Знаешь ты, куда едешь? А? На войну! Воевать будешь. Ружейный прием помнишь? На руку! Коли! Раз-два! Прямо в пузо немцу! Потом другого, третьего! Крест получишь – домой героем приедешь!
Взводный отзывается:
– Эта баба пока повернется, сама на штык напорется, вся вода из него вытечет. Сразу худой станет!
Родин относится к событиям спокойней:
– Зря катаемся. Пока доедем, война кончится. Погуляем и обратно поедем. А в военное время день за два считается, – приедем, а там и домой! Вот и вся война! Спасибо немцам!
Кто-то отвечает:
– Таким дуракам, как ты, – всегда первая пуля… Домой! Вот дурак!..
– А што думаешь? Разве немец противу нас может долго устоять? Наших понапрут, откуда хочешь. С России, с Дальнего Востока, с Сибири, с Туркестану, с Кавказу…
– Ну да, ты скажешь, с Кавказу! А турки хрен собачий? Еще туды подмогу посылать надо.
– Зачем посылать? Турок флотом угробить можно…
– Не, брат, Россию никто победить не может!
На больших перегонах Былин возмущается:
– Що це за вагоны, до витру нимае куда сбегать. Жди, пока вин встанэ… А мени, може, зараз треба!
– Зараз… чушка полтавская! Натрескается сала, аж выпирает, а потом, как пушка, бухает…
Мы приближаемся к огромному селу. Нет, это городок! Солдаты у окон и дверей. Опять старая острота с незначительной вариацией:
– А церковь-то одна только…
Заблестела река. Это Баляга или Макырта. Мы подъезжаем к Петровскому заводу, Верхнеудинского округа, Забайкальской области. Сюда были сосланы некоторые декабристы, и жители показывают на горе в лесу их могилы. Покосившиеся и позеленевшие, покрытые мхом камни со стершимися от времени надписями…
На всех путях длинные составы, наполненные солдатами. На дороге образовалась значительная пробка. Сотни эшелонов сбились на ближайших станциях. Мы простоим здесь три дня. Благо торопиться некуда…
Так ехали мы уже много дней и много ночей.
Наконец, засинел Байкал.
Едем вдоль берега. Поезд влетает в длинные, темные туннели и вновь вылетает на солнечный простор Байкала.
Огромное озеро, точно море, без берегов, и, точно на море, синие волны с белыми гребешками, и над волнами детский плач белых чаек.
Многие окончательно загрустили в ожидании свидания с родными. Теперь почти на каждой большой станции, когда подходил эшелон, стояли толпы крестьян и ожидали своих сыновей.
Нашего Тюрина родители с трудом разыскали. Они поджидали эшелон четыре дня, а когда поезд пришел, чуть-чуть не прозевали сына. Встреча была тяжелая. Мать Тюрина, еще не старая женщина, вцепилась руками в сына и, рыдая навзрыд, причитая и истерически всхлипывая, кричала:
– Куда вы дите мое забираете?! Куда?.. Оставьте вы Коленьку моего… Оставьте!..
Отец стоял молча и мял фуражку. Он низко опустил голову, и слезы длинной ниткой текли по щекам и бороде.
Подошел Чайка:
– Ладно, ладно, матушка, не плачь! Привезем тебе сына обратно.
Мать не отпускала Тюрина и, гладя руками его мокрое от слез лицо, кричала:
– Ребенок мой маленький!.. Куда тебя берут от меня?
Потом она передала ему образ от бабки Анисьи, долго крестила его и просила Чайку:
– Ваша милость, сберегите Коленьку, пожалейте, ваша милость, спрячьте вы его там…
Когда поезд отходил, она пробежала немного рядом с вагоном, потом упала ничком и, подняв лицо, кричала:
– Дите мое, дите мое!.
На следующий день, на большой оживленной станции, у вагонов тринадцатой роты появились родители унтер-офицера Никитина, обвиненного в убийстве фельдфебеля. Они ничего не подозревали. Когда им рассказали о сыне, отец, седой старик, досиня побледнел, долго ничего не мог говорить и шевелил посиневшими губами. Мать, очевидно глухая, вопросительно смотрела на старика, ничего не понимая. Долго они так стояли, пока старик с трудом проговорил:
– Адресок, ребятки, можно? Где его найти?
Ему объяснили. Они постояли, потом ушли и, снова вернувшись, стояли до отхода поезда.
Понял ли старик, что грозит его сыну?..
В Самаре мы получили пополнение из запасных. Какая ирония судьбы: большинство запасных – немецкие колонисты.
Они плохо говорят по-русски. Они с головы до ног подлинные немцы. И вот едут воевать с немцами.
В последние дни нас гонят с непривычной скоростью.
Затирает, видно, без нас…
– Должно, туговато дело. Больно заторопились.
– А говорили: покелева доедем, и войне конец!
– Погоди, миляга, прежде нам с тобой конец, а потом и ей конец!
– И куда это столь народу гонят – и понять невозможно! По многу тысяч, по многу полков, батарей, эскадронов… Поди, и в штабах сосчитать не смогут.
– Война людей глотает, как огонь сухой лес.
– Это верно…
– Ну, да хрен с им! Помирать один раз…
На станциях стоят скорые и курьерские поезда, пропуская нас вперед. Станции замелькали с необычайной быстротой. Полустанки, разъезды, села, деревни, небольшие городишки зарябили в глазах, беспрерывно сменяя друг друга.
Куда нас гонят с такой неожиданной поспешностью? Что случилось? Куда девались российские части? Неужели положение так катастрофично, что вся надежда только на сибирские корпуса?
Один за другим проносятся не только маленькие географические точки. Летят сотни верст, и, точно маленькие деревушки, один за другим вырастают и быстро остаются позади бесчисленные города…
После Самары, как в прочитанной книге или фантастической панораме, промелькнули, играя куполами церквей, каланчами, тюрьмами, казармами, крупные, в изобилии разбросанные по стране многолюдные города: Пенза, Ряжск, Тула, Калуга, Смоленск, Минск, Седлец…
Почему-то мы неожиданно оказались в Брест-Литовске, и вот, наконец, скоро Варшава.
На какой-то станции мы стоим несколько часов. Затем приходит телеграфный приказ: полку выгружаться и походным порядком срочно выступить в Варшаву.
До Варшавы сорок верст.
Тридцать шесть суток мы ехали от Никольск-Уссурийска.
Выгружаемся из вагона. Надеваем шинели и всю амуницию. Все неудобно, неладно, непригнанно. Ружье непривычно тяжело.
Полк выстроился на шоссе, и голова его уже скрылась в лесу. Позади нас тянется длинный обоз. Ротные на лошадях. Чайка, плотный и широкий, раскачивается на рыжей английской кобыле.
Мы идем почти без остановки. Час марша, пять минут отдыха. Только к вечеру мы делаем длительный привал. После теплого дня наступил прохладный вечер. С полей потянуло запахом скошенного сена, потом запахло яблоками. Мелькнули огни фольварка, окруженного большим фруктовым садом.
Глубокой ночью мы входим по шоссе на широкие мощеные улицы большого города. Трамвайные пути прорезают мостовую. Многоэтажные дома сжимают улицы. Блестят огромные зеркальные стекла магазинов.
Это – Варшава.
Ночью мы вышли из Варшавы, оставив позади себя огромный, ярко освещенный, блестящий и шумный город, в котором не было никаких признаков близких военных действий.
Многоэтажные дома с сверкающими зеркальными окнами и широкими подъездами; золоченые буквы кричащих вывесок; тысячи огней магазинов, кафе, кино, баров и театров; шумные толпы на тротуарах центральных улиц, звон переполненных трамваев, фабричные трубы и нищенские дома предместий, – все позади.
Мы медленно движемся, подолгу стоим и опять идем, усталые от многочасовой ходьбы и двух бессонных ночей.
К рассвету мы в восьми верстах от Варшавы.
Спокойно, как на тактических занятиях, нам приказывают рассыпаться в цепь вдоль низкой насыпи узкоколейной железной дороги.
Стоит великолепный осенний день, прохладный и свежий. Золотое солнце, играя в миллионах росинок, ослепительно сверкает. От глубоко вспаханной земли, черной и влажной, идет ни с чем несравнимый, крепкий и острый запах.
Наш батальон на правом фланге. Шестнадцатая рота крайняя. Я лежу рядом с Былиным, Родиным и Чайкой.
Против нас, в полуверсте, параллельно железной дороге, тянется редкий лес.
Внезапно, как страшный удар по голове, в лесу раздается ружейный залп…
И сразу второй, третий…
В нашей цепи слышатся крики и стоны. Кто-то кричит:
– Ой, убили, убили, спасите!..
И дальше по всей линии несется:
– Ой, ой, ой! А-а-а…
Чайка кричит, как на учении:
– Прицел тысяча триста, шеренгой, рота – пли!
Раздается, сухой, неровный рассыпчатый треск.
– Стрельба пачками, рота – пли!
Из леса слышна частая ружейная стрельба.
Мы видим, как по лесу перебегают, почти не сгибаясь, прячась за деревьями, немецкие цепи. В нескольких местах к самому краю леса подкатывают пулеметы и открывают сильный огонь. Над нами, совсем низко, вдоль цепи, летит аэроплан, обстреливая цепь…
Откуда все это взялось? Что это значит? Мы не думали об этом… Мы не могли предположить, что Варшава – огромная, богатая, блестящая Варшава, столица Польши, центр крупнейшего военного округа, важнейший стратегический пункт – открыта неприятелю, оголена и брошена…
Мы думали, что неприятель далеко, за сотни верст отсюда, где-то у своих границ…
Чайка кричит, надрываясь:
– Передать батальонному по цепи: неприятель обходит, фланг оголен!..
Появляются санитары с носилками. Уносят раненых.
Санитары кричат:
– Перевязочный пункт в деревне!
И вдруг крик по цепи:
– Отступить за кирпичный завод!
Мы поднимаемся и бежим назад, У прикрытия остается несколько фигур.
Это убитые.
Нагруженные всей амуницией, своим нерастерянным еще хозяйством и запасом продовольствия, мы бежим медленно. Полы длинных шинелей болтаются, мешая шагу.
Ротный пятнадцатой роты бежит рядом со мной и кричит вперед:
– Рассыпься, сволочь, рассыпься!. Сбились, как бараны! Мишень устроили! Рассыпься!..
Но люди не слышат. Густой толпой, сплошной подвижной серой массой они устремляются к зданию завода. Внезапно толпа шарахается и рассыпается в стороны. Немецкие пулеметы взяли верный прицел, подрезая толпу, как ножом, оставляя на черной земле большие серые пятна солдатских шинелей…
Мы ползем медленно, волоча мешки по земле. Котелки и фляжки цепляются и мешают. К рукам и к винтовкам прилипают комья сырой земля.
За кирпичной стеной спокойнее. Стрельба утихла. Полк медленно собирается. Все ищут свои роты.
От пережитого у большинства ослабли кишечники.
Появился батальонный командир. Он обращается к батальону, отрывисто лая:
– Братцы! Поздравляю вас… с боевым крещением… желаю вам быть… храбрыми и верными слугами царю и отечеству… Мы отступили потому, что… не подоспели еще артиллерия и казаки… К ночи… они прибудут…
Но, очевидно, его кишечник не крепче других, и он быстро скрывается, исчезнув за какой-то стеной.
Подсчитывают солдат…
В нашей роте не хватает десяти человек.
Вечером мы узнаем, что ранено шестеро, убито четверо.
Среди них Тюрин…
Пуля попала в темя и вышла над затылком. В руках у него зажата винтовка с неиспользованными патронами…
Мы движемся уже много часов. Часто останавливаемся, подолгу стоим на месте, садимся и ложимся прямо на землю, засыпаем и снова движемся, с трудом поднимаясь. В суставах бедер и колен как будто насыпан песок, сухо и неприятно.
Рядом со мной качается в седле Чайка на тонкой рыжей кобыле. Кожа нового английского седла скрипит, как баржа на реке, уютно и монотонно.
Чайка теперь капитан. Он засиделся в штабс-капитанах и рад производству, нагнавшему его в дороге.
Он дремлет в седле и, просыпаясь, окликает меня. Он что-то говорит, но совсем неслышно, и, очевидно, опять засыпает.
Мне вспоминается Тюрин. Мерещатся его окровавленная голова и тяжелое, неподвижное тело, вдавившееся в полотно носилок…
В памяти выплывает далекая сибирская станция.
Я вижу мокрое от слез лицо его матери и слышу ее голос: «Дите мое, дите мое…»
Но Тюрина больше нет. Его тело лежит в братской могиле, наскоро вырытой и гостеприимно вместившей пятьдесят солдат нашего полка…
Еще утром, за час до боя, он наливал мне в чашку из своего котелка кипяток и говорил:
– Хлябай, парень, хлябай горяченького.
Медленно светает. Позади нас появляются багряные полоски, и под ними небо из темно-синего становится зеленовато-голубым и прозрачным. Впереди небо совсем еще черное, и крупные звезды медленно тускнеют.
Мы идем на запад.
Неожиданно впереди, слева от колонны, шагах в пятистах от нас, вздымается огромный столб пыли, огня и черного дыма. Над дымом загремело, как в грозу. Колонна шарахается вправо от дороги. Полк останавливается. Проходят две, три минуты. Высоко в воздухе проносится тяжелое жужжание, будто летит гигантская пчела, и в тот же миг раздается грохот, разрывающий уши и ударяющий в голову. Оправа от нас взлетает высокая огненно-черная башня и, рассыпавшись, падает каскадом, превратившись в мелкие куски земли и пыли…
Полк бросается обратно на дорогу.
Мимо нас мчатся конные ординарцы, разведчики и адъютанты.
Немцы нащупывают колонну; еще два-три выстрела – и мы будем под огнем тяжелых орудий. Но мы стоим спокойно, неподвижно. Вдруг вся рота, как по команде, пригибается: над нами с визгом и воем разрезает воздух «чемодан» и далеко позади нас врывается в колонну…
Мы видим опять черный столб и взлетающие в воздух камни, комья земли, винтовки, лопатки… Когда дым и пыль рассеиваются, мы подбегаем к месту взрыва и видим посреди дороги глубокую, большую воронку.
Мы стоим здесь много часов.
Нам объясняют, что немцы, не встречая препятствий, подходили к Варшаве. Теперь, напоровшись на сибирские войска, отступают. Тяжелой артиллерией они хотят нас задержать, но мы их скоро нагоним…
Былин говорит:
– Спасибо батьке твоему! «Скоро нагоним…» А на який бис его нагонять, вин же стрелять будет? Хай идэ до дому.
К вечеру мы выходим на дорогу.
Мы снова движемся в темноте, не видя ничего ни справа, ни слева. Мы почти не разговариваем. Мы устали. В душе нет ни жалости, ни испуга, ни сострадания. Хочется спать, только спать. Глаза слипаются, веки тяжелеют, зевота сводит челюсти. Пусть будет, что будет, только бы уснуть. Спать, спать…
Нет конца дороге. Мы проходим десятки верст. Затекают руки от винтовки. Ноги натерты до крови и волдырей.
На рассвете мы входим в старый, высокий и густой лес.
Пахнет сыростью, прелыми листьями, мхом и запахом увядания осеннего леса. При каждом порыве ветра скрипят и качаются высокие деревья и осыпаются крупные золотисто-розовые листья. Они долго кружатся в воздухе и медленно падают на землю…
Лес скоро кончается. Голова колонны уже вышла в открытое поле. Мы слышим шум далекой ружейной и пулеметной стрельбы.
Полк останавливается.
Нам приказывают рассыпаться по лесу цепями в несколько рядов и продвигаться вперед. Мы ступаем по мягкому мху, прыгаем через пни и сваленные деревья, тыкаемся в обнаженные корни и стараемся не потерять друг друга.
Частая стрельба слышна совсем близко. Мы выходим из лесу и видим далеко впереди согнутые фигуры перебегающих цепями в несколько рядов солдат. Проходим еще с полверсты и останавливаемся. Впереди нас никого нет, – цепи передвинулись куда-то вправо. Нам приказывают окопаться. Положив винтовки, сняв вещевые мешки, мы спешно роем окопы по начертанным на земле линиям. Острые лопатки врезаются во влажную землю и выбрасывают вперед крупные комья. Позади окопов режут четырехугольные куски дерна для маскировки насыпи. Мы скоро устаем и обливаемся потом, но нас подгоняют, и мы не останавливаемся, пока не кончаем работы.
Окопы готовы.
Мы уже два дня не ели горячего, так как кухни не поспевают за нами. И сейчас кухонь не видно. Солдаты бегут в лес, раскладывают костры и готовят в котелках чай. Первым возвращается Былин с котелком, наполненным горячим чаем. Его давнишняя мечта наконец принимает реальные формы, – он становится постепенно денщиком. Старый денщик Чайки совсем не приспособлен к походным условиям. Былин же, примчавшись с котелком, немедленно доставляет его ротному, разыскивает старого денщика, достает мешок с продовольствием и не отходит от Чайки, пока тот не заявляет, что совершенно сыт.
Не все пьют чай. Многие сразу ложатся на землю и в тот же миг засыпают крепким сном.
Но долго спать не приходится. К вечеру нас поднимают, и мы опять движемся длинными цепями вперед. Мы топотом окликаем друг друга, теряем свою цепь, падаем, ныряя то одной, то другой ногой в глубоко взрытую землю.
В воздухе что-то шипит, и при взлете осветительной ракеты мы видим огромную площадь земли и наши неровные, разорванные цепи.
За первой ракетой взлетают другие. Поле освещено, как днем. Мы быстро ложимся. Мы попадаем под бешеный ружейный и пулеметный огонь. Слышен тонкий свист пролетающих пуль: фьють, фьють… Мы инстинктивно ложимся плашмя, стараясь врыть голову в землю…
Кто-то кричит вблизи пронзительным голосом:
– Санитара, санитара, ранили!..
И потом долго, до хрипоты, все тише и тише:
– Ах, ах, возьмите, возьмите…
Из-за шума стрельбы его уже совсем не слышно. Стрельба не стихает. Ракеты беспрерывно освещают поле. Длинный и широкий луч прожектора перескакивает с места на место и щупает каждый уголок. Я рою впереди себя землю и делаю прикрытие для головы. Стрельба и крики продолжаются.
Кто-то надрывается справа:
– Передай по цепи – отступить в свои окопы.
Я передаю влево, стараясь перекричать шум:
– Отступить в окопы!.
При вспышке ракеты я вижу ползущие назад фигуры. Все поле живет и движется.
Ползти по вспаханному полю трудно. Я забрасываю каждую минуту мешок на спину, но он упорно сползает на бок. Колени наступают на шинель, не давая двинуться. Мешает винтовка. Руки устают и слабеют…
Мы добираемся до своих окопов. Роты смешались. Слышны окрики:
– Пятнадцатая! Где пятнадцатая? Здесь какая? Какой батальон? Где перевязочный пункт?
Стрельба утихает. Только лучи прожекторов бороздят поле, и вспыхивают в разных местах ракеты.
На поле осталось много убитых и раненых. Оттуда доносятся крики.
Наконец, группами появляются санитары. Раненых проносят мимо нас, и крики их слышны пока они не скрываются в лесу, где расположен перевязочный пункт.
Я нахожу свою роту. Кроме оставшихся на поле, многие попали в другие роты. Чайка, Гончаров, Былин, Родин, Василенко – здесь. Я сажусь в окопе отдохнуть и засыпаю. Но спать не дают. Кто-то упал на меня и больно ушиб голову. Я просыпаюсь. Сразу не могу пенять, где я. Впереди черные влажные стены окопа, в нос бьет сырость и холод погреба.
И только над головой, в темно-синем бархате, мерцают золотые точки.
Я сижу в окопе и не могу оторвать глаз от темного простора неба и блеска далеких звезд…
Какой покой, какой бесконечный покой!..
Утром снова вылезаем из окопов и, как вчера, длинными цепями движемся вперед. Проходим по тем местам, где вчера ночью наступали. По всему полю нарыты крохотные прикрытия, спешно, под огнем возведенные голыми руками. Мы доходим до неприятельских окопов. Бруствер окопа замаскирован дерном, ветками и листьями; даже на близком расстоянии он сливается с зеленью поля. Взбираемся на возвышение и перескакиваем через окопы. Тихо. Никого нет.
Нас удивляют неприятельские окопы. Они укреплены досками, балками и свеженапиленными деревьями. Во многих местах навесы, глубокие ниши для патронов, ходы сообщений. А ведь останавливались немцы только на несколько часов, чтобы задержать наше преследование. И ушли-то они, видно, совсем спокойно. Ничто не брошено, не оставлено, не забыто. Только пустые консервные коробки валяются кругом.
Былин недоумевает:
– Може, тутечки нечиста сила вчера стреляла? Як вони, бисовы дити, шпарыли, а сегодня як будто никого ни було. Аж уси гильзы подобрали. Ну, и народ!
Василенко в восторге от окопов:
– Быдто хату строили, ей-бо! И крышу и ступеньки, и нужнык… Тилько окон не мае. Дюже грамотный народ, ученые, собаки!
Мы идем дальше. Неприятель, очевидно, далеко, и мы выходим опять на дорогу, растянувшись бесконечной лентой.
Мы голодны. Нас совсем не кормят. Наши собственные запасы съедены. Достать новые негде. А кухни где-то болтаются, и мы третий день не получаем горячей пищи. Что это? предательство? или беспечность делового начальства?
Позади нас огромный, богатый, нетронутый войною город. Тысячи продовольственных магазинов и складов, ненарушенный еще интендантский аппарат, штабы, пункты, управления; позади нас – по закону в тридцати верстах – обоз второго разряда, и в пяти – первого. Дороги еще не разрушены, мосты не взорваны, пути неприятелем не заняты, а кухни добраться до своих частей не могут.
На горизонте вырастают трубы с вьющимся дымом. Нас радуют и волнуют человеческие жилища. Может быть мы отдохнем и насытимся.
Входим в местечко Бяла. Маленькие, грязные домики крыты серой соломой или камышом. В окнах, вместо стекол, торчат грязные подушки и тряпки. Покосившиеся углы и стены подперты досками и, кажется, вот-вот обвалятся.
По улицам бегают босые, несмотря на холод, ребята с торчащими сзади из штанишек грязными рубашонками. Из домов выглядывают старики и женщины. Дальше, к середине местечка, дома побольше, с деревянными позеленевшими крышами, с крылечками и стеклами в окнах. Но на всем печать убожества, нищеты, нужды, тяжелые слезы непролазного горя, забитости и приниженности. На лицах женщин испуг, тревога и беспокойное ожидание непоправимого несчастья…
Солдаты разбегаются по местечку в поисках съедобного. Но лавки уже опустошены и закрыты. Бегают по домам, достают молоко, булки, масло и колбасу. Воруют кур и уток, которых жители тщетно прячут – от солдатского глаза ничто не укроется.
Былин раздобыл гуся, уверяя, что купил за восемь гривен, и немедленно зажарил его, удивляя Чайку поварским искусством. Мне он сознается, что гуся спер, когда хозяйка отказалась его продать. Но я думаю, что он и не пытался его купить…
Мы сыты сегодня и бродим по местечку, слоняясь от скуки и безделья. Жители нас боятся и загоняют в сараи и хлева птицу и поросят.
Былин поставил себе цель: украсть пару поросят и зажарить их впрок на черный день. Таких запасливых, как он, вероятно, в полку немало.
За мной весь день по пятам бродит запасный Иоганн Кайзер, самарский колонист, бритый, сухощавый и крепкий. Во рту у него вонючая обкусанная трубка; зубы у него крепкие, короткие и желтые, и говорит он низким однотонным басом.
По-русски он изъясняется ужасно, так же, как я по-немецки, и это служит основой Нашей дружбы. У него жена и трое детей. Его два брата тоже призваны. И во всех трех семьях не осталось ни одного мужчины. Уехали они все почти одновременно, в разгар полевых работ. Это его больше всего беспокоит. Работников теперь не найти, а дети маленькие. И умереть страшно только потому, что останутся маленькие дети.
Былин и другие солдаты, ворующие гусей, внушают ему отвращение. Его хозяйское сердце деревенского собственника негодует.
– Как можно, – говорит Кайзер, – ведь хозяину с трудом дается каждая копейка. А он сразу гуся украл.
– Что же делать, Иоганн, он кушать хотел.
Он получил сегодня обед из походной кухни.
– Ничего не поделаешь – здесь война.
– На войне тоже можно быть честным.
Колонист упрям. Его не переубедить. Я спрашиваю его:
– Сознайся, Иоганн, ты хотел бы, чтобы немцы победили?
– Нет, зачем… Одно добро… Я хочу, чтобы кончилась война.
– Я понимаю. Но немцы ведь – свои! А русские – чужие?
– Знаешь… Я тебе сказку скажу. Поспорили телега и сани: кто лучше. Сани говорят: я лучше, а телега говорит: нет, я лучше. Пошли они к лошади. Спрашивают: «Скажи, лошадь, кто лучше – сани или телега?» Лошадь жует сено, думает и говорит: «Знаешь, что. Оба вы – сволочи. Тебя надо таскать… и тебя надо таскать». Вот. Понял? Хорошая сказка…
– Ай, хороша сказка! Вот хороша!
Артамонов, обычно серьезный и невеселый, улыбается.
– Ну, спасибо, Кайзер, удружил! И ты, говорит, сволочь и ты сволочь… Обоих, говорит, вас таскать надо… А хорошо бы им, Кайзер, обоим по шеям надавать! А?.. На кой вы ляд нужны! Сами на себя работать будем. К чертовой матери таких хозяев – сами себе хозяева…
Вечером я лежу рядом с Кайзером поперек широкой перины, брошенной на пол. Хозяин, старик-еврей, с длинной желтовато-седой патриаршей бородой, рассказывает о внуке:
– Он учился в духовной школе, в ешиботе… Он так умен, так глубоко постиг тайны Талмуда и Раше. Он их толкует, как глубокий мудрец… В двадцать два года он знает больше, чем другие раввины на старости. Его хвалил сам виленский раввин. О нем мечтал, как о муже своей дочери, варшавский богач и хасид Давид Перельман… А теперь его взяли в солдаты и отправили в Киев, а оттуда на австрийский фронт. Но всевышний его не оставит… Он будет всегда с ним…
Старик еще что-то говорит хрипловатым голосом, но я уже слов его не слышу и блаженно засыпаю.
Нас поднимают на рассвете, и мы выходим из местечка, приютившего и накормившего нас.
Блестят стекла окон при розовом свете восхода, мелькают крыши и серые дымки из труб.
Бяла исчезает за мягким горизонтом.
Мы проходим за день мимо многих деревень, фольварков и местечек. Мы идем по пятам немцев. Куда бы мы ни пришли, нам говорят, что «они» несколько часов тому назад ушли. Везде следы их пребывания: пустые консервные коробки и картонки из-под почтовых посылок.
Я захожу с Кайзером в халупу. Мы просим продать нам яйца.
– Ниц нима, ниц. Всишки прокляты пруссаки злопали.
– Да мы заплатим, вот деньги, не бойтесь.
– Ниц нима, всишки злопали, и курки, и гнезы, и яйки…
В одной халупе, где нас с Чайкой хозяйка уверила, что у нее «ниц нима», ночью, под кроватью, на которой мы спали, разодрались спрятанные там куры, подняв бешеное кудахтанье. Хозяйка перепугалась, но Чайка только хохотал до слез.
Минуя деревню, в которой мы узнали, что немцы только что ушли, полк выходит в поле, сразу рассыпаясь в цепи.
Впереди, параллельно нашим цепям, тянется линия невысоких холмов. Мы приближаемся к ним. Нам приказывают дойти до вершины холмов и оттуда броситься в атаку, пока немцы не успели окопаться.
Мы ползем по склонам холмов.
Добравшись до края, мы поднимаемся, но сразу падаем назад, отброшенные сумасшедшим огнем пулеметов. Они стоят открыто, прямо против нас, и осыпают тучей пуль, зловеще татакая.
Мы немного отходим, чтобы укрыться от огня. Раненые, громко крича и охая, скатываются к основанию холма.
Сзади подходят новые, цепи, и мы снова начинаем ползти вверх.
Снова сплошной огонь пулеметов и ружейных залпов отбрасывает нас.
Как только нас отбрасывают, стрельба прекращается. Это создает впечатление спокойствия и уверенности неприятеля.
К нашей роте подвозят два пулемета, за одним из которых начальник команды. Он решительно выкатывает их на возвышение и открывает огонь. Мы лежим у края, беспорядочно стреляя. Немцы отвечают. Завязывается перестрелка.
Внезапно над немецкими цепями разрывается шрапнель. За ней вторая.
Наша батарея, установленная позади нас в деревне, нащупав немцев и пристрелявшись, открывает ураганный огонь… Мы видим, как беспрерывно разрывается шрапнель, как немцы под каждым белым дымком рассыпаются и убегают.
Раздаются крики офицеров:
– Вперед, в атаку! Ура!
Впереди нашей роты появляется штабс-капитан Воздвиженский. В левой руке его револьвер, в правой – обнаженная шашка. Он кричит:
– За мной, за мной! Ура!
Мы поднимаемся и бежим. Немецкий огонь заметно ослабевает. Мы скатываемся с холмов разорванными цепями, местами сбиваясь в кучу, местами оголяя большие пространства. Все поле усеяно бегущими фигурами… Мы держим ружья наперевес… По всему полю несется:
– А-а-а-а…
Немцы убегают. Мы уже занимаем их позиции, но боимся бежать дальше, опасаясь собственного артиллерийского огня. Однако огонь хорошо корректируется и удачно бьет по убегающим.
Мы пробегаем мимо раненых немцев… Их много… Слышен крик лежащих один возле другого раненых… Но мы бежим, не останавливаясь. Разрывы уже далеко впереди нас.
По всему полю разбросаны оставленные пулеметы, ружья, шашки, каски и патроны… И снова тела убитых и тяжело раненых.
Мы приближаемся к толпе немцев, заметно отставших от своих. Наши, на ходу, открывают по ним огонь. Неожиданно они останавливаются и, бросая винтовки, поднимают руки вверх. Мы подбегаем к ним, окружаем, и несколько наших отводят их в тыл.
Впереди виден лес. Туда укрываются отступившие. Над лесом разрывается наша шрапнель. Забежавшие вперед ведут большую толпу пленных.
Мы устали. Мы больше не можем бежать. Понемногу останавливаемся. Потом идем обратно. Появляются санитары, они подбирают раненых пленных.
Мимо нас пробегают вперед резервные цепи.
Кто-то близко хрипит слабеющим голосом. Я вижу бородатое лицо, землистое и бледное, и покрытые пылью стекла очков; Немец, широко раскрывая рот, с трудом глотает воздух и напряженным пронзительным топотом хрипит:
– Kamerad… Hilfe… Hilfe… Kamerad… Jch sterbe…
Я снимаю с него очки. Голубые глаза мутны, как у пьяного.
Я даю ему воды из фляжки. Он жадно глотает, захлебывается и издает горлом странные звуки. Я расстегиваю его куртку, разодранную на животе. Все белье в крови. В животе у него небольшая рана, осколок, очевидно, внутри. Хочу бежать за санитарами, но он молит не оставлять его. Я беру его бинт и закрываю рану. Кричу санитарам, они приходят и уносят его. На носилках он теряет сознание.
Немного дальше стонет немец с раздробленной и окровавленной кистью руки. Из колена течет кровь и превращается в липкую темно-коричневую грязь…
Убитые лежат в разных позах: навзничь, ничком, на боку, скорчившись, разбросав руки, без рук, в грязи и крови.
В том месте, где мы раньше видели большую группу раненых, лежит несколько убитых. У одного из них оторвана левая нога выше колена; край шинели раскрывает искромсанную ногу, превращенную в кусок окровавленного мяса… Раненый пытался куда-то ползти и оставил длинную полосу темной крови. Лицо его совершенно желтое, и губы синие.








