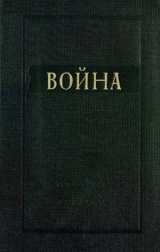
Текст книги "Война"
Автор книги: Михаил Зощенко
Соавторы: Лев Славин,Николай Тихонов,Виктор Финк,Михаил Слонимский,Юрий Вебер,Семен Розенфельд,Николай Брыкин,Кирилл Левин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 52 страниц)
Штабные автомобили стояли у каменного двухэтажного дома, где помещался штаб корпуса. Корпусный командир генерал Благовещенский сидел в маленькой комнате и, пальцами расчесывая окладистую бороду, изучал недавно вышедшую книгу Черемисова «Действия корпуса в полевой войне». Книга с трудом давалась ему.
Оперативные распоряжения были всегда тяжелым и непонятным ему делом, но зато он хорошо усвоил из книги те места, где говорилось о месте командира корпуса на ночлеге и об указаниях, даваемых командиром для расположения частей на ночлег. Черемисов рекомендовал корпусному штабу в целях безопасности ночевать в районе расположения одной из дивизий корпуса, и Благовещенский был очень ему благодарен за мудрый совет. В горячие моменты он под видом корпусного резерва держал при себе целый полк и не отпускал его, боясь остаться без достаточной охраны. Это был тихий по виду генерал, с седой бородой и мышиными глазками, внимательно смотревшими из-под мохнатых бровей. Всю свою жизнь он провел в канцеляриях и был свято убежден в том, что ни одно распоряжение не достигнет своей цели, если оно будет отправлено без исходящего номера. Он был автором руководства для адъютантов – о правилах выдачи литеров для бесплатного проезда воинских чинов по железным дорогам. Руководством этим генерал очень гордился, и сорок экземпляров его с собственными надписями разослал виднейшим генералам, начиная с военного министра и начальника главного штаба.
Сейчас корпус был в трудном положении. Одна дивизия, атакованная с фронта и флангов, с большими потерями отступила на десять верст. По плану в этом бою должен был участвовать весь корпус. Вторая дивизия шла на соединение с первой, но на марше был получен приказ корпусного командира вернуться в исходное положение. Карцев видел, с каким неудовольствием возвращались войска по уже раз пройденной дороге.
– Мы идем туда, мы идем сюда, – меланхолически говорил Черницкий, – а кто знает, зачем нам надо два раза идти, чтобы очутиться на том самом месте, откуда мы вышли? Здесь скрыта самая высокая стратегия, которую простой солдат не может понять.
Поздно вечером пришли в деревню, откуда выступили утром. Корпусный командир вышел из своего домика. Он хотел поругать отступившую дивизию, и уставшие от двойного бессмысленного перехода солдаты слышали, как генерал визгливо кричал на выстроившиеся в поле батальоны соседней дивизии, видели, как потом с каменными лицами проходили мимо них запыленные, ободранные их товарищи. Васильев нервничал. Невнятно ругаясь, он ходил по дороге перед своей ротой, и, когда подошел Дорн, капитан заговорил с ним шепотом, дергая соломенные усики:
– Что же, долго ли будет продолжаться это? В чем, наконец, дело? Знакомы вы с положением корпуса? Почему мы вернулись сюда?
Дорн ничего не ответил ему. Сняв очки, он протирал их платком и горбился, как очень уставший человек. Мимо них прошли капитаны Федорченко и Любимов. Федорченко весело помахал рукой и крикнул:
– Благодать-то какая, вернулись в насиженное гнездышко. А я еще утром говорил Алексею Иванычу (он кивнул на Любимова), что жалко деревеньку покидать. Квартиры тут хороши. Ан бог и помог вернуться. Только бы до утра не потревожили. Милости прошу с нами чайку попить.
Но старым капитанам не пришлось отдохнуть, В полночь, когда солдаты спали прямо на земле, с головами на походных мешках, с руками, засунутыми в рукава шинелей, офицеры и взводные стали будить их. Ошалевшие, плохо соображающие люди подымались, пошатываясь, перебрасывали через головы лямки мешков, брали винтовки, покорно строились. Апатия и усталость были так велики, что ни о чем не расспрашивали. Они не знали о том, что корпусный командир, встревоженный донесением о наступающем неприятеле, решил уходить. Корпус, отступая, обнажал правый фланг армии. Соседний корпус не был извещен о том, что рядом с ним оголяется целый участок фронта.
И даже командующий армией только на следующий день узнал об отступлении своего правого фланга.
Сталкиваясь друг с другом, налезая на передние ряды или растягиваясь, по ночной дороге шли колонны корпуса. Часть войск двигалась проселками. В третий раз в течение одних суток корпус выполнял противоречивые приказания своего командира. Не только солдаты, но и офицеры не представляли себе, в каком положении они находятся: отступают ли они, или идут на сближение с противником. Смешались роты. Слышалось тяжелое дыхание. Многие спали на ходу. В спину Карцева равномерно тыкалась чья-то голова, и, оглядываясь, он видел черную фигуру, все время валившуюся вперед, но идущую, идущую. Странное ощущение овладело им. В мягком ватном мраке несли его без всякого участия с его стороны. Ни рук, ни ног у него не было. Плывет, покачиваясь, множество круглых голов. Над головами почти не видны тонкие полоски штыков. Под синим полушарием августовского неба, под россыпью звезд, мимо лесов, мимо чужих строений плывет он, и голова его тихо качается на поверхности полевого моря, широко и ровно разлившегося кругом. Восходит луна. Свет ее тревожен, он подобен раскаленной меди, он ширится, захватывает все большее пространство. Потом свет возникает и с другой стороны неба. Там восходит вторая медная луна, и в ее недобром свете, задыхаясь, гибнут звезды.
– Пожар, пожар, – шепчут в рядах, и солдаты смотрят на далекие зарева.
Они растут, ночь наливается темно-багровой мутью, уже видна дорога, она ведет к чугунному массиву леса. Где горит? Кто поджег? С какой стороны неприятель? Солдаты расспрашивают друг друга, расспрашивают офицеров. Зарева сдвигаются, окружают дорогу и густое месиво людей. Солдатам кажется, что пожары выдают их присутствие. Карцев видит сухое лицо Васильева, его внимательные, в напряжении сощуренные глаза и тихо спрашивает:
– Германцы, должно быть, подожгли, ваше высокоблагородие?
Капитан молча кивает головой и смотрит на зарево с другой стороны дороги, и Карцев, глядя на него, понимает.
Васильева тревожит, что пожары с двух сторон, – это похоже на планомерный поджог со зловещей целью.
Лес впереди так страшен, что колонна втягивается в его грозную темноту в полном смятении. Офицеры пытаются подравнять ряды, подбадривают солдат. Но роты так перепутаны, что много времени проходит, пока получается относительный порядок. Кто-то толкает Карцева, и Черницкий показывает ему головой: иди за мной. В темноте это легко сделать, нужно только замедлить шаг, и вот они оба идут рядом, вне своей роты.
– Один человек хочет тебя видеть, – смешливо говорит Черницкий. – Что, не узнаешь?
Карцев видит в темноте высокую фигуру и, скорее по догадке, чем узнавая человека, радостно спрашивает:
– Мазурин?
Широкая сильная рука сжимает его руку, и он слышит низкий, грудной смех Мазурина.
– Еще не убили? – шутливо говорит Мазурин. – Крепко же ты в землю врос – никак тебя не выдернешь.
Он спрашивает об обыденных делах, но голос у него такой родной, теплый, он с таким вниманием слушает ответы, что все его слова приобретают особое значение. По-прежнему он ровен и спокоен. По-прежнему исходит от него обаяние сильного, крепко знающего, что ему надо делать, человека. Он слушает, потом рассказывает о себе, о последних боях, о товарищах по роте.
– Орлинского не видел? – И, задавая вопрос, Карцев вспоминает, что уже несколько дней не слыхал об Орлинском.
– Вчера говорил с ним, – отвечает Мазурин, – он был легко ранен, но остался в строю. Даже в полковой околоток на перевязку не пошел.
– Это его штучки, – с пренебрежением говорит Черницкий. – Орлинский хочет доказать, что евреи не трусы. Кому он, дурак, докажет? Сволочь все равно не поверит, хотя возьми он самого Вильгельма в плен, а настоящим людям нечего доказывать. Они не думают о таких пустяках. Жалко, что Орлинский не спас Вернера. А то некому звать его жидовской мордой.
Хотя Вернер считался павшим в бою, весь полк знал, что командир третьей роты убит своими солдатами. Знали, что негласно велось следствие и поручик Журавлев с фельдфебелем следят за солдатами и подслушивают их разговоры. Из сорока кадровых солдат подозреваются семь-восемь человек, и среди них Орлинский. Фельдфебель прямо указывал, что их высокоблагородие – покойник – так сильно донимал жидка, что не иначе, как тот, ожесточившись, застрелил его.
– Плохо его дело, – задумчиво сказал Мазурин. – Увезут в тыл, забьют, замучают, а потом расстреляют. Пускай Орлинский в первом же бою сдается в плен.
– Что ты говоришь? – резко крикнул Карцев. – Как же это такое – сдаться в плен – разве можно? Ты ведь воюешь, не сдаешься.
– У меня и тут дела найдутся, – сердясь ответил Мазурин и, положив руку на плечо Карцева, тихо спросил его: – А ты думаешь, что я за царя воюю?
Карцев, пересиливая себя (не хотелось этого говорить), сказал:
– Видел я, как ты с ротой шел в атаку. Стрелял, кричал «ура». Значит, воюешь.
– Значит, воюю, – согласился Мазурин. – Что же тут поделаешь? Хочу я, не хочу, но я солдат, и некуда мне от этого уйти. Когда другие стреляют, стреляю и я. Я знаю, – продолжал он, подергиванием плеча поправляя за спиной винтовку, – что мне, тебе, всем им, – он показал рукой на солдатские колонны, – да всем им не за что воевать, но они воюют потому, что у них нет своей воли. И я здесь затем, чтобы помочь нам всем эту волю добыть.
– Помочь? – с горечью спросил Карцев. – Как же ты им можешь помочь? За одно острое слово тебя расстреляют. Да разве такую машину сковырнешь?
– Как, сам пока не знаю, – качая головой, ответил Мазурин. – Думаю, что на войне все делается скорее. На своей крови учится солдат. Ведь не один я так думаю. Я, может быть, только яснее других понимаю положение. Да, я стреляю, я воюю. Но если хоть чуточку повеет новым духом, если почую я, как солдат становится другим оттого, что доела его война, тогда я буду на своем месте, буду в открытую играть. Расскажу я тогда, каким путем идти надо, кровью своей напишу, что солдатская правда сходится с рабочей. Вот для чего я на фронте воюю. За себя, за тебя, за всех их.
Он говорил, а Карцев качал головой и с недоумением разглядывал его.
– Не идут с родины письма, – пожаловался Черницкий. – Действующая армия отрезана от живых людей. Там наверно знают о нас столько же, сколько и мы о них.
Они шли по тропинке, тянувшейся рядом с дорогой.
Здесь было мало людей, так как напуганные заревом и неудачными боями солдаты тесно шагали по дороге. Глухо лязгали штыки, мерный тяжелый топот тысяч сапог был похож на шум далекого прибоя.
– Спать хочется, – устало зевая, пробормотал Черницкий. – Что, если бы, ребята, завалиться нам всем троим под деревьями? Разыграем, кому посредине лечь, в теплоту. Утром догоним полк. Идет?
– Лучше пойдем, – предложил Карцев. – Тут опасно отставать, близко германские разъезды. Да и жители плохо относятся к русским.
Они пошли дальше. Пушечный выстрел донесся с запада – оттуда, где горело. Зарево усилилось. Как рана, багровело оно на темной, шелковистой коже неба. Сквозь густую сеть деревьев на дорогу и на солдат ложились неровные тусклые блики. Лес казался еще темнее. Он уходил к оврагу, к пожару, и вдали, вероятно, на самой лесной опушке самые зоркие и внимательные видели узкие золотые просеки огня и пухлые, нарастающие клубы дыма, похожие на горящий хлопок. Сзади в колонне что-то началось. Оттуда доносились крики и сначала редкие, потом все учащающиеся выстрелы.
– Немцы, кавалерия! – послышались испуганные голоса, и вдруг темная, грохочущая масса, опрокидывая все на своем пути, вынеслась из-за поворота.
Одни бросились в лес, другие, обезумев, стреляли, сами не зная куда.
– Стой, стой! – закричал кто-то таким мощным голосом, что сотни голов повернулись к нему. – Обоз, наш обоз! Что вы, черти, стреляете?..
Приказали остановиться. На краю дороги невысокий офицер кричал истерически повизгивающим голосом:
– Говорили же, сто раз говорили, что не нужно без самой крайней необходимости назначать ночные марши. Не умеем мы их проводить.
– Прошу не нервничать, полковник, – ответил ему резкий картавящий голос. – Что за бабья распущенность на войне? Вот за нее нас и колотят. Немцы идут, как каменные, а у наших кисель вместо нервов.
И картавящий голос закончил уже мягче, точно поняв, что обвиняет он не только полковника, но и самого себя:
– Ей-богу, не узнаю славное русское офицерство. Надо же нам подтянуться, наконец, господа.
– Подтянешься с таким корпусным, – с горечью ответил первый голос. – Скажите мне, какой маневр мы сейчас выполняем? Пытаемся ли мы восстановить положение или просто удираем? Мы дрались вчера весь день. А где в это время была вторая дивизия корпуса? Почему она не поддержала нас? Хотите, я вам скажу почему? Потому что его высокопревосходительство командир корпуса не имеет никакого представления, что такое современный бой.
Вспыхнула спичка и на секунду осветила небритый, мускулистый подбородок и вытянутые губы, зажавшие папиросу.
– Я удрал из штаба корпуса, – продолжал первый голос, – так как не мог дальше всего этого выносить. Назначили помощником командира полка, пусть хоть батальон дали, я все равно не остался бы там. Не могу я, полковник генерального штаба, быть свидетелем того, как корпус ведет бой на основах тактики прошлого века. Командир корпуса приказал вести наступление в густых строях, с тем, чтобы потом по-драгомировски броситься в штыки. Все резервы он велел нагромоздить в тылу и посылал их в бой пакетами. Понимаете, какой ужас! Оказывается, он не знаком даже с началами тактики, которые были опубликованы в наших уставах еще в девятьсот десятом году. И такому человеку вверяют корпус – больше сорока тысяч человек, больше ста орудий!
Несколько секунд было тихо, только по разгорающемуся огоньку папиросы можно было видеть, как жадно затягивался полковник. Картавящий голос неуверенно спросил:
– Почему же вы ничего не сделали, не доложили куда следует, что нельзя терпеть такого корпусного?
Папироса, прочертив в воздухе огненную дугу, упала на землю. Полковник ответил с выражением явной усталости:
– Докладывал. Докладывал лично начальнику штаба армии генералу Постовскому. Мне ответили, что тогда придется сменить девяносто процентов генералов, и кроме того в данном случае есть еще одно обстоятельство, так сказать, частного характера. Дело в том, что корпусный командир был назначен самим государем… Перед войной он был за несоответствие занимаемой должности представлен главным штабом к увольнению. Говорят, что при помощи того самого старца… Распутина он добился аудиенции у государя и был оставлен на службе. Вот и все.
Ветер зашелестел в лесу. Небо светлело над лесом – оно становилось желтовато-бурым, необычным, и невольно возникала мысль, что таким оно бывает только во время стихийных бедствий. Солдаты стояли беспорядочной толпой, опираясь на винтовки. Многие ложились тут же на дороге и засыпали. Офицеры, разговаривавшие на краю дороги, медленно шли мимо солдат. Один из них сказал:
– Теперь можно не сомневаться. Мы отступаем. Что будет с армией?
Другой ответил почти спокойно:
– Знаете, что мне сказал командир корпуса, когда я несколько дней тому назад докладывал ему, что наше отступление ставит под угрозу всю армию? Он сказал, что ничего не знает об общем положении на фронте и отвечает только за свой корпус.
Они прошли вдоль колонны и скрылись в темноте. Начальник корпусного штаба в эту минуту в третий раз спрашивал у дежурного офицера, установлена ли связь со штабом армии, и дежурный в третий раз отвечал, вытянувшись и с выражением отчаяния на молодом энергичном лице, что никак нет, связь не установлена.
Начальник штаба постоял, барабаня пальцами по маленькому стеклу окна деревенской избы, где в эту ночь остановился штаб. Последние радио, полученные из штаба армии после неумелого их расшифрования, оказались настолько бессмысленными, что из них нельзя было ничего понять. Оказалось, что такие же случаи были в других корпусах, и теперь по неофициальному разрешению командующего армией радио посылались в незашифрованном виде. Но в последний день не приходили и незашифрованные радио. Может быть их получению мешала какая-то мощная станция. Может быть приказы командующего армией получались германцами еще раньше, чем русскими. Начальник штаба знал, что это вполне возможно.
8В эти дни германская армия представляла собой нечто вроде изогнутого коромысла, на концах которого были привешены большие гири. Линия коромысла была тонкая и слабая линия германского фронта, противостоящего русским, а гири – мощные ударные группы, нависшие над русскими флангами и сбивавшие их тяжелыми ударами.
В то время, когда корпус, в котором служил Карцев, отступал на правом фланге армии, на левом фланге происходили еще более трагические события. Первый корпус был атакован германцами.
Атаки германцев были отбиты. Командиры двух русских полков, находившихся в нескольких верстах от места боя, по своей инициативе двинулись на выстрелы и, атаковав не ожидавших нападения германцев, разбили их и обратили в бегство. Охваченные паникой, начали отступать и другие германские части, поспешно двинулся назад обоз, и положение русских, имевших крупные резервы, стало на короткое время исключительно благоприятным. Но успех не был использован. Генерал Артамонов, командир первого корпуса, не проявил никакой инициативы. Он держался пассивно, хотя в его распоряжении были силы, превосходящие силы противника. Ключ к русской позиции был у Уздау. Взятие этого городка германцами влекло за собой неисчислимые последствия, предрешало поражение русских. До самого полудня русские дрались так упорно, что сумели отбросить наседавшего противника и несколько раз бросались в штыки. Артамонов со своим штабом находился за несколько верст от места сражения. Он был хорошо известен в мирное время своим солдатам, прозвавшим его «иконным генералом». При посещении казарм, небольшой, плотный, с расчесанными усами, он тихо шел по помещению, выставив грудь, от обилия орденов напоминавшую иконостас, и заглядывал в углы. Его интересовало, достаточно ли икон имеется в ротах и хорошо ли знают солдаты молитвы. Строевая подготовка не касалась его. За все годы он не задал солдатам ни одного вопроса из полевого устава, и выслуживавшиеся командиры полков знали, что можно быть спокойным, имея в казармах двойное против положенного по штатам количество икон.
Канонада усилилась, командиру корпуса доложили, что надо послать гвардейские части. Генерал, закрывая руками уши и болезненно морщась, ответил, что нельзя трогать гвардию и лучше отступить. Уздау был оставлен русскими весь в пламени. Войска отступали неохотно: они были разгорячены удачным для них боем и ждали подкреплений, чтобы атаковать немцев. Первый корпус откололся от армии – второй ее фланг был сбит. Главнокомандующий за день до этого поздравлял Самсонова с победой под Орлау, которая, как и все выигранные в этой операции бои, ничего не дала русским. А Самсонов хотя и беспокоился за свои фланги, но не считал еще положение опасным. В тот день, когда Артамонов своим отступлением открывал германцам путь на Нейдебург, где был стратегический центр армии, Самсонов прибыл в этот город со всем своим штабом. В шесть часов вечера в прекрасном каменном доме, принадлежавшем бургомистру, подавали парадный обед. Рядом с Самсоновым, полным, красивым стариком, с пышными белыми усами, сидел генерал Нокс, представитель английской армии. Он разговаривал с Новосельским о последних операциях. Нокс, хорошо знакомый с планом русского командования, считал, что дела идут хорошо. Он пил коньяк из высокой хрустальной рюмки и, весело глядя на Новосельского помутневшими серыми глазами, объяснял ему свой взгляд на военные события.
– Немцы идут на Париж, – говорил он. – Пускай их идут. Они думают, что там, как в тысяча восемьсот семьдесят первом году, лежит решение войны. Они скинули со счетов такую мелочь, как Англия. Но поверьте, дорогой капитан, что мы их достанем, где бы они ни были – в Париже или Берлине. Германии незачем было лезть в море. Море – это не германская стихия. И мы перережем все кровеносные трубы, которые тянутся через море к Германии. Я думаю, что ваши храбрые войска сломают им ноги, прежде чем они смогут предпринять что-нибудь серьезное против Англии, не правда ли?
За столом становилось все шумнее.
– Пьем за героев Орлау, – громко сказал Самсонов, подымая бокал, и начальник штаба Постовский, улыбаясь, показывал телеграмму главнокомандующего с поздравлением по случаю победы.
– Во всяком случае Мы идем вперед, – говорил он, – мы уже отхватили порядочный кусок немецкой земли и отхватим еще больше. Завтра мы будем в Алленштейне, а оттуда прямой путь на Берлин.
– Из Гумбинена – дальше, – сказал кто-то.
Этот намек на медленное продвижение первой армии после победы под Гумбиненом офицеры встретили смехом.
– Вперед, вперед, вперед! – вполголоса запел полный, очень красивый офицер в форме генерального штаба, дирижируя себе стаканом, и вдруг замолчал, с недоумением поглядывая на дверь.
Дверь полуоткрылась, и армейский, в плохо пригнанной гимнастерке, офицер смущенно выглядывал из передней, видно, не решаясь войти. Постовский заметил его и махнул ему рукой. Сутулясь под взглядами блестящих штабных, вбирая во внутрь носки запыленных сапог, офицер подошел к Постовскому и подал ему сероватый конверт. Постовский вскрыл его, прочел, и все видели, как дрогнули его руки. Он, привстав, протянул Самсонову развернутый листок и тихо сказал ему несколько слов. Самсонов, краснея полной, не по-стариковски гладкой шеей, опустил листок и беспомощно поглядел на своего начальника штаба. Несмотря на то, что он много пил, важность полученного сообщения ошеломила его. Это была телеграмма генерала Артамонова, из которой, несмотря на ее путанность, можно было понять, что Уздау взят немцами и левый фланг через Сольдау отступает на юг. Командующий тяжело встал (за ним вскочили все присутствующие), с усилием скрывая волнение, сказал: «Продолжайте, господа, прошу вас, продолжайте», – и вышел вместе с Постовским. Они долго сидели перед картой, висевшей на стене. Цепь красных флажков, изображавшая линию фронта, тянулась через карту. В центре цепь сильно выдавалась вперед, на флангах же, особенно на левом, она круто загибалась назад. Но кое-где флажки отсутствовали – штаб армии не имел сведений о точном нахождении некоторых частей.
– Как же, скажите мне, как же могло так получиться? – спрашивал Самсонов. – Ведь мы заходим левым плечом, мы отбрасываем противника на север, на Ренненкампфа, а наш левый фланг оказался позади центра. Выходит, что мы заходим правым флангом, что мы совершенно не так двигаемся и маневрируем, как это нужно.
Постовский молчал. Он лучше Самсонова понимал, что армия фактически не управлялась.
В последних содроганиях все еще шли вперед центральные корпуса, ускоряя свою гибель. Прикованный к пустому Кенигсбергу, Ренненкампф пропускал последние сроки совместных действий с армией Самсонова. А за два дня до гибели второй армии главнокомандующий фронтом генерал Жилинский телеграфировал Самсонову:
«Доблестные части вверенной вам армии с честью выполнили трудную задачу, выпавшую на их долю в боях 25, 26 и 27 августа. Приказал генералу Ренненкампфу, который дошел до Гердуан, войти в связь с вашей конницей. Надеюсь, что в пятницу 29 августа совокупными усилиями трех ваших корпусов вы отбросите противника».
«Доблестные» части болтались тем временем в виде бесформенной, ничем не связанной массы. Самсонов заперся у себя в комнате и ходил от окна к маленькому письменному столику красного дерева, на котором стоял в овальной рамке портрет молодой красивой женщины. Подходя к столику, он внимательно каждый раз глядел на портрет, кивал головой и продолжал ходить. Несколько раз к нему стучали, и он отвечал коротким мычанием: «Нельзя».
– Неужели они не могут понять, что надо же человеку, на которого обрушилась такая тяжесть, хоть десять минут побыть одному, не чувствовать на себе этих почтительных, отчаянных и сочувствующих глаз, взглядов, которые ранят и жгут.
Он походил на раненого зверя, который спешит спрятаться в берлогу, в темноту, чтобы там издохнуть одному, без свидетелей. Крадучись, генерал подошел к кровати и, оглянувшись на окно, на запертую дверь, опустился на колени и сунул голову под подушку. В мягкой теплой тьме успокоенно закрыл глаза, так побыл минуту и решительно встал. Сунул в карман браунинг, провел рукою по усам и уже у самой двери остановился, чувствуя, как трудно выйти отсюда под взглядами людей. Беспомощно оглянулся и, быстро подойдя к столику, вынул из рамки женский портрет, погладил молодое, ласково улыбавшееся ему лицо, спрятал портрет в бумажник и бодро вышел. Через несколько минут он уже мчался в автомобиле на север, к Надрау, туда, где дрались центральные корпуса его армии. Перед самым отъездом он продиктовал главнокомандующему следующую телеграмму:
«Первый корпус, сильно расстроенный, вчера вечером по приказанию генерала Артамонова отступил к Иллову, оставив арьергард впереди Сольдау. Сейчас переезжаю в штаб пятнадцатого корпуса в Надрау для руководства наступающими корпусами. Аппарат Юза снимаю… Временно буду без связи с вами».
«Драться, драться, – думал он, смотря, как несется назад дорога и пробегают рядами деревья по краям дороги. – Драться как простой солдат. А связи с фронтом не надо. Не могу сейчас. Не могу».








