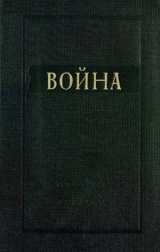
Текст книги "Война"
Автор книги: Михаил Зощенко
Соавторы: Лев Славин,Николай Тихонов,Виктор Финк,Михаил Слонимский,Юрий Вебер,Семен Розенфельд,Николай Брыкин,Кирилл Левин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 52 страниц)
Когда Алида проснулась, первое, что бросилось ей в глаза, была ракета, желтая ракета для тенниса, висевшая на стене перед ней, схваченная тисками. Красноватые нити жил вспыхивали на солнце. Было поздно. В саду пели птицы. Горячий воздух чуть колыхал занавеску.
В ее глазах еще стояли пейзажи Померании, хотя прошел уже месяц, как она покинула ее. По ночам ее преследовали серые дюны, с развевающимися вершинами сосен, и огромные серые волны, бежавшие на широкие, унылые отмели. Над волнами иногда проносились яхты. Вдали висел дым пароходов. И если смотреть сквозь ветви сосны в серую слюду волны, то в ней разбегалось лицо. И это лицо никак не могло собраться в единое целое, всегда отсутствовала какая-нибудь нужная деталь. И это лицо – было лицом Эрны Астена. Два моряка из яхт-клуба были по-разному похожи на него. У одного была походка, у другого – глаза и подбородок, а может, это только казалось.
Алида села на кровати, рассматривая ракету. Сон оставил ее голову и освободил глаза. «Жила-была девушка, – сказала она, – девушка портила краски и заодно жизнь близким людям. Она не умела веселиться по-настоящему, и ей не хватало характера. И так шло время, и никто не жалел девушку по-настоящему… Однако, уже поздно», – сказала она.
Летний день жил за спиной этого загородного домика, куда она так счастливо убежала от городской паники. Какая безумная паника в городе! Неужели они все-таки будут воевать? Алида закрыла снова глаза. Она увидела вечернюю теннисную площадку, белые, мягкие, упругие мячи, летящие вверх и вниз, сухого рефери на белой лесенке. Мячи летели все быстрее, люди кричали со скамеек, она отбивала мячи, не уставая бегать между меловых квадратов, перед неподвижной сеткой. Потом подошел профессор Фабер и сказал своим веселым голосом, от которого всегда хочется съежиться:
– К вам очень пойдет костюм сестры милосердия, да, да, – это сказал он, и белые туфли его блистали, как меловая бумага.
Дядя уехал в Берлин и уже неделю не возвращался. Профессор Бурхардт пишет из Италии жене, что изучает норманские замки в Сицилии и что ему теперь ясно, что влечение германцев на юг всегда было исторической необходимостью.
Эрна Астен – почему сквозь четкую решетку ракетки она не видит его лица? Только три коротких письма за все время. Нет, она не поехала в горы. Он в горах один. Он один наедине со своими ледниками, скалами, снегами, горцами, и он пишет, что он несчастлив. Конечно, он приедет.
Она идет мыться. Дача совершенно пустынна. Проходя, она распахивает окно в столовой. Перед окном на ветке сидит лазоревка. Сад совершенно пуст. Садовник копается где-нибудь на грядах. Старуха ушла на рынок. Бека оставили в городе. Он нездоров. К нему вызывали врача. Неужели они все-таки будут сражаться? Люди рвали газеты на улице друг у друга. Газеты заполнили все. Она садится у окна, пьет молоко и ест бутерброды по-гамбургски. Ее научили в яхт-клубе: ломтик белой булки, ломтик шведского хлеба, по середине масло и сыр.
Кто-то хлопнул калиткой. Она слышит поспешные шаги по хрустящему гравию. Бешеный человек срывает дверь на балконе, так что целую вечность стоит грохот. В серой померанской волне вырастает лицо. Алида залила руки молоком. Она бежит навстречу, и в комнате, пустой и залитой летним светом комнате, стоит человек. Он весь серый, он зеленовато-сер с ног до головы, как будто он стоит в волне дыма. Почему у него зеленая каска на голове? Так это же солдат. Что случилось, если солдат ворвался, как ураган, в дом и никто не знает, что будет дальше. Она смотрит в это лицо, на котором не хватает детали. Каска падает на стул, гремя, как маскарадная ненужная чепуха. Это Эрна, но у него нет волос на голове, он наголо обрит.
– Ракетка, – говорит она, сама не зная почему: – эти партии в теннис…
– Мы начали мировую партию, – говорит Эрна. – Я думал, что я тебя не найду, никогда не найду, что я умру на дороге. Мне дали отпуск на четыре часа, а уже прошло… Мне все равно, сколько прошло. Кажется, прошло три дня, пока я тебя нашел…
И тогда они больше не находят слов. Они их и не ищут. Она бросает руки ему на плечи, и ее волосы прижимаются к незнакомой одежде, и в грудь ее врезается пуговица, толстая пуговица, огромная пуговица с золотым орлом, обшитая толстым, зеленым, проклятым сукном.
Часть втораяШтарке никогда, даже в детстве, не любил леса, кроме того, он ненавидел деревянные постройки еще за то, что они сгорали при пожаре очень быстро, и все его знания и усилия старого борца с огнем были напрасны. Правда, лес, в котором он сейчас находился, мало походил на обыкновенный лес.
Прежде всего, деревья не имели верхушек. Верхушки лежали на земле. Расщепленные гранатами стволы и разбитые ветви были, особенно на закате, печальны так, что при взгляде на них сжималось сердце. Они пострадали в самом деле ни за что. Местами огромные просеки образовались на месте, где плясали несколько часов подряд снаряды тяжелой артиллерии. Часть леса пошла на одежду окопов и на блиндажи. Кусты были перепутаны проволокой. Ни единая птица не пела, и не кричал ни один зверь.
Несколько тысяч людей притаились в лесу ниже поверхности земли, иные так и не подымались из своих нор. Вместо них на родину приходила узкая бумажка с кратким извещением: «На поле чести», но это было не поле, это был все же лес.
И в этом лесу стоял Штарке наедине со своей мировой идеей. Она была шире леса и выше самого высокого гренадера. Она наполняла душу Штарке особым пламенем, когда с наблюдательного пункта он смотрел в глубину леса и ждал той минуты, когда он, Штарке, станет народным героем. Колумб, на борту своего добродушного корыта, показался бы наряду с ним простоватым мужичком, который должен был обмануть голых дикарей, тогда как перед Штарке, на расстоянии пятидесяти метров, скрывались вооруженные с ног до головы враги кайзера, и он сделает так, что они побегут, как стадо, забыв все и не рискуя сопротивляться. Америка Штарке – это путь в Париж, это конец войны, сожженной дотла. И войну сожжет он, Штарке, и никто другой.
Не так сильно ему верили в разных штабах, где сидели привыкшие ко многим головоломкам люди. Разве их чем-нибудь удивишь? А потом было столько неудачных изобретателей. Единственное оружие – честные гранаты, тысячи гранат, миллионы гранат, вот настоящие плуги, взрывающие поля войны. Нет, ему не верили до конца.
Штарке выпрямился. В темных квадратах леса сверкнули косые лучи, сошлись и снова сверкнули отдельно. Это вернулись разведчики.
В тесных впадинах перед бруствером у проволоки неслышно возились люди. Они старательно очищали узкое пространство от обломков, от груды сухих ветвей, от камней. Они сами не знали, зачем это нужно. Кроме того, их могли застрелить каждую минуту. Они привыкли за долгие месяцы войны к скотскому образу жизни – ползанью на четвереньках, лежанию часами на животе; они, как крысы, рыли землю; как собаки, прятали в нее свои припасы; как быки, бежали с красными глазами вперед, чтобы поднять на штыки все, что будет встречаться. Отупевшие от постоянной, грязной, тяжелой работы, от страха, не допускавшего других мыслей, они ползали сейчас между бруствером и проволокой и, стараясь не шуметь, работали.
– Помешает ветер, – сказал Штарке.
– Последняя сводка: сила пять метров. Это пустяки, – отвечал наблюдатель.
– Чтобы ничего не было перед бруствером, – сказал Штарке.
– Там осталось только двое убитых на проволоке, но это не помешает.
– Посмотрим ступеньки, – сказал Штарке, – никогда нельзя быть спокойным, пока не проверишь всего.
Он поймал себя на том, что волнуется больше, чем ему полагается. Они прошли по окопу и маленькими электрическими фонарями нащупали ступеньки. Ступеньки были вырезаны тщательно и плотно. По этим ступенькам должны были его огнеметчики найти дорогу к славе.
– Поправьте эту лесенку, здесь можно поскользнуться, – сказал он, и сейчас же саперы осторожно, напирая на лопаты, начали сглаживать неровности. Они обрезали торчавшие корни тесаками.
Несколько человек спрыгнули в окоп. Земля сыпалась с их грязных плеч. Они только что, ползая между проволок, очистили проходы. Шинели их, замызганные и скоробившиеся, сейчас, еще порванные о собственную проволоку, представляли целую многострадальную повесть.
Штарке не обратил на них никакого внимания. Люди в его представлении всегда были слишком мягким воском в опытных руках государства. И воску этого было много, во всяком случае достаточно.
Тут он подошел к аппаратам. Закрашенные в защитный цвет, стояли детища его сердца и ума. Он погладил их. Он вспомнил, как несколько месяцев назад случайно попал в место расквартирования пленных. Вокруг него сидели и стояли французы, русские, бельгийцы, сербы, англичане. Низкие нары не могли вместить всех, и все же им всем хотелось лежать, и они лезли как тараканы, набивая все щели, и, наконец, нары не выдержали. Постройка была возведена в безбожно короткий срок. Нары не выдержали и рухнули. Все народы Европы барахтались с ругательствами в общей куче. Они вылезали один за другим из свалки и мрачно потирали ушибленные места. Штарке равнодушно смотрел на них. Ни ругань, ни мучительные гримасы, ни стоны не могли его вывести из себя. Наконец из-под нар появился англичанин, и, когда он встал, грязный, запыленный, мятый, он оглядел всю рухнувшую постройку и сказал язвительно (он скорее выплюнул, чем сказал), подмигивая на развал: Made in Germany. Штарке погладил вторично холодную сталь аппарата.
Он не мог ответить иначе сейчас этому неожиданному воспоминанию. Что у него есть, кроме двух слов: кайзер и аппараты? Может быть, Штарке Вообще не существовал? В дымном воздухе окопа среди людей-теней стояло нечто в капитанских погонах; сосредоточенная энергия, воображение, обернувшееся предметностью, – он не замечал, как равнодушно смотрели на него из своих нор окопные люди, он видел только тьму леса, где иногда разноцветные молнии чертили один и тот же шифр: война, война, война.
Штарке и его свита осторожно курили сигары. Они прятали их, как новобранцы, в руку и закрывали рукавом. Сейчас эти сигары вошли в словарь войны, потому что при слабом свете их красновато-зеленых, раскаленных огрызков люди проверяли манометры. Коленчатые отростки азотных бутылей были серы и неподвижны и казались безобидными. Их могли найти мальчишки среди мусора и поиграть ими. Здесь они были на положении мировых статистов. Малейшая неисправность сгубила бы всю их карьеру.
– Сверим наши часы, – сказал Штарке.
Красный блеск пробежал по шести стеклам и удостоверился в одинаковом положении всех стрелок. Все стрелки, как одна, держали свой путь, но, когда Штарке пыхнул снова своей сигарой, она вырвала из ночи белое пятно, на котором стоял красный крест.
Красный крест был не при чем; он был даже не совсем приятным намеком. Человеку с таким знаком нужно было сказать что-то начальственное, чтобы он не загордился своим одиночеством и независимостью от начальства.
Сигара исчезла, прикрытая рукавом, и Штарке спросил санитарного унтер-офицера:
– Если брызги холодного масла попадут в глаза…
– Так точно, мазь от ожогов и кокаин…
Штарке стоял против огнеметчика. Сколько труда он положил на этих людей, рабочих и служащих, не подозревавших за всю свою мирную жизнь, что они понадобятся мрачному изобретательству Штарке. Сколько он положил труда, чтобы сделать из них нерассуждающих, забывших иные привычки рабов огнеметных аппаратов… Не всегда это удавалось. Высокий солдат стоял у блиндажа, вытянувшись, как будто его подвесили за воротник на крюк.
– Лейтенант, – сказал Штарке, – проверьте вооружение.
Лейтенант направил свет фонаря на посеревшее лицо с водянистыми глазами. Лицо не входило в вооружение. Оно было совершенно безоружно перед этим желтым лучом фонаря и черными руками своих повелителей. Лицо было нейтрально. И это взорвало лейтенанта. Как на аукционе, сопровождая тихое ворчание невидимыми ударами молота, лейтенант выкрикивал про себя, на самом деле он спрашивал вполголоса:
– Котелок…
Котелок висел сбоку, он показал свой выгиб и кольцо и уступил место брандспойту с рукавом.
– Мешок для инструмента на шейном ремне…
– Мешок…
– Один комплект прокладок…
– Прокладки. Так.
– Клещи для труб…
Клещи.
– Кольт.
– Кольт.
Лейтенант перенес свет:
– Сумка на портупее. Откройте сумку.
Солдат исполнил приказание, оставаясь напряженным. Он чуть не качался от напряжения. Впрочем он мог качаться и от усталости.
– Запасная вилка зажигателя, – сказал лейтенант, – покажите зажигатель. Что вы с ним сделали? Он сырой?
Штарке вздрогнул. Солдат закачался, как будто его ударили.
– Я сидел в блиндаже, – сказал он. – В блиндаже, господин лейтенант.
– В блиндаже, будьте вы прокляты! вы сидели в воде, черт возьми! Сейчас же перемените зажигатель. Идите сейчас же!
– Фамилия? Его фамилия? – задыхаясь, пробурчал Штарке.
Солдат обернулся:
– Ганс Немландер.
– Лейтенант, когда кончится бой – лейтенант, мы проверим всех после боя и всех таких в пехоту, обратно в пехоту, к черту!..
Штарке вспотел при мысли, что со всеми зажигателями может произойти то же самое. Тогда он положит свое брюхо на французскую проволоку и умрет. Высочайший шеф армии интересуется этими опытами… Высочайший шеф – ради этого стоит умереть…
– А факелы…
Факелы были тут же, факелы стояли в стойке. Солома, окрутившая палки, была суха, действительно суха. Штарке смягчился. Он осматривал людей поодиночке. Все было в порядке. Порядок мог быть лучше, но тут уже ничего не поделаешь.
– Огневая струя состоит из горящего масла и горящих масляных газов… Соберите людей, – сказал Штарке.
Команды стояли на второй линии, их было совсем немного. Штарке сказал несколько слов. Собственно, говорить не стоило, но устав предписывал разговоры. Душа Штарке не имела, кроме устава, никакого символа веры.
– Солдаты, – сказал он, – бодрость, бодрость прежде всего. Вы, спортсмены войны – вы должны стать чемпионами. Бейте их в глаза, сожгите им морду, смотрите, чтобы не было протечки масла, помните команду «стой», останавливайтесь сразу, не зарывайтесь, наше дело – дело чести. Через заградительный огонь несите во что бы ни стало, во что бы то ни стало огнеметы. Вперед, вперед, вперед!
Солдаты стояли, как отобранные к закланию молодые быки. Они здоровые ребята, они пронесут огнеметы через заградительный огонь. Они спортсмены – пусть будет так, в чем дело? Этот пожилой человек мог говорить все, что приходило ему в голову. Это ведь не меняет дела. Дело состояло в том, что нужно выйти из окопа и поливать первый раз в жизни людей горящим маслом. На празднике в деревне, конечно, бывает веселее, чем здесь, но там не увидишь такого зрелища. Кроме того, за это могут дать отпуск или бело-черную ленточку. Попробуем!
Штарке ощутил прилив нежности. Он отыскивал на дне своего сурового сундука красноречия особые слова, которые, несколько заикаясь, сошли с его языка. Ему захотелось приласкать этих людей, как будто он стоял перед пожаром, перед огнем, куда лезут его пожарные, и лучший штейгер уже погиб.
– Ребята, – сказал он, – вы получили сегодня колбасу, да, правда, хорошую колбасу, вы получили сегодня сигары и какао, вы получите завтра славу, которую еще никто не имел. Бодрость, бодрость, прокричим в душе трижды верховному шефу армии: ура.
Кричать было нельзя. Кричали ли в душе солдаты ура – Штарке не сильно беспокоило. Он верил, что они кричали. Что они съели колбасу, выпили какао и выкурили сигары – это он знал. То был особый паек для невиданной специальности.
Штарке протянул руку к каске и резко опустил ее. Ходы сообщений поглотили людей. Штарке долго курил сигару. Часы на руке выросли в огромный циферблат, качавшийся и стучавший на весь лес. Легкая перестрелка часовых проходила через него полетом одиноких ос.
Стрелка качнулась и замерла.
Пора!
Это могли сказать сотни людей одновременно. Светящийся снаряд прошел по лесу и, расхлестывая мрак синим светом, сгорал, обкуривая пространство. И сейчас же люди устремились вверх по ступенькам. Сквозь лес шли облака, через которые с белым свистом летело горящее масло. Оно горело на блиндажах, на ветвях, на столбах с проволокой, на пулеметных гнездах, оно горело на шинелях, на винтовках, на шлемах, шипя и свертываясь.
Раскаленные струи настигали врага на бегу, и уже горели мясо и кожа, и уже лопались глаза и жилы. В лесу поднялся вой, сквозь который шел Штарке, непоколебимый выходец из легендарных саг. Сага развертывалась перед ним. Его огонь сжигал все. Западня действовала. Ослепляющие струи текли безостановочно. То они взвивались вверх, то, переменив цель, сбоку ударяли по неприятелю, ночь ожила вспышками гранат и гулкими ударами, непонятными, как все в ночном бою. Западня захватила врага врасплох. Однако враг пробовал еще стрелять без прицела, с отчаяния.
Перед Штарке упал огнеметчик, сраженный, видимо, в голову, так как он поднял руки и не донес до лица.
Из пробитого пулей аппарата вытекало масло. Горящий аппарат, казалось, корчился на земле, извергая живые внутренности. Штарке нагнулся и закрыл кран. Он стал легким, как самый молодой солдат его роты.
Огонь жег лес, людей и все препятствия. Враг или умер, или выл от страха, закрыв глаза. Люди закрывают глаза, они больше всего боятся потерять глаза, они до конца хотят видеть все.
Пехота бежала рядом с огнеметчиками. Штарке соскочил в окоп. Это был французский окоп. Под бруствером и над бруствером лежали люди, но они не были людьми. Они были теми черными обугленными мешками, соломенными куклами, в какие играл Штарке, когда его огнемет переживал первые огненные дни юности.
Вокруг Штарке бесновалось масло. Казалось, оно только и ждало этой ночи, – всю свою долгую жизнь бок-о-бок с человечеством оно ждало этой ночи, чтобы прыгать, свистеть, жечь, истреблять. Надо было подавать отбой. Надо было не дать изнемочь этому могучему потоку.
Наверху над окопом появился человек, и три струи обдали его, как таракана. Он завертелся на месте, стал подпрыгивать, и пламя крутилось на нем, точно щекотало его со всех сторон. Человек скакал на одной ноге, и при свете горевшей одежды видны были его горевшие волосы и черный лоб, широко раскрытый рот, беззвучно захлебывающийся от горя. Человек пропадал. Вдруг он начал трещать как хлопушка. Огонь дошел до подсумка, который он не сумел сбросить. Подсумок вспыхнул, подсумок взорвался, пламя взметнулось к лицу человека, серому, как пемза. Взорвался второй подсумок, и человек свернулся, как бабочка, долго кружившая в ламповом стекле и, наконец, упавшая пеплом.
Гренадеры с гранатами в руках стояли у входа в блиндажи и предлагали сдаться оставшимся в живых. Бой был кончен. Аппараты гасли один за другим. Французские пушки били по окопам, и снаряды швыряли обугленные тела, ставя их на головы, перевертывая и разрывая на куски, чтобы убедиться, что действительно произошло нечто необычайное. И тогда начали приводить пленных.
Мимо Штарке прошел толстый французский сержант, кровь текла с него, как с барана. Он твердил одну и ту же фразу:
– Так воевать – это дермо, это дермо, как это называется…
Штарке остановил его и взял за руку.
– Это называется фанг, – сказал он, но француз скинул его руку и пошел вперед, обливаясь кровью, твердя все одно:
– Так воевать – это дермо, это дермо, как это называется.
Это не было просто попойкой, собственно говоря, это была вовсе не попойка. Офицеры частей особого назначения сидели на разрушенных диванах и на уцелевших стульях. И посреди них возвышался Штарке. Он возвышался, развернув плечи, и серые брови его, и загорелые до полной багровости щеки, и неподвижность фиолетового подбородка, и тяжелые, медленные движения рук делали его похожим на нечто богоподобное. Такое богоподобное существо из военной мифологии пило большими глотками вино, потому что оно имело право пить.
Вино было завоевано, ночь была завоевана, кресло, в котором он сидел, было завоевано. Это называлось жизнью, другой не было. Стаканы стучали. Все пили, крича:
– Тысяча четыреста пленных, два полковых командира, шестьдесят восемь пулеметов!
Под лейтенантом сломался стул, но он пересел на ящик с санитарными принадлежностями. Он не упал.
– Четырнадцать орудий, склады ручных гранат!
Все топали ногами от удовольствия. Штарке разбил стакан об пол. В его глазах сиял четырехугольный огненный загон фанга. В этом слове было даже нечто восточное, китайское. Можно было изогнуть это слово в огненного дракона, испепелявшего все живое. Только этого и хотел Штарке. Но сегодня он был великодушен. Он мог делиться победой.
– Слава пехоте, – сказал он, – слава кротам, роющим вражескую землю. Слава артиллерии, кроющей их с перцем… Шеф армии…
Все вскочили и пили, стоя. По темным лицам ходило пламя керосиновых ламп и фонарей, висевших на веревках. Трехцветное пламя делало каждое лицо трехцветным: красным от загара, черным от возбуждения и пятнисто-золотым от вина. Штарке был багров, как никогда.
– Последнее донесение французов, – закричал человек с перевязанной рукой, – пресвятая дева и святая Елисавета ранены шрапнелью… Плевал я на этих баб. Пророки валяются в обломках. Да здравствует святая Берта и ее сорок два сантиметра, хлопающие их по боку. Колокола слетали к чертям. Святой Ремигий сбежал – от него не нашли следа. К черту все соборы! Пьем за здоровье артиллерии!
– Они засовывают своих наблюдателей во все дыры. Все дороги кишат их шпионами. Они добивают раненых. Отравляют колодцы.
– Резервуар с маслом, шланг и брандспойт очищаются сырым бензолом, – сказал Штарке, – дорогу огнемету, пришли новые времена…
Денщики и вестовые, серые большие обозные лошади, убирали битую посуду с ящиков, изображавших стол.
– Прошу слова, – сказал лейтенант. Его скулы ходили от возбуждения. В клубе гольфа он считался лучшим оратором. Он был возбужден так, что мог взлететь над столом от возбуждения.
– Слово лейтенанта Геринга…
– Лейтенант Геринг…
– Пришли времена, о которых мы мечтали; играя в гольф, мы, в сущности говоря, играли все время в войну. Капитан Отто фон-Штарке, украшение германских специальных войск, начал величайший матч огненного гольфа. Подымаю тост за открытие новой эры, за французскую партию капитана Штарке.
Он шагнул и зацепил шпорой рваный ковер. Серый, как лошадь, вестовой нагнулся и освободил его ногу из западни.
Стаканы наполнялись. Трехцветные лица уже походили на флаги, раскачивающиеся на выступах балконов, флаги, встречающие победителей. И тогда все услышали шум. Шум шел с улицы – от открытых пространств, из ночи, за разбитым домом, в котором они сидели, не снимая шинелей, обвешанные оружием. Они вышли на улицу.
Хлестал дождь. Дождь хлестал уже много часов. Они его не замечали. Отдыхающий имеет право не замечать ничего. Теперь иные из них, с радостью раскрыв рот, ловили воду, чтобы освежиться.
Перед ними шли войска. Тесными рядами, не в ногу шагали солдаты, солдаты, солдаты. Никого кроме них не было вокруг. Дождь пробил их насквозь, он стекал со лбов, он шел тоненькими струйками вдоль спины по голому телу, он забирался в вещевые мешки сквозь незаметные отверстия, он уже шипел в сапогах, он расстилал лужи перед ними, он бил по глазам. Мокрые руки держали мокрые винтовки, мокрые груди вздымались отвратительным кашлем или проклятьем.
Месиво мокрых человеческих тел, стремившихся с неотрывностью лунатиков с закрытыми глазами, спотыкавшихся, было бесконечно. Точно море вернуло всех утопленников, и они, сплоченные общей гибелью, не могли оставить друг друга. Огромные сапоги, огромные шинели, огромные каски, казалось, сами тащили легкий студень человеческих тел, вещи завладели этими людьми, их повертывал уже не голос команды, а свисток. Бинты висели на шеях, на головах, руках и ногах. Дождь размыл их и превратил кровь, вату и марлю в холодный каркас, плотный и мучительный. В рядах шли легко раненые, оставшиеся в строю. Люди сквозь зубы сплевывали кровь. Грязное бурое небо над их головой резали холодные пилы прожекторов, и тогда дождь еще сильнее набрасывался на идущих, точно находил недостаточно мокрые отряды. Люди текли безостановочным потоком, и, если смотреть им на ноги, то откуда-то со дна души подымалась тошнота.
Лейтенант Геринг, возбуждение которого требовало выхода, закричал в эту ночную, дикую армию привидений:
– Да здравствуют баденцы!
Никто не ответил, никто не оглянулся. Дождь заглушил крик. Геринг и другие кричали поочередно, как исступленные:
– Да здравствуют вюртембержцы, баварцы, саксонцы…
– Да здравствуют пруссаки, ганноверцы, гвардия…
Они кричали, как помешанные, в лицо проходящим, и у этих проходящих действительно было одно лицо, изможденное, серо-зеленое, мокрое лицо с глазами, ушедшими внутрь, как бы спасающимися от дождя. Возбуждение при виде этих молчаливых фигур, загромоздивших ночь, бесконечность их мрачного шествия, переливавшегося, как поток, из улицы в улицу между развалин и воронок от снарядов, доводила компанию Штарке, как игроков, только что вышедших из азартной игры и ставших свидетелями чужой азартной игры, – до неистовства.
Худощавый, дрожащий от холода офицер подошел к ним.
– Все, что осталось от Шрекфуса, – сказал он, как бы вынимая откуда-то издалека свое имя, – нет ли у вас папирос?
Шесть портсигаров щелкнули ему навстречу. Он взял папиросу и держал ее, не закуривая. Его задевали проходившие, он не обращал внимания. Он дышал, как лошадь, идущая в гору, и пальцы его дрожали. Струйка воды выбегали из рукавов шинели.
– Из всей роты осталось тридцать шесть человек, семь рядов проволоки, волчьи ямы.
Его не слушали, он говорил сам с собой, он подводил итог, не думая: проволока, проволока – по двадцать человек в каждом ряду.
Папироса вспыхнула и с шипеньем погасла. Мрак около его лица сгустился. Он бросил папиросу и пошел дальше, и ноги его тонули в грязи почти до колен.
Серые стада людей все двигались и двигались. Иных поддерживали товарищи. В интервалах хлюпали лошади. Всадники, закутанные в стального цвета плащи, старались не шевелиться, зная, что единственное сухое место в мире – это седло. Ниже седла начинался океан. Противно было касаться мокрой гривы, мокрого повода, собственных рук.
Штарке смотрел поверх их, туда, где была только тьма, которую резали белые пилы прожекторов. Перед его глазами ходили ослепительные, гибкие щупальцы огнеметов. Вражеские пророки валяются в обломках. Вчера ликвидировали деву Марию, парижанку с черными волосами и маленьким французом на коленях.
– Огнемет, господа.
И все повиновались ему. Вся толпа пошла закоулками под дождем. Он вел ее, как хозяин ведет гостей показывать свое поместье, он шагал, как пророк по завоеванной земле – показать меч, покаравший ничтожных.
Часовые стояли размокшими грибами. Было странно, что винтовки сохранили какую-то твердость в этой жидкой, как месиво для свиней, ночи.
Дежурный с воспаленными глазами рапортовал, держа перчатку у каски. Он мог держать ее целое столетие. Штарке наслаждался этой изогнутой мощной рукой. Фонарь держал вестовой. В глубине старинного парка спали огнеметы. Он знал их наизусть.
– Огнемет № 10, – приказал Штарке, – пробное испытание.
Дождь не переставал. Казалось, что деревья выйдут из почвы и упадут на жидкие стены домов. Огнемет стоял под деревянным навесом. Он жил, как холостяк на даче, в маленьком сарае. Команда выстроилась у огнемета. Толпа офицеров переступала с ноги на ногу. Вино переставало греть. На шпорах висели комья грязи.
– К огню – готовсь! – командовал Штарке.
Люди или привидения переместились словно в балете. Бурная чернота ночи колебала пустынный парк. В такую ночь можно делать все. Человечество не имеет голоса в такую ночь. Где оно? Да есть ли оно вообще, это человечество? В тех серых толпах, переливавшихся сквозь ночь, нельзя было различить старых и молодых, умных и дураков, артистов или рабочих, все они были одинаковы. Ими правил свисток. В интервалах шли лошади. Прожектора указывали места их смерти. Никто не верил, что ночь кончится. Тьма лежала по горизонту.
– Смирно, – командовал Штарке, – огонь!
Круг дыма взлетел вверх и ушел вперед. За ним последовала трещащая, сильная, как кулак, толстая огненная жила, рассекавшая пространство. Острие этой жилы, светясь в черном дыму, как тысяча раскаленных проволок, вонзалось в деревья, они шинели, покрываясь смертельными ожогами, кусты трещали, в ночном мраке открывалась трещина, пробитая страшной струей.
– Стой! – голос Штарке дошел до черных манекенов у аппарата. Огонь погас.
– Держатель освободи!
– Продуй…
Лейтенант Геринг, лучший оратор в клубе гольфа, больше не ощущал действия вина, но он забыл и все речи. Нервная лихорадка перебирала кости. Губы его, плотно сжатые, старались удержать стук зубов.
– Князь тьмы, – сказал кто-то за его спиной. Штарке усмехнулся. Он уже знал, что это прозвище идет за ним через штабы и обозы, через вокзалы и сборные пункты, через окопы и блиндажи, оно было, как светящийся транспарант, оно нравилось Штарке, он сделает его своим знаменем.
– Устрашая врагов, иди к победе, пусть им останутся только глаза – оплакивать свое поражение. Глаза останутся, ведь они всегда закрывают их руками, когда на них летит его пламя, пламя Штарке.
Чтобы согреться, офицеры поспешно и громко говорили:
– Да, это изобретение…
– Я бы не хотел быть французом.
– Тысяча четыреста пленных, четырнадцать орудий в пять минут.
– Нужно делать полки этих игрушек, тогда дело пойдет по-настоящему.
– А если у них?
– Что у них?
– А если и французы?..
– Они – они не успеют обернуться, как все будет кончено.
– Дежурный, – сказал Штарке, – я забыл – Ганс Немландер.
Поднятая рука в перчатке, могуче изогнутая, замечательна. Символ дисциплины и порядка. Она может висеть у каски целые столетия, но два пальца перчатки пусты.
– Так точно. Ганс Немландер не может быть откомандирован в пехоту. Он убит третьего дня.








