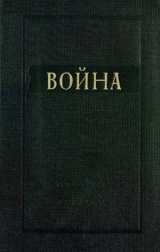
Текст книги "Война"
Автор книги: Михаил Зощенко
Соавторы: Лев Славин,Николай Тихонов,Виктор Финк,Михаил Слонимский,Юрий Вебер,Семен Розенфельд,Николай Брыкин,Кирилл Левин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 52 страниц)
К Паулю Костя питал симпатию. Сам он на работе потел и передвигал ноги, но, если б было можно, он всегда бы сидел. В сущности, с первого же своего трудового движения утром он уже чувствовал себя усталым и не без зависти наблюдал Пауля, который работал весело и как бы мимоходом.
Если им случалось вдвоем чистить конюшню, Костя влачил свою тачку с медленностью раба на древних пирамидах. Он надсаживался, когда она катилась вниз, таща его за собой, и обыкновенно она опрокидывалась не там, где он хотел. То же самое у Пауля выходило много веселее: он с раската вгонял тачку вверх, а затем пускал ее лететь по доскам, куда ей заблагорассудится, и, однако, навоз у него разлетался пластами, не оставляя горбов и не портя общей картины навозной кучи.
Так же легко Пауль обращался с лошадьми, и, если ему требовалось заставить лошадь переступить на другое место, он тыкал ее чем попало в бок, даже не отклонясь, на случай если бы она его ударила. Костя, который на задние ноги лошади всегда смотрел со страхом и никогда бы не решился ее ударить, в такие моменты наблюдал Пауля с искренней завистью.
Если Альфонс посылал их вдвоем на лошади на последний участок, по дороге между ними бывали ссоры. Костя, всегда усталый и думающий о покое, любил тихую езду, чтобы можно было сидеть, свесив ноги через решетку, и, прищурив глаза, смотреть, как синеет овес на холме, или как солнце пробивается сквозь сосны на далеких Судетах. Между тем на Пауля простор действовал возбуждающе, и он начинал горланить и гнать лошадь, не разбирая дороги. Костя, потревоженный в мечтаниях, сердился, пробовал его утихомирить, пытался отобрать у него вожжи. Это не всегда удавалось. Мир наступал после того, как Костя вынимал табак. Табак соблазнял Пауля, а взяв что-либо у человека, он уже не мог быть с ним грубым.
Пауль был покладист, но держал тон наравне с кем угодно. Столкновения с ним и для взрослых не всегда кончались удачно, ибо там, где он не мог взять силой, он отбегал и издали забрасывал противника грязью и чем попало, обещая в будущем разделаться с ним как следует. А человек со следами свежего конского помета на лице всегда имел глупый вид, как бы силен и грозен он ни был.
От матери он перенял любовь к похищениям: он не только отряхивал яблони в чужих садах или на дорогах – что по немецким понятиям не пустячное преступление – или присваивал себе что ему нравилось из имущества товарищей, но не забывал и городских магазинов, где он бывал редко, но откуда уходил, обязательно унося какую-либо добавочную ценность, неоплаченную им и часто совсем ему ненужную. Костя видел, как однажды, в придачу к конверту, за который он заплатил, он унес бесплатно книжку, оказавшуюся «Афоризмами» Шопенгауэра. Книжка, не говоря о содержании, поставила его в тупик тем, что была новая и неразрезанная.
– Как мне быть? – спросил он Костю, с удивлением разглядывая книжку, которая перелистывалась сразу по шестнадцать страниц. – Я не могу ее читать, если листы слеплены вместе…
И после раздумья, с подъемом, свидетельствовавшим, что он дошел до решения собственным умом, он сказал:
– Я их разрежу…
От отца, старого солдафона Винтера, он перенял некоторые солдатские замашки: здороваясь, он умел раскатываться навстречу как бы с почтением и, застопорив, протягивал руку, сплевывая в то же время на сторону. От отца же к нему перешло уменье ругаться и забрасывать противника прозвищами, иногда совершенно непонятными: проклятый жаворонок, милостивый государь, кисточка, свинячий ежик…
На слова он был скор, но были вещи, перед которыми он робел: перед плакатом у кино, изображавшим необыкновенных людей, перед машинистом на паровозе, орудовавшим сложной махиной, перед музыкантами за то, что они умели играть на трубах.
Сам он очень неплохо играл на губной гармонике. У него были верный тон и простая манера. Но странно, если его просили сыграть, этот малозастенчивый юноша робел и отнекивался.
– Я не умею, – говорил он, краснея и стараясь удрать, – я совершенно не умею…
Если Пауль и его легкость в работе внушали Косте зависть, то был во дворе Альфонса человек, который работал с еще большей надсадой, чем он, – хромой Корль. Разница была та, что Костя, несмотря на неохоту, все-таки крутился. Корль же не находил этого нужным. В поле, если его туда посылали, он занимался тем, что стоял на одном месте, поджав хромую ногу и наблюдая, в какую сторону пошел Альфонс. Если поблизости оказывались русские пленные, не любившие работать за других, они сердито окликали его, и Корль принимался работать, а потом жаловался Паулю, что русские злые, нехорошие люди.
Недостаток внимания к его хромой ноге обижал его. Он жестами ссылался на нее, он взывал к милосердию и справедливости, но встречал равнодушие и подозрения в симуляции. Хромота не мешала ему таскать тяжелые мешки, – это занятие он любил и, подставляя плечо, в ответ на неизбежное напутствие Альфонса, чтобы он не разбил мешка на лестнице, обиженно кричал:
– Я ношу полтора центнера вверх…
Это были редкие моменты, когда в нем просыпалась гордость человека, который что-то может. Обычно он отлынивал как мог, и работать с ним в паре, не поссорившись, было невозможно.
Однажды Костя и Корль прочищали борозды на картошке. Костя вел лошадь по борозде, Корль держался за плуг и через каждые две борозды бросал поручни и садился отдыхать.
– Ну, ну, Корль, вставай, – взбадривал его Костя, потому что без понуждения Корль не встал бы никогда. – Мы еще ничего не сделали…
– Нога, – кратко говорил Корль, кивая на хромую ногу, и, считая вопрос исчерпанным, продолжал сидеть.
– Альфонс подымет крик, когда придет, – настаивал Костя. – Вставай, вставай.
– О ком он заботится? – удивлялся Корль. – Об Альфонсе. Поверь, у Альфонса и так хватит…
Он не прочь был поболтать на эту тему. Он показал на альфонсовы поля и на дом в отдалении, а затем перевел палец на себя: на свою грязную рубаху и заскорузлые ноги в сбитых опорках. Он предлагал Косте дискуссию по вопросу о богатстве и бедности, но Костя знал только, что если заданная работа не будет сделана, то вечером можно ждать разговора с конвойным.
– Все это прекрасно, – говорил Костя, не вдаваясь в подробности. – Но нечего сидеть по полчаса. Это не работа…
Он повел лошадь в борозду, в уверенности, что Корль не посмеет бросить плуг без управления и встанет, но Корль посмел и остался сидеть. Он с любопытством посмотрел Косте вслед и ухмыльнулся, когда плуг о первых же шагов въехал на гряду и срезал растение. Костя был вынужден бросить лошадь.
– Да встанешь ли ты, дохлая скотина? – в бешенстве подбежал он к Корлю и протянул руку к его шее. – Вставай сейчас же!
Он побаивался получить сдачи, ибо Корль был не слаб. К его удивлению, Корль съежился, ожидая удара, а, получив по шее, заморгал глазами и сказал, что пожалуется конвойному.
– Пленный не смеет бить немца, – сказал он жалобно. – Это запрещено…
Из двух с половиной караваев-, получаемых им по пятницам от Марты, Корль один продавал куда-то в город. С понедельника у него не оставалось хлеба, и до пятницы он должен был терпеть.
Жизнь его от понедельника до пятницы была мучительна. По утрам он выходил на работу, похлебав голого кофе, наесться он мог только картошкой за обедом, и дело осложнялось тем, что он никогда не знал, сколько ему оставалось ждать до обеда, ибо был единственным работником Альфонса, не имевшим часов.
Часы для работников Альфонса были необходимой принадлежностью. У Кости они лежали в кармане штанов на цепочке и вынимались незаметным жестом, даже на глазах Альфонса, Часы Игната, серебряные, с крышечкой, были запрятаны подальше и вынимались реже. У Аннемари они были в кожаном браслетике, и, чтобы посмотреть на них, требовалось только выгнуть пухлую ручку, на что в присутствии Альфонса она не решалась. Часы Каролины, с несколькими крышечками и заводившиеся ключиком, вынимались в редких случаях. Зато ее сын, синеглазый Фриц, обладатель большого никелевого хронометра, также: во время жатвы выходивший на работу, то и дело смотрел на часы и, пробегая по полю, радостно объявлял:
– Через тридцать пять минут феспер[37]37
Полдник.
[Закрыть].
А во время перерыва не менее радостно:
– Через десять минут вставать…
Течение времени само по себе забавляло его.
Корль, голодный и мучимый неизвестностью, носился по полю, мотаясь на сиденьи какой-нибудь усовершенствованной сеноворошилки.
– Ви шпэт?[38]38
Сколько времени?
[Закрыть] – спрашивал он умоляюще, проезжая мимо кого-либо из работников, и, склоняясь с тычка, внимал.
Было в обычае обманывать его. Ему говорили время на полтора часа назад, он с ужасом отскакивал и влекся дальше, и только потом, сопоставив разные признаки, догадывался, что его надули.
– Ви шпэт? – спрашивал он, склоняясь в другом месте, всем своим видом говоря, что дело идет о крайности.
Тут ему называли время на час вперед. Корль радовался, но потом соображал, что и этого также не могло быть. Он переставал верить кому бы то ни было, влачился взад и вперед в самом плачевном состоянии и, только увидев, что работавшие на лошадях один за другим поворачивают ко двору, догадывался, что наступило одиннадцать часов, час кормежки лошадей у Вейнерта. Почувствовав твердую почву, Корль приободрялся, чтобы снова затем огорчиться при мысли, что до обеда все-таки оставался целый час.
Корль был также единственный во дворе Вейнерта, кто страдал от вшей. Он стыдился их и не чесался на глазах у других, зато постоянно шевелил плечами, дергался лицом, ежился и всегда имел вид человека, прислушивающегося к себе и ожидающего нападения откуда-то изнутри. Он зарабатывал гроши, – немногим больше пленных, – и рубаху получал раз в год в виде рождественского подарка от Альфонса. Та рубаха, которую «малютка Христос» принес ему в прошлую зиму, была плохого качества и давно зашила, и нередко после работы, замученный вшами, он снимал ее и отдыхал, надевая пиджак на голое тело. В такие минуты он выглядел как пытаемый, на полтора часа снятый с дыбы.
Русские пленные наблюдали его не без сострадания, видя у него знакомые признаки уныния, когда вошь окончательно обседает человека.
– Корль, – говорили они, – ходи веселей: веселого человека вошь не так кусает…
Корль до слез обижался, слыша такие советы, и укреплялся во мнении, что русские нехорошие люди, но когда, в придачу к советам, русские подарили ему чистую смену белья, он не знал, что ему думать. На некоторое время русский подарок помог ему, но затем началось старое.
Старик Шульц, также работавший у Вейнерта, был существом побольше карлика, но поменьше всякого даже и очень низкорослого человека. Он был обладателем большой губной гармоники с колокольчиками и черного осеннего пальто. Имущество это он, свернув, носил с собой на работу в поле, по-видимому опасаясь дома воров. Над ним смеялись и считали его чудаком, хотя на самом деле это была молчаливая демонстрация, которой он хотел привлечь общее внимание к случаям пропажи хлеба из его сундука. В краже хлеба он подозревал Корля, и не без основания, но объяснять это на словах не мог или потерял охоту, и только иногда неразборчиво ворчал, фыркал и шевелил выпяченными скулами.
Он был медлителен, и если случалось, что один из снопов, которые он перетаскивал из сарая в коровник, по дороге падал на землю и развязывался, он останавливался в замешательстве:
– Один развязался… – вздыхал он, созерцая лежавший сноп. – Да, да, вот он лежит…
Он мог поступить двояко: положить на землю то, что оставалось в руках, связать развязавшееся и отнести все сразу, или же оставить развязавшийся сноп лежать, отнести, что оставалось, и потом вернуться. Он делал движения, показывавшие, что он думает предпринять то одно, то другое.
– Иезус, Иезус, – вздыхал он, окончательно запутавшись. – Тьфу! – плевал он вдруг с отвращением, сложив губы по-лягушачьи.
Привычка неожиданно и обильно плеваться также была его особенностью. Ему случалось помянуть имя божие и прийти в мирное настроение, и вдруг начать плеваться самым исступленным образом как раз тогда, когда слушатель этого не ожидал.
Он курил дважды в день, сейчас же после обеда и ужина, – и весь двор знал об этом. Костя однажды предложил ему своего табаку. Шульц, удивившись, набил трубку, закурил, помолчал, а затем поднял на Костю растроганные глаза, зашевелил скулами и совершенно раздельно произнес несколько слов благодарности и дружелюбия. Оказалось, что он отлично умел говорить, но в обстановке двора Вейнерта, среди постоянных насмешек, почти отвык от этого.
Сам Альфонс Вейнерт был невысокий мужчина, с воловьей шеей и пухлыми пальцами, которые он пускал в ход лишь для того, чтобы набивать и выколачивать трубку и открывать и закрывать амбары. Тяжелая работа была ему запрещена, но он говорил, что, если бы был в состоянии, он показал бы рабочим, как надо работать. Сейчас он мог только ходить и смотреть, и даже свое любимое занятие – проверку мышеловок в амбарах и на полях – он должен был передать другим, Паулю и кавказцу Гургену, ибо сам не мог нагибаться.
Он редко выходил за пределы своих владений, так как не имел в этом надобности: все, что ему требовалось, было у него под рукой. Он с гордостью говорил, что ему не нужно ничего чужого, но что и своего он не намерен уступать никому ни крохи.
Он крепко держался этого правила, и бедняки, являвшиеся к нему с реквизиционными ордерами на ничтожные доли картофеля для посева, получали его лишь после длительного и крикливого предисловия. Альфонс говорил, а они молчали и, только выйдя за ворота, позволяли себе сказать что-нибудь по адресу богача, который не понимает, что люди кругом мрут с голода.
Кругом разливалась бедность. Нищие, которых прежде не было в этих местах, все чаще стали заглядывать на кухню с жалким видом и молитвой бедных на устах. Объявление, что хозяин дома – член союза по борьбе с нищенством, прибитое на воротах, не помогало. Людей, пренебрегших объявлением на воротах, встречала еще приколотая к двери квитанция об уплате взноса за текущий месяц, но и она мало кого останавливала.
Альфонс любил свои поля. Ничего другого он не хотел знать. От работников он также требовал только работы, и в остальном они не интересовали его. Их нерадивость он считал неизбежным злом и вносил в свои расчеты как необходимую поправку. Он давал им пищу и пфенниги, не мешал им изредка менять солому на нарах, требуя лишь, чтобы изношенная солома была представлена назад в хозяйство; раз в год они получали от него рождественский подарок, и он считал свои расчеты с ними поконченными.
Бессловесные твари внушали ему больше сочувствия, и если случалось, что ветер подымался в то время, как на его полях рассевалась известка, и едкая пыль набивалась лошадям в глаза, он подходил и, мучаясь, вытирал им углы глаз первым, что попадалось ему под руку, хотя бы это был совершенно чистый носовой платок, но не обращал никакого внимания на пленных, у которых лица также были вздуты от извести и которым также нечем было вытереться.
4Гуго работал и гнул свою линию. Первое время люди избегали смотреть в его безносое лицо, и их взгляды мимо его глаз, их невольное движение задержать дыхание при разговоре с ним он принимал с светлым смирением. Затем его отношения с людьми стали увереннее, к нему привыкли, и он первый доверчиво улыбался другим. Он как бы говорил: «Я смирился, я не обижусь, если вы оттолкнете меня, но ведь и я тоже, как все люди, имею право жить и дышать».
Он умел работать и работал по специальным заданиям Альфонса. Родные поля, которых он так давно не видал, умиляли его, и нередко он оглядывался кругом просветленно и с удовлетворением, как человек, попавший наконец на свое место.
– Пусть говорят, что угодно, про чужие края, – сказал он однажды Косте, с которым нередко вступал в разговоры мимоходом. – Для меня на свете нет края лучше, чем Козельберг…
Костя, на которого Козельберг наводил тоску, не мог разделить его восторгов и вежливо промолчал. Но Гуго сделал жест, что понимает его.
– У каждого человека есть свой Козельберг, – пояснил он свою мысль. – Есть и у тебя, Костя. Когда-нибудь ты это поймешь…
Вид человека, отделенного от своего Козельберга тысячами верст, внушал ему сострадание.
– Я понимаю тебя, Костя, – сказал он, дружески взяв его локоть: – один, вдали от своих, во вражеской стране… Я понимаю тебя…
Костина неумелость пробуждала в нем желание поучать его. Он делал это осторожно, не очень выставляя свое превосходство и выбирая примеры, на которых, быть может, учили его самого.
– Как ты думаешь, Костя, – спросил он его однажды, глядя с холма на козельбергские поля, – какой ширины вот этот черный кусок?
Он показал на длинную полосу между картошкой и ячменем и хитро посмотрел на Костю.
– Десять или двенадцать метров, – ответил Костя, смерив кусок на-глаз.
И хотя на самом деле это было так, Гуго покачал головой и тихонько улыбнулся, ибо дело было не в метрах.
– Ты городской человек, Костя, – сказал он снисходительно. – Ты думаешь: достаточно перейти через поле, и вот ты на другой стороне. Ты думаешь – вот его ширина. И так думают все, кто никогда не пахал. Но пахарь знает, что поле состоит из борозд, и надо пройти все борозды вдоль одна за другой, и только тогда ты придешь на другую сторону. Вот какая его ширина… Так-то, Костя, – сказал он потом, сам умиленный своей мудростью, и бодро взялся за плуг, чтобы измерить этим способом ширину будущего ржаного поля.
Бодрость и уверенность заметно преобладали в его настроениях, и ясная улыбка все чаще появлялась на его лице.
Ему редко случалось работать вблизи Каролины, еще реже приходилось с ней говорить. И тем не менее все знали, что его дело начато и с каждым днем подвигается вперед. За него работала Берта. Она мимоходом забегала к нему в конюшню и охотно выслушивала его честные доводы, а потом шла к сестре, заводила разговор, намекала отдаленно, подходила ближе, ставила вопросы ребром и, выслушав отказ, смеялась полузадушенным смехом, говоря, что, конечно, Каролина еще подумает, прежде чем ответить окончательно. И, обхаживая сестру, она больше, чем когда-нибудь, была похожа на толстую серую крысу, разгуливающую на задних лапках, вынюхивающую, выжидающую.
Доводы в пользу брака с Гуго появлялись у ней при всяких случаях. Если кому-нибудь случалось быть в церкви, и он в разговоре упоминал об этом, она говорила:
– Обрати внимание, Каролина: до войны в нашей церкви пел прекрасный хор из мужских и женских голосов, мужчин и женщин было поровну. А теперь: кроме женщин, поет один учитель, да и тот только подтягивает. Во всей деревне нет мужчин, милая моя. Бедным девушкам не за кого будет, выходить замуж…
По пятницам, выходя после обеда в поле, она рассказывала об утренней суете у хлебной печи:
– Было превесело. Ригерша пекла черный, а белую муку ухлопала на печенье, чтобы послать мужу на фронт – такие нежности. Я на этот раз попробовала полубелый с тонкой корочкой. Прямо ужас смотреть, сколько ячменя подсевает Марта в хлеб для работников… Если бы ты пекла сама для себя, ты бы сразу заметила разницу…
Если Каролина выходила на работу, перемогая слабость, Берта не упускала случая заметить:
– Тебе только тридцать пять, а ты уже падаешь с ног. Я с ужасом думаю, что останется от тебя к сорока годам, если так пойдет дальше.
Каролина молчала. Ей нечего было возражать сестре, перед которой она была так же бессловесна, как Анне-мари перед ней самой. И все-таки брак с нелюбимым клейменым человеком казался ей слишком обидным жребием, чтобы подчиниться ему без сопротивления.
Гуго ничего не требовал. Он поверял Берте свои планы и ждал. Казалось, он понимал, что он не в праве чего-либо требовать. И даже, если он замечал, что в дверь Каролины прошел Игнат, он молчал. В таких случаях он уходил к себе в конюшню и там, прячась от людей, плакал. Это были покорные слезы нищеты, у которой другие, шутя, отнимают последнее.
Берта однажды застала его в конюшне в таком состоянии и затем сейчас же прошла к Каролине для решительного разговора. Нравственное негодование придавало ее доводам особенный вес. Положение и на этот раз осталось невыясненным, но, хотя еще ничего не было решено между Гуго и Каролиной, дверь Каролины отныне была заперта для Игната. Берта настояла на этом: раз Каролина еще не ответила Гуго окончательно, раз она еще думает, она не должна испытывать его терпение.
И кроткий взгляд Гуго после этого случая, стал еще светлее, в то время как Игнат задумался и насторожился.
Сущность дела была ему понятна, но подробности, ежедневно усложнявшиеся, ускользали от него. Чтобы их понять, было мало одних жестов, требовались слова.
Одно он понимал ясно: его здесь не только ставили на одну доску с осколком человека, каким был Гуго, но этот осколок все заметнее перевешивал его. Осколок чувствовал себя привольно на козельбергской земле, он ходил по тропам, протоптанным с детства, в то время как его водили по этим тропам под конвоем. Он был здесь случайным человеком, пленным с номером и жестянкой, и, что бы он ни делал, в этих местах он всегда стоил бы дешевле любого безносого немца.
Обидно было, что в деле, касающемся его, его не спрашивали. Приходила Берта, улыбалась Каролине с выжидающим видом и шла дальше. Каролина подымала голову, глядя вслед шагавшему за плугом Гуго, и тяжелая задумчивость надолго искривляла ее лицо. Анне-мари робко сидела рядом, не решаясь прервать молчание. Что-то совершалось на его глазах, история подвигалась вперед, а он ничего не знал.
Иногда в разговорах работников он слышал имя Каролины и слова, которых он не понимал, а все, чего он не понимал, он истолковывал в обидном для себя смысле. Шульц и Корль, казалось ему, знали обо всем больше, чем он. Даже Костя, болтавший с немцами, казалось, что-то скрывал и издевался, и неожиданно во время работы Игната прорывало, и он начинал по разным поводам одергивать Костю, глядя на него со злобой, а Костино молчание и осторожность только делали его вдвойне подозрительным.
Был даже случай, когда Игнат пустил в ход руки, за шиворот вытащил Костю из-под стенки ржи, с межи, куда тот пошел по нужде. Костя был не первый, кто ходил туда, и было странно, что Игнат, прежде не обращавший на это внимания, вдруг так рассердился.
– Я отучу тебя гадить по межам, – кричал он. – Нашел темное место. Ты думаешь, рожь тут вечно стоять будет? Когда я буду косить, а ты за мной с горстями побежишь, – ты же в кучу носом уткнешься… Ты у меня ее руками уберешь…
Злоба Игната шла кривым путем, – ближайший товарищ не мог бы его понять. Она не затронула ни Гуго, ни Берты, но от нее несколько дней терпел Костя, от нее же пострадал юный Пауль, который как будто чересчур много знал, – из столкновения с Паулем Игнат сам вышел потрепанным и с забрызганным грязью лицом, – а затем она обрушилась на самого Альфонса Вейнерта. Альфонс не имел отношения к делу, но он был хозяин и немец, высшая точка здешних мест, и гнев Игната не мог миновать его.
Дни перед сенокосом были для пленных днями годовщины: их пригнали к Альфонсу перед сенокосом два года назад, и Альфонс не забывал отмечать эти дни маленькими подарками. В прошлом году каждый из пленных получил по пачке сигарет, в этом году было дано по две пачки. А после подарков произносилась речь о переходе на долгий летний день и о прибавке платы: двадцать пять пфеннигов не годились для четырнадцатичасового дня и сразу превращались в пятьдесят, в шестьдесят пфеннигов. Бумаги и никеля у Альфонса хватало, а пленные, у которых деньги уходили на табак и очко, видели в прибавке порядок и справедливость и уже два раза – вскоре по приезде и в прошлом году – выслушивали Альфонсову речь с одобрением.
Эта речь была как бы добавочным молебном к его обычным непонятным богослужениям, ибо Альфонс, как всегда, говорил без переводчика, отрывистым криком, и главным пунктом речи была цифра, выведенная пальцем на стене. Дойдя до цифры, Альфонс дружески улыбался, делал разрешительный жест и удалялся в уверенности, что вопрос улажен к общему удовольствию.
В этом году он произносил свою речь в третий раз, и, однако, несмотря на то, что на этот раз он назначил не шестьдесят, а восемьдесят пфеннигов, он заметил, что его речь производит на пленных неодинаковое впечатление. Никита и Матвей, стоя по-солдатски, мирно внимали ему, но Игнат глядел хмуро и недружелюбно. Костя, которого прибавка не касалась, был безучастен, Гурген, как не косивший, также смотрел на дело со стороны: он выполнял разные особые поручения и не любил смешивать себя с остальными пленными.
– Ахциг пфенниг! – подчеркнул Альфонс и, показав на стене цифру, ждал в ответ обычного одобрения и был удивлен, когда Игнат хрипло крикнул:
– Не желаю…
Альфонс не знал русского языка и не привык, чтобы пленные возражали ему с такими интонациями, как Игнат. Он покраснел, но не потерял благосклонного вида. Он дал себе труд подумать: чем мог быть недоволен Игнат, – и решил, что его не удовлетворяет плата. В этом пункте он не упирался.
– За хорошую работу в сенокос, – сказал он, легко выходя из положения, – мне не жаль и марки в день.
Он начертил на стене «100» и улыбнулся, считая вопрос исчерпанным.
Он посмотрел на Игната дружелюбно, но Игнат еще злее и с явным вызовом ответил:
– Не желаю…
Альфонс смутился. Дело выходило из обычных рамок, и в первый раз за два года ему понадобился переводчик, чтобы понять, чего хочет пленный. Казалось даже, что собственные товарищи Игната его не понимают и оглядываются на него с недоумением. Альфонс подозвал работницу-польку. Марта, следившая издали за происходящим, подошла ближе и стала рядом с мужем с негодующим лицом.
– Я не могу дать больше марки, – сказал Альфонс срывающимся голосом, – я связан соглашением всех хозяев деревни, у которых работают пленные…
Полька перевела его слова, и пленные ее поняли, и все-таки Игнат еще раз с надсадой прокричал:
– Не желаю…
– Он не желает, – повторила по-немецки полька, сама удивленная.
– Чего же, в таком случае, он желает? – спросил Альфонс, багровея и хватаясь за сердце.
Он подождал, но и с помощью переводчика ему не удалось добиться ответа на этот вопрос, ибо и сам Игнат не знал, чего он хочет, и продолжал твердить одно:
– Не желаю.
Но тон у него стал скучным и жалобным.
Дело принимало затяжной оборот. Никита и Матвей неодобрительно молчали, Костя не шевелился. Гурген морщился, словно совестясь мужичьей невежливости своего товарища, и, так как из амбара неожиданно выскочила мышь, он по привычке наклонился, поймал ее, ударил о стену и оглянулся на Альфонса, ожидая одобрения.
Игнат был одинок и никем не понят.
– Я знаю, чего он желает, – негодующим тоном вступилась Марта. – Он желает, чтобы мы позвали конвойного… Он этого добьется…
Корль, посланный ею, заковылял в дом, где как раз сидел конвойный, который обедал и ужинал по очереди во всех дворах, в которых работали пленные, и в этот день был нахлебником Альфонса. Он не замедлил прийти и, выслушав Марту, тотчас же загорелся негодованием. Он поднял приклад; чтобы на месте проучить Игната, но Марта, жалея Альфонса; попросила его не делать этого на его глазах. Затем Игнат, подталкиваемый сзади и зло оглядываясь, исчез со двора, чтобы в карцере обдумать, чего он, собственно, желает от Альфонса, а Альфонс, красный, теребя пухлыми пальцами воротник, который вдруг стал ему узок, ушел в дом. Марта шла рядом, готовая поддержать его, если с ним что-нибудь случится, но ее помощь оказалась ненужной. Дело его было не так плохо: он твердо держался на ногах, хотя после неудачной речи ему требовалось немного полежать.








