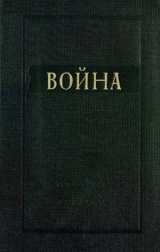
Текст книги "Война"
Автор книги: Михаил Зощенко
Соавторы: Лев Славин,Николай Тихонов,Виктор Финк,Михаил Слонимский,Юрий Вебер,Семен Розенфельд,Николай Брыкин,Кирилл Левин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 52 страниц)
– Господин профессор, вы слушаете меня?
– Да, Фогель.
Длинный коридор, выложенный белыми плитами, уходил в бесконечность.
– Войти в камеру нельзя человеку.
– Почему, Фогель?
Фогель вспотел. Он почти бежал по коридору, и потом он был ниже Фабера. Ему приходилось, говоря, приподыматься на носках.
– Человек в камере умрет. Концентрация смертельна…
– А я говорю: нет, Фогель. И я это докажу!
Фогель в первый раз за долгую институтскую практику смотрит растерянно на стены. Стены гладки и казенно сочувствуют ему. Он приподымается на носках, его кадык вылезает из воротничка. Фогель становится уродом с большой головой и туловищем ящерицы.
– Можно военнопленного, господин профессор.
Фабер останавливается внезапно.
– Вы, кажется, сказали: военнопленного?
– Я сказал: человека, которому нечего терять. Приговоренного или сумасшедшего, калеку… Когда жизнь в тягость…
Они продолжали быстро преодолевать коридор за коридором.
– Мне нечего терять, – говорит Фабер, – а потом вы меня знаете. Фогель, что такое синильная кислота?
«Ага, профессор Фабер опять хочет шутить». Ну, что же, Фогель вынимает руки из карманов, как ученик на уроке.
– Синильная кислота. Синильной кислотой всегда называли водный раствор цианистого водорода… Цианистые соли дают…
– Благодарю вас, Фогель. Теперь сосчитайте до ста, и вы успокоитесь окончательно. Мы пришли.
Что хотел доказать профессор Фабер, входя в камеру, наполненную ларами синильной кислоты в концентрации неизвестной, но, по Фогелю, достаточной для того, чтобы убивать наповал все живое, что соприкоснется с ней? Но так думал Фогель. Профессор Фабер ничего не хотел доказать. Он хотел освободиться от маленького серого пятна, неотступно стоявшего перед ним, освободиться от какой бы то ни было ответственности. Русские, например, в таком случае брали наган, вкладывали одну пулю и перекатывали барабан, потом брали дуло в рот и нажимали спуск. Если выстрела не следовало, человек вставал с места, слегка качаясь, и долго помнил металлический вкус во рту.
Японцы, например, в таком случае снимали с себя оружие и лишнюю одежду и с голыми руками, далеко впереди наступающих, лезли на утесистые форты Порт-Артура.
Профессор Фабер стоял в камере, наполненной парами синильной кислоты. Он знал, как придет смерть, если он не ошибся. Она придавит центры продолговатого мозга, тело перестанет выкачивать кислород из крови, он будет раскачиваться, зевая, ноги отнимутся, дыхание умрет раньше, чем остановится сердце. В страшном омуте крови, которая станет алой, как киноварь, сердце будет биться, когда горло схватит последняя судорога.
И труп профессора Фабера будет покрыт пятнами светло-красного цвета, как выходная одежда клоуна. Бедный Фабер! Смерть могла бы трагичнее украсить труп такой огромной важности, а она его сравняет с любым ландштурмистом.
Он стоял, потеряв представление о времени. Время исчезло, когда он перешагнул порог, который переходили только кролики, собаки и кошки.
Он ждал конца. Он ждал смертельного подергивания мускулов, как облегчения. Он не слышал сердца, он искал одышки, как первого предвестника гибели. Большой шум тяжелой волны прошел по его сознанию. Профессору Фаберу осталось жить несколько секунд. Они тянулись так, что можно было пережить всю мировую историю, добраться до великой войны, отыскать институт, уединенную, глухую комнату и вывести Фабера из забытья.
Говорят, были случаи, когда отравленные могли перейти двор, обнять жену и сесть в трамвай, чтобы умереть на людях. Но ведь он, Фабер, говорил, что синильная кислота, которую предлагает Фогель, посылает только в санаторий.
Он почувствовал, как ногти в сжатых кулаках впиваются в ладони, как дрожит ухо, как высох желудок и болтается подобно кожаному ведру, опущенному на веревке внутрь Фабера, как конец этой веревки пухнет ко рту. Язык рос, и шершавость его занимала весь рот. На ногах жилы рисовались Фаберу переплетением синих шнурков. Его короткие усы, широкие и плоские, стали влажными. Ощущения проходили сквозь него, как пешеходы, возвращающиеся искать забытые вещи в гостиницу, где они когда-то останавливались. Они перерывали его и причиняли боль совсем не там, где он ждал ее.
Неужели эти секунды еще не кончились? Или вот это и называется смертью? Тогда, значит, почерневший Вестер мог еще в уме проверить смертельную ошибку, начертив мысленно маленькую формулу, когда уже его труп выносили из красно-бурого тумана. Ведь сердце и мозг живут после прекращения дыхания. Он вспоминал формулы синильной кислоты как заклинание: треххлористый мышьяк не дает ей разложиться. Глухой шум прошел под потолком, как будто ветер срывал палатку. Хлороформ; не дает ей разложиться. Шум повторился. В комнате начинается ураган. Четыреххлористое олово, олово уменьшает летучесть. Ураган бросил Фабера к стене. Сердце не билось. Язык стал уменьшаться. Колени сгибались, точно на них висел груз. В ушах звенело. На единый миг профессор Фабер потерял сознание. Он нашел себя у стены, липкой, как патока. Нет, липкой была не стена, липкой была рука. Серо-зеленые молнии пронизывали воздух. Как лгут писатели и художники, рисуя смерть в виде законченной фигуры, в плане точных движений. Ничего точного – мрак, расслабленность, тихое и медленное угасание сознания. Его качнуло. Он протянул руку, руку кто-то задержал и рванул вперед. Фабер раскрыл глаза. Перед ним стоял Фогель. На его широком лбу, над которым высилась начинавшаяся лысина, играло электричество. Никакое серое пятно не нарушало мощной белизны фогелевского лба.
Фогель тащил его по коридору, издавая тихие восклицания. Фогель веселился, как медведь, обсасывающий лапу. Он втащил его в комнату, положил на диван, сел напротив, загородив спиной раскрытую аптечку с приготовленными пузырьками, пакетами и склянками. Только ножницы и бинты не успел он загородить, и это было первое, что увидел Фабер по возвращении с того света.
Фабер пил горячую воду с коньяком; он сидел, расстегнув воротник, пиджак и брюки: наступая на шнурки от расшнурованных ботинок Фабера, над ним хлопотал Фогель.
Маленький чайник весело кипел. Фогель взял коньяк, хотел прибавить Фаберу в кипяток, остановился и печально сказал:
– Вы опозорили меня на всю жизнь!
Часть четвертаяЖелезный крест, чин майора, «мертвая голова» на левом рукаве – знак бессмертного пионера, тяжелый титул Князя тьмы и ясное убеждение: его огнемет не оправдал себя. Он не сожжет войну. К такому выводу приходишь на четвертый год. Сколько напрасных ожиданий! Огнемет означает все, что угодно: высокий дух, храбрость, мужество, презрение к смерти, но еще не конечную победу. Лучше бы не приезжать с фронта до конца войны! До конца войны… а когда ей конец?
Как фельдмаршал Шлиффен, умирая, в предсмертном бреду повторял: «укрепляйте правый фланг!», так он мог, умирая, кричать: «огнеметы, только огнеметы!» – но все было решено по-другому. Другой счастливец, если его можно назвать счастливцем, пожал его лавры, если это можно назвать лаврами, и этого человека звали – профессор Фабер. Раз – это было давно – Штарке пошел к нему, чтобы лицом к лицу проверить силу своего противника, и Фабер не захотел его видеть. Тогда он засел за новый проект, простой, увлекательный и полезный. Проект обсуждался в бесчисленных отделах штаба, и, когда он получил ответ, кровь застучала в старом сердце Штарке.
Они отвергли его блестящий новый проект. Видите ли, у них, во всей Германии, не хватит масла на это, самолеты – не такое всемогущее оружие, как он думает. Поливать неприятеля горящим маслом с самолетов – это сложная фантазия. А разве огнемет не был фантазией, буйный рост которой вызвал он, Штарке?
– У нас нет запасов материалов, – говорил ему болтун, любовавшийся звуками собственного голоса. – Вы не знаете, сколько германская армия жжет, например, хлопка. Ежедневно она сжигает его больше тысячи тонн. Вы только подумайте: тридцать выстрелов из двенадцатисантиметровой пушки поглощают четыреста фунтов хлопка. Шестьсот тонн мышьяка идет у нас ежемесячно на тот миллион снарядов, который мы выпускаем на фронт. Нельзя же переменить всю систему пушек и винтовок. Снаряды поддаются изменению легче всего, и то со стороны внутреннего состава. Ваш огнемет хорош при позиционной местной войне, при ударных актах, но ждать большего от него не приходится, тем более что он не поражает неожиданностью.
– Вы, – говорил этот злобный и завистливый человек, – вы тратите очень много материала. Вы загоняете сто литров масла в один большой аппарат Грофа, вы делаете из среднего Векса восемнадцать выстрелов, действующих на двадцать пять метров. Куда это годится? Я был на вершине Эларж, – вы знаете ее, помните, какие бетонные пулеметные гнезда и блиндажи стояли там, – я долго не был в тех краях, в прошлом месяце я попал туда. Вершины нет, она сравнена с землей, клочья проволоки, углы бетона, бетонная крупа и щебень, и кости в любом количестве. Это сделали минометы и моторы Хитченса. Вот это работа! Три тысячи минометов стреляют сразу. Он довел их до совершенства. Мина заряжается газом, от одного вдыхания человек умирает. Это – первое, а второе в том, что газовые волны и снаряды заменили все. Каждый день, каждый час мы несем ужасные потери. Люди слепнут, и глохнут, и умирают, нигде не чувствуя себя в безопасности. На десять километров в глубину идут газовые волны. И мы отвечаем тем же. Газ за газ. В самом глубоком тылу деревья выжжены, трава выжжена; вокруг – пустыня и бойня.
– А знаете вы, – сказал Штарке, – что профессор Фабер отказался меня принять, когда я к нему пришел? Правда, это было давно.
– Я не знаю причины его отказа, но знаю, что это единственный человек, за которым вся армия повторяет одно слово: газ, газ, газ. От него, как быки под ножом, валятся целые дивизии. Люди спят в противогазах. Колокола звонят газовую тревогу по четыре раза в день. Простите меня, я должен прервать разговор, меня ждут.
И он ушел, самодовольный и спокойный штабист. Штарке вернулся домой. Штарке долго стоял в раздумьи, спиной к окну. Широкая спина непонятна, как запертая дверь. Седая голова его неподвижна. Так будет стоять на памятнике Штарке. Так будет он изображен в мраморе или в бронзе.
Штарке глядит каменными глазами на пепельницу. Пепельница сделана из осколков английского снаряда. Очень прочная пепельница. Очень спокойная пепельница. Она никогда не задает вопросов. Она никогда не отвечает на них.
– Вы знаете, я как-то сказал одному офицеру, что вы единственный человек, за которым вся армия повторяет одно ваше слово: газ, газ, газ. Артиллеристы прошли настоящую химическую науку. И так просто, не правда ли? Неподвижный заградительный огонь – желтый крест, горчичный газ. Зеленый крест – фосген. Синий крест – мышьяк. Только от постоянного напряжения, от острого возбуждения у людей появилась усталость. Западный фронт стал пугалом. Люди говорят, что там целым остаться нельзя. Или будешь ранен, или отравлен, или убит. Правда, можно сдаваться в плен, но это не всегда успеешь чисто технически. Из полков при переводе с восточного фронта отмечено дезертирство. Бегут главным образом эльзасцы и поляки. Общая усталость налицо…
Фабер сидел со штабистом в комнате совещаний. Они пили кофе с английскими трофейными сухарями. День был почти зимний. На улице было холодно и скользко. В комнате нагревалась электрическая печь, и штабной офицер сидел, положив нога на ногу, обыкновенный и развязный, как всегда, хотя они говорили о вещах важнейшего значения. Правда, великие события не считаются ни с местом, ни с погодой. Раз пришло их время, их ничто не задержит, а штабные во все времена и у всех народов будут одинаковы. Их авторитет непоколебим.
– Что такое усталость? – сказал Фабер. – Это просто самоотравление организма особым ядом, получающимся при распаде белкового вещества. Усталость можно прививать, как оспу. Усталость меня не беспокоит. Меня беспокоят противогазы. Я пробовал недавно новую кожаную маску, все три образца…
Штабист отставил чашку. Воспоминание о собственном пребывании на фронте живо встало в его голове. Фабер свистнул. Было удивительно, что такой большой человек свистит, как мальчишка.
– Если англичане начнут стрелять Синим крестом – усталость исчезнет. Противогазы пропускают Синий крест.
Офицер побледнел. Фабер отставил свою чашку и продолжал:
– Если англичане введут в дело мышьяковистые соединения, нам придется приблизить наш противогаз к английскому. Англичане применяют фильтры из шерсти и ваты против наших цветных крестов, но противогаз такого типа давит на горло и вызывает скорое удушье.
Мы возьмем другой тип противогаза. Это будет большая коробка, висящая на груди, с резиновой трубкой. Резины у нас нет. Мы пускаем в ход кожу. Но приготовление из кожи трубок довольно сложно. А нам нужны миллионы трубок. Что же делать? Я наводил справку. Запасы резины ничтожны. Как проходит сейчас линия фронта?
– В общих чертах фронт идет от Арраса на Лафер – Реймс – Верден. К сожалению, мы давно потеряли Суассон. Линия Зигфрида трещит. Вся надежда на позиции Кримгильды и Хундинга. Битва не ослабевает.
– Я сомневаюсь еще в одном пункте, – Фабер говорил спокойно, как на лекции. – Попробуйте проверить запасы гельбоина, этих коробок с хлорной известью, которые мы применяем против горчичного газа. Какое наличие гельбоина находится на снабжении армии? У меня есть подозрение, что не хватает и его. Я даже знаю, что некоторые армии заменяют его марганцево-кислым калием, но это нельзя оставить так.
Штабист встал.
– Я уезжаю завтра. Ваш доклад я передам сейчас же лично. Вы будете уведомлены через три дня. Вы получите копию справки.
Фабер позвонил Фогелю. Фогель пришел, как всегда, сияя начинающейся лысиной. Она увеличивалась с каждым днем, но сам Фогель не терял ни в блеске ни в объеме.
Через три дня Фаберу доставили телеграмму, уже расшифрованную и совершенно секретную, и он читал ее очень долго, не отвечая ни на какие покашливания Фогеля.
Фабер спрятал телеграмму в карман, через несколько минут вынул ее, погладил переносье и тогда взглянул на Фогеля.
– Простите, Фогель, вы что-то сказали мне?
– Я не говорил ничего, господин профессор.
Фабер протянул ему телеграмму, и Фогель удивился, что Фабер читал десять минут три коротких строки: «сообщаю, что в третьей, первой, седьмой, семнадцатой и шестой армиях вся хлорная известь роздана в войска. Запасов ее больше нет».
Фогель прочел телеграмму вполголоса.
Профессор смотрел на Фогеля так же пронзительно, как всегда, но с тем оттенком хищности, за которым всегда, знал Фогель, профессор будет или злиться или неудачно шутить. И он был прав.
– Фогель, какую страну выбираете вы, когда уезжаете отдыхать? Или нет – какая страна влечет вас к себе больше всех других?
– Меня влечет Сиам, – сказал Фогель: – белые слоны, баядерки и тигры. – Он шел навстречу шутке.
– Вы можете складывать чемоданы и уезжать в Сиам, Фогель, на белом слоне с баядеркой мчаться за тигром. Это будет спокойнее…
Шутка не вышла, как всегда. Фогель даже не улыбнулся.
Руди Шрекфус вел незавидную жизнь заводного насекомого. Он ползал по дымным полям, по переходам разбитых окопов, но самое худшее – были воронки от снарядов. Он ненавидел их больше всего. Он два дня жил в воронке, окруженный тяжелыми облаками дыма и молниями разрывов. Он менял противогазы, оружие, он терял товарищей, но главное – он ползал, как заводной жук. Временами он командовал, свистел, стрелял, толкал упавших концом маузера, но ему не часто даже разрешалось подыматься на ноги.
Временами перед ним проносились видения: зеленые поля, громадное голубое небо, широкая белая дорога, он вступает в войну, идет по дороге веселый, как молодой бог, никакая опасность не страшна ему, он не наклоняет голову под пулями, а визжащий хоровод снарядов только подымает его на торжественную уверенность. Потом он стал наклонять голову, как новобранец, потом он стал прятаться за выступы, искать прикрытий. Сейчас он только заводной жук, ползающий в гремящей трухе, в сухой размолотой крупе, в которую превратилось все вокруг. Он спит теперь, не думая, что его возьмут в плен, что взрыв сапы смешает его с землей, что газ обволокет его спящего; он спит крепко от великой усталости.
Когда от просыпается, сине находит перемен. Только газы меняют вид и окраску. Он видит отравленных людей с лиловой кожей, серебряными лицами, с красными, как роза, пятнами на руках и на лице; вой раненых идет от воронок, как будто воют испорченные вентиляторы. Так проходят шесть или восемь дней. Потом его отводят на отдых в тыл, в разрушенные деревни, на новые позиции, и он валяется в чьей-то разбитой постели и ест, не думая о еде.
Потом он снова ползет по дымному полю. Он даже не знает, какой пейзаж вокруг. Ему кажется, что перед ним все время подымаются в воздух тяжелые стены и непрерывно обрушиваются, так что земля гудит часами.
У него выросла зеленая морда хамелеона. Противогаз стал постоянным проклятием. Все кричат о газовой дисциплине. Как заводной жук, ползет Шрекфус между проволочных стен, отупело смотря в плавающие дымы, за которыми идут враги.
Небо раскрывается неожиданно. Оно полно гудением. Гудят десятки аэропланов. Они идут с такой скоростью, точно их зарядили на другой планете и они должны пробить землю, пройти ее насквозь. Крылья их видны все ближе. Шрекфус падает лицом в землю. Аэропланы сбрасывают стрелы. Стрелы тупо стучат по шлемам, по щитам орудий, вонзаются в доски и мягко пронизывают человека. Аэропланы поливают пулеметными лейками лиловые клумбы дыма. Они забрасывают бомбами, лопающимися с захлебывающимся чавканьем – они проходят, на смену им является новый заградительный огонь.
Шрекфусу становится дьявольски скучно среди этих дней и ночей, превращенных в мясные лавки, где валяются неубранные туши, а мясники всегда пьяны от усталости и запаха крови, среди холмов, похожих на помойные ямы, где гниют на солнце отбросы необыкновенных размеров, среди животных с тупыми мордами и людей в зеленых масках с застылыми, рыбьими глазами, среди этих куч угля, золы, пепла и костей, на которых развеваются в дыму отсыревшие тряпки, называемые знаменами.
Потом к нему приходит отчаяние, он не может стрелять, от страшного нервного напряжения у него пропадает голос. Когда он смотрит, он видит на земле красные или зеленые большие пятна. Но это как раз не относится к его болезненному состоянию. Это пятна пристрелочных снарядов. Пушки работают, обливаясь потом. От всей страны останутся, как на луне, пустые воронки. Хорошенький пейзаж для будущего поколения! Но Шрекфус не хочет отдавать врагу и эти воронки, которые он так ненавидит. Его тошнит всякий раз, когда он сползает, сползает по гнилым стенкам воронки все ниже и ниже, и земля осыпается, и в ушах звенит, а на краю воронки стоит красно-бурый туман, от которого кровь бросается в голову и дрожат ноги.
На шестой или на восьмой день он лежит на отдыхе, и далеко впереди его свиваются и развиваются волны дымовых завес. И вдруг начинают стрелять рядом, и отдельные выстрелы страшнее, куда страшнее многоголосого рева битвы. Что случилось? Шрекфус вылезает на дорогу, закрыв рукой глаза от солнца. Кругом прячутся люди, неодетые, растерянные, отдыхающие люди тыла, в которых не имеют права стрелять – они отдыхают, они вышли из битвы, они хотят дышать чистым воздухом и ходить на двух ногах.
И тогда он видит танк. Черная, ребристая, тихо гудящая машина вертится и время от времени окутывается дымом. Она стреляет на выбор. Белые вспышки разрывных пуль ударяются в ее бока. Но почему этот безумный танк один? Где же другие? Его водитель сошел с ума, зайдя так далеко, потерял представление о направлении. Он тоже зарвался от дикой усталости. Танк повертывается в сторону Шрекфуса. Танк стоит между сломанных кустов, как бы пофыркивая. Его обстреливают, как слона на облаве. Ему не хватает только хобота.
Шрекфус бросается на землю, потому что танк послал белое облако в его сторону. Где-то за домами взлетает земля и трещат крыши. Шрекфусом овладевает ярость. Он готов бежать к этой черной башне, бить ее кулаками, царапать ее ногтями, плевать на нее. Он видит на крыше танка бидоны, ряды привязанных бидонов. Танк собрался в далекую прогулку, если везет с собою такой запас бензина. Шрекфус выхватывает у соседнего солдата винтовку. Он кричит: «Пуль, зажигательных пуль!»
Зажигательных пуль ни у кого нет. Тогда он кричит снова: «Бейте по бидонам, бейте по бензину!»
Открывается нестерпимая стрельба. Шрекфус в бинокль видит, как пробиваются бидоны, как бензин стекает по плечам чудовища, он, наверное, просачивается внутрь, что делается там с людьми? Танк начинает вертеться. Бензин уже льется ручейками. И тогда приносят зажигательные пули.
Над танком вспыхивает сизое пламя, легкое и прозрачное. Танк бросается вперед и останавливается, врезавшись в кучу кирпича. Взрывается большой бидон. Пламя без искр растекается по черным бокам машины. Люди стреляют без перерыва. Из танка на землю соскакивают три человека. Они поднимают вверх руки. По их лицам течет бензин, их щеки багровы и полосаты от копоти и грязи, от удушливых испарений, губы потрескались. На них грязная, потная одежда. По-видимому, впереди офицер. Он мало что понимает, он едва стоит на ногах. Если б он мог говорить, он сказал бы, что есть предел человеческой выносливости. Перенапряженный металл лопается, как графит. Сколько часов провели они в ползающей коробке в температуре печки, не смея высунуть голову?
Со штыками наперевес к ним бегут люди. Если им не помешать, они убьют этих трех, отнявших у них право на заслуженный краткий отдых. Танкисты стоят, шатаясь, с поднятыми руками. Шрекфус врывается в толпу, окружившую их.
– Назад! – кричит он.-Тихо, ребята, назад!
Кое-кто пробует залезть внутрь танка, и все же кто-то ударяет прикладом и валит на землю одного из танкистов, самого маленького. Тогда командир танка говорит: «Пить!»
И Шрекфус видит, что он ранен. Рука его замотана бинтом. И потом он видит, что часы у пленного на руке остановились.
Не зная почему, он говорит вслух: «Четверть шестого».
Офицер проводит рукою по волосам и снимает пенку какой-то копоти.
– Пить! – повторяет он и добавляет: – и спать.








