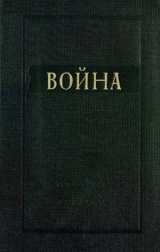
Текст книги "Война"
Автор книги: Михаил Зощенко
Соавторы: Лев Славин,Николай Тихонов,Виктор Финк,Михаил Слонимский,Юрий Вебер,Семен Розенфельд,Николай Брыкин,Кирилл Левин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 51 (всего у книги 52 страниц)
Подбежали мы к старичку…
И вдруг, смотрю, убежала моя сучка. Кобель, безусловно, тут, кобель, замечайте, не исчез, а сучки нету.
Люди после говорили, будто видели ее на дворе, будто она ела косточку, да только вряд ли, не знаю, не думаю… Дело это совершенно удивительное…
Так вот подошли мы к старичку. Позвали фершала. Фершал ранку осмотрел.
– Да, – говорит, – это собачий укус небольшой сучки. Ранка небольшая. Маленькая ранка. Не спорю. Но, – говорит, – наука тут совершенно бессильна. Нужно везть старичка в Париж, – наверное, сучка была бешеная.
Услышал это старичок, задрожал, увидел меня.
– Бейте, – закричал, – его! Это он подзюкал сучку, он на мою жизнь покусился. Ой-е-ей, – говорит, – умираю и завещаю вам перед смертью: гоните его отсюда.
Ну, думаю, вот и беда-бедишка произошла через эту белую сучку. Недаром я ее в лесу испугался.
А подходит тут ко мне задушевный приятель Утин.
– Вот, – говорит, – тут налево – порог. Больше мы с тобой не приятели!
Гиблое местоМного таких же, как и не я, начиная с германской кампании, ходят по русской земле и не знают, к чему бы им такое приткнуться.
И верно. К чему приткнуться человеку, если каждый предмет, заметьте, свиное корыто даже, имеет свое назначение, а человеку этого назначения не указано? И через это человеку самому приходится находить свое определение.
И через это, начиная с германской кампании, многие ходят по русской земле, не понимая, что к чему.
И таких людей видел я немало и презирать их не согласен. Такой человек – мне лучший друг и дорогой мой приятель. Поскольку такой человек ищет свое определение. И я тоже это ищу. Но только не могу найти, поскольку со мной случаются разные бедствия, истории и происшествия.
Конечно, есть такие гиблые места, где кроме таких как я, и другие тоже ходят. Жулики. Но такого страшного жулика я сразу вижу. Взгляну и вижу, какой он есть человек.
Я их даже по походке, может быть, отличу, по самомалейшей черточке увижу.
Я вот, запомнил, встретил такого человека. Через него мне тоже одна неприятность произошла. А я в лесу его встретил.
Так вот, представьте себе – пенек, а так – он сидит. Сидит и на меня глядит.
А я иду, знаете ли, и его будто и не примечаю.
А он вдруг мне и говорит:
– Ты, – говорит, – это что?
Я ему и отвечаю:
– Вы, – говорю, – не путайтесь, иду я, между прочим, в какую-нибудь там деревню на хлебородное местечко в рабочие батраки.
– Ну, – говорит, – и дурак (это про меня то есть). Зачем же ты идешь в рабочие батраки, коли я, может быть, желаю тебя осчастливить? Ты, – говорит, – сразу мне приглянулся наружной внешностью, и беру я тебя в свои компаньоны. Привалило тебе немалое счастье.
Тут я к нему подсел.
– Да что ты? – отвечаю. – Мне бы, – говорю, – милый ты мой приятель, вполне бы неплохо сапожонками раздобыться.
– Гм, – говорит, – сапожонками… Дивья тоже. Тут, – говорит, – вопрос является побольше. Тут вопрос очень даже большой.
И сам чудно как-то хихикает, глазом мне мигун мигает и все говорит довольно хитрыми выражениями.
И смотрю я на него: мужик он здоровенный и высокущий, и волосы, у него, заметьте, так отовсюду и лезут, прямо-таки лесной он человек. И ручка у него тоже особенная. Правая ручка у него вполне обыкновенная, а на левой ручке пальцев нет.
– Это что ж, – вспрашиваю, – приятель, на войне пострадал в смысле пальцев-то?
– Да нет, – мигает, – зачем на войне. Это, – говорит, – дельце было. Уголовно-политическое дельце. Бякнули меня топором по случаю.
– А каков же, – вспрашиваю, – не обидьтесь только, случай-то?
– А случай, – говорит, – вполне простой: не клади лапы на чужой стол, коли топор вострый.
Тут я на него еще раз взглянул и увидел, что он за человек.
А после немножко оробел и говорю:
– Нет, – говорю, – милый ты мой приятель. Мне с тобой не по пути. Курс у нас с тобой разный. Я, говорю, не согласен идти на уголовно-политическое дело, имей в виду. Я человек, говорю, вполне кроткий, потребности у меня небольшие. И прошу – оставьте меня в покое.
Так вот ему рассказал это, встал и пошел.
А он мне и кричит:
– Ну, и выходит, что ты дурак и старая дырявая тряпка (это на меня то есть). Пошел, – говорит, – проваливай, покуда целый!
Я, безусловно, за березку да за сосну – и теку.
И вот, запомнил, пришел в деревню, выбрал хату наибогатенькую. Зашел. Наймусь, думаю, тут в батраки. Наверное кормить будут неплохо. А то я сильно отощал. И вот зашел.
А жил-был там мужик Егор Савич. И такой, знаете ли, прелестный говорун мужик этот Егор Савич, что удивительно даже подумать. Усадил он меня, например, к столу, хлебцем попотчевал.
– Да, – отвечает, – это можно. Я возьму тебя в работники. Пожалуйста. Что другое – не знаю, может быть, ну, а это – сделайте ваше великое удовольствие – могу. Делов тут хотя у меня немного и даже чересчур мало, и вообще работы у меня почти нету, но зато мне будет кое с кем словечком переткнуться. А то баба моя – совсем глупая дура. Ей бы все пить да жрать, да про жизнь на картишках гадать. Можете себе представить. Так что я тебе прямо скажу – найму не без удовольствия. Только, – говорит, – приятный ты мой, по совести тебе скажу, место у нас тут гиблое. Народу тут множество – многое до смерти испорчено. Босячки всякие так и ходят под флагом бандитизма. Поп вот тоже тут потонул добровольно, а летом, например, матку моей бабы убили по случаю. Тут, приятный ты мой, места вполне гиблые. Смерть так и ходит, своей косой помахивает. Но если ты не из пугливых, то, конечно, оставайся.
Так вот поговорили мы с ним до вечера, а вечером баба его кушать подает.
Припал я тут к горяченькому, а он, Егор Савич, так и говорит, так и поет про разные там дела-делишки и все клонит разговор на самые жуткие вещи и приключения, и сам дрожит и пугается.
Рассказал он мне тогда, запомнил, случай, как бабку Василису убили. Как бабка Василиса у помойной кучи присела, а он, убийца, так в нее и лепит из шпалера и все мимо. Раз только попал, а после все мимо.
А дельце это такое было:
Пришли к ним два человека и за стол без слова сели. А бабка Василиса покойница – яд была бабка.
Ладно. Бабка Василиса видит, что смело они так сели, и к ним.
– Вы, – говорит, – кто же такие будете, красные, может быть, или, наверное, белые?
Те усмехнулись и говорят:
– А ты угадай, мамаша. Ежели угадаешь, то мы тебя угостим свиным шпиком. А ежели нет, то извиняемся – на тот свет пошлем. Нынче жизнь не представляет какой-нибудь определенной ценности, а это у нас будет вроде интересной игры, которая нас подбодрит на дальнейшее путешествие.
Бабка Василиса испугалась и затряслась. Сначала она так сказала, потом этак.
Те говорят:
– Нет, не угадала, мамаша. Мы – зеленая армия. И мы идем против белых и против красных под лозунгом «Догорай, моя лучина».
И тут они взяли бабку и застрелили ее во дворе.
И когда это Егор Савич рассказал, я его побранил.
– Чего ж это ты, – побранил, – за бабку-то не вступился? Явление это вполне недопустимое.
– Да, – говорит, – недопустимое, сознаю, но, – говорит, – если б она мне родная была матка, то – да, то я, я очень вспыльчивый человек, я, может быть, зубами бы его загрыз, ну, а тут не родная она мне матка – бабы моей матка. Сам посуди, зачем мне на рожон было лезть?
Спорить я с ним не стал, меня ко сну начало клонить, а он так весь и горит и все растравляет себя на страшное.
– Хочешь, – говорит, – я тебе еще про попа расскажу? Очень, – говорит, – это замечательное явление.
– Что ж, – отвечаю, – говори, если на то пошло. Ты, – говорю, – теперь хозяин.
Начал он тут про попа рассказывать, как поп тонул.
– Жил-был, – говорит, – поп Иван, и можете себе представить…
Говорит это он, а я слышу – стучит ктой-то в дверь, и голос-бас войти просит.
И вот, представьте себе, входит этот самый беспалый, с хозяином здоровается и мне все мигунмигает.
– Допустите, – говорит, – переночевать. Ночка, – говорит, – темная, я боюсь. А человек я богатый. Могут обокрасть.
И сам, жаба, хохочет.
А Егор Савич так в мыслях своих и порхает.
– Пусть, – говорит, – пусть. Я ему про попа тоже расскажу… Жил-был, – говорит, – поп, и, можете себе представить, ночью у него завыла собака…
А я взглянул в это время на беспалого, – ухмыляется, гадюка. И сам вынимает серебряный портсигарчик и папироску закуривает.
«Ну, – думаю, – вор и сибиряк. Не иначе, как кого распотрошил. Ишь ты, какую вещь стибрил».
А вещь – вполне роскошный барский портсигар. На нем, знаете ли, запомнил, букашка какая-нибудь, свинка, буковка…
Оробел я снова и говорю для внутренней бодрости:
– Да, – говорю, – это ты, Егор Савич, например, про собаку верно. Это неправда, что смерть – старуха с косой. Смерть – маленькое и мохнатенькое, катится и хихикает. Человеку она незрима, а собака, например, ее видит, и кошка видит. Собака как увидит – мордой в землю уткнется и воет, а кошка – та фырчит, и шерстка у ней дыбком становится. А я вот, – говорю, – такой человек, смерти хотя и не вижу, но убийцу замечу издали и вора, например, тоже.
И при этих моих словах на беспалого взглянул.
– У… у…
Как завоет собака, так мы тут и зажались.
Смерти я не боюсь, смерть мне даже очень хорошо известна по военным делам, ну, а Егор Савич – человек гражданский, частный человек.
Егор Савич как услышал «у… у…», так посерел весь будто лунатик, заметался, припал к моему плечику.
– Ох, – говорит, – как вы хотите, а это, безусловно, на мой счет. Ох, – говорит, – моя очередь. Не спорьте.
Смотрю – и беспалая жаба сидит в испуге.
Егора Савича я утешаю, а беспалый говорит такое:
– С чего бы, – говорит, – тут смерти-то ходить? Давайте, говорит, лягем спать поскореича. Завтра-то мне (замечайте) чуть свет вставать нужно.
«Ох, – думаю, – хитровой мужик, как красноречиво выказывает свое намеренье. Ты только ему засни, а он хватит тебя, может быть, топориком и – баста, чуть свет уйдет».
Нет, думаю, не буду ему спать, не такой я еще человек темный.
Ладно. Пес, безусловно, заглох, а мы разлеглись, кто куда, а я, запомнил, на полу приткнулся.
И не знаю уж, как вышло, может, что горяченького через меру покушал, – задремал.
И вот представилась мне во сне такая картина. Снится мне, будто сидим мы у стола, как и раньше, и вдруг катится, замечаем, по полу темненькое и мохнатенькое, вроде крысы. Докатилось оно до Егора Савича и – прыг ему на колени, а беспалый нахально хохочет. И вдруг слышим мы ижехерувимское пение, и деточка будто такая маленькая в голеньком виде всходит и передо мной во фронт становится и честь мне делает ручкой.
А я будто оробел и говорю:
– Чего, – говорю, – тебе, невинненькая деточка, нужно? Ответьте мне для ради бога.
А она будто нахмурилась, невинненьким пальчиком указывает на беспалого.
Тут я и проснулся. Проснулся к дрожу. Сон, думаю, в руку. Так я об этом и знал.
Дошел я тихоньким образом до Егора Савича, сам шатаюсь.
– Что, – вспрашиваю, – жив ли? – говорю.
– Жив, – говорит, – а что такоеча?
– Ну, – говорю, – обними меня, я твой спаситель, буди мужиков, вязать нужно беспалого сибирского преступника, поскольку он, наверное, хотел тебя топором убить.
Разбудили мы мужиков, стали вязать беспалого, а он, гадюка, представляется, что не в курсе дела.
– Что, – говорит, – вы горохом объелись, что ли? Я, – говорит, – и в мыслях это убийство не держал. А что касается моего серебряного портсигара, то я его не своровал, а заработал. И я, – говорит, – могу хозяину по секрету сказать – чем я занимаюсь.
И тут он наклоняется к Егор Савичу и шепчет.
Видим, Егор Савич смеется и веселится и так мне отвечает:
– Я, – говорит, – тебя рабочим к себе не возьму. Ты, – говорит, – только народ смущаешь. Этот беспалый человек есть вполне прелестный человек. Он – заграничный продавец. Он для нас же, дураков, носит спирт из-за границы, вино, коньяк и так далее.
«Ну, – думаю, – опять со мной происшествие случилось. На этот раз, – думаю, – сон подвел. Не то, – думаю, – во сне видел, чего надо. А все, – думаю, – мое воображение плюс горячая пища. Придется, – думаю, – снова идти в поисках более спокойного места, где пища хорошая и люди не так плохи».
Собрал я свое барахлишко и пошел.
А очень тут рыдал Егор Савич.
– Прямо, – говорит, – и не знаю, на ком теперь остановиться, чтоб чего-нибудь рассказывать.
Проводил он меня верст аж за двадцать от гиблого места и все рассказывал разные разности.
1921 г.
Виктор Финк
Комбатанты
1. КапралЯ нашел в Париже своего старого товарища Рене. Ф.
В университете мы с первого курса сидели на одной скамье, в Латинском квартале жили в смежных комнатах и вместе мечтали о сверкающей жизни.
Едва вспыхнула война, Рене стал рваться в армию. Он с нетерпением ожидал, когда двери рекрутских бюро откроются для иностранцев. Ждать пришлось целых три недели – до двадцать первого августа. Ожидание было для него полно тревог, – а вдруг не возьмут? У него было слабое здоровье и близорукие глаза.
Рене был человек серьезный. Его влекло на войну не искание военных приключений, подвигов, славы, геройства, не то безотчетное чувство наивного юношеского идеализма, которое угнало на поля сражений десятки тысяч молодых людей. Нет! Рене видел в войне страшную и истребительную катастрофу, он знал заранее, что она будет полна бедствий и горя. Но он считал, – как и многие, – что военная гроза развеет удушье, в котором жила Европа, и принесет людям новую, лучшую жизнь.
Двадцать первого августа мы оба ушли в армию и были определены в иностранный легион.
Сначала нас разместили в разные батальоны, и мы еще в тылу потеряли друг друга, но на фронте мы неожиданно встретились глухой ночью у фермы Шодар, которую с короткими интервалами молотили артиллерии – немецкая, французская и английская. Я тогда попросился в роту Рене, и он был моим капралом.
Война оказалась, не похожей на то, что мы предполагали. Мы месяцами гнили в окопах, нас поедали вши, и невидимые артиллеристы расстреливали нас издалека.
Служба в легионе была особенно тяжела. Нами командовали и помыкали воры и убийцы.
Волонтеры ворчали, хлопотали о переводе в другие полки; однажды произошла драка между группой волонтеров-интеллигентов и старыми волками легиона. Восемнадцать волонтеров ушли за эту драку на каторгу, девять было расстреляно.
Странное и нередко недружелюбное чувство вызывала у товарищей стойкость, которую среди всех испытаний проявлял Рене Ф. Он точно не видел ужасов нашей жизни. Этот тщедушный человек не страдал от лишений. Рене Ф. не видел их. Его глаза фанатика были устремлены вперед, они видели только высокую конечную цель, – он боролся за право и справедливость, за свободу и братство.
Мы проделали кампанию, расстались и ничего не знали друг о друге свыше двадцати лет.
Я нашел его по телефонной книге. Он не считал меня в живых. Через несколько минут я был у него. Мне бросился на шею господин с седыми висками.
Рене Ф. уже давно адвокат. Он встретил меня, окруженный семьей. Нарядная дама стояла рядом с ним. Двое детей вытянулись в почтительном любопытстве. Горничная в белом переднике таращила глаза из-за спины хозяйки. Было даже несколько чопорно, но за обедом Рене пришел в благодушное настроение. Он подражал петушиному голосу профессора Кана, у которого мы слушали римское право, он говорил короткими и резкими фразами нашего ротного командира. Капрал разливал вино, пил, крякал, веселился, пел и был великолепен.
Потом мы попрощались с хозяйкой и поехали в старый Латинский квартал. На улице Соммерар мы остановились перед домом, в котором жили в 1912 году.
– Ты помнишь? – сказал Рене. – Тогда была балканская война. Мы собирались идти не то за турок против болгар, не то за болгар против турок!
Помню, конечно.
– Если бы не экзамены, мы бы уехали на Балканы. На чью сторону стать, мы бы решили в поезде…
Я рассмеялся.
– Ага! – воскликнул Рене. – Смеешься? А мне не смешно. Теперь, когда у меня в плече дырка, а на йоге рубец, теперь я понимаю, что это такое было за блюдо, этот наш энтузиазм в четырнадцатом году. Общество так устроено, чтобы миллионам людей было не по себе, чтобы они никому не были нужны и не знали, куда себя девать. Это очень важно на случай войны. Когда приходит война, всех берут. Сразу все делаются нужны и искренне кричат «ура!» Потому что это великое дело для человека – почувствовать, что он нужен, что он не посторонний в жизни. Да! Хитро устроен мир.
– Капрал, – сказал я, – у тебя сделалось хорошее зрение на старости: ты довольно ясно стал видеть вещи. Но ты удивляешь меня, капрал. Я думал, ты – патриот и счастливый человек. А ты вот кто.
– Патриот? – сказал Рене. – Я?
– Ну да! Вот ты и орден носишь!
– Почетный легион? Для клиентов. Чтоб больше платили!.. Почему ты не спрашиваешь, где моя военная медаль и бронзовый крест?
– Правда, – сказал я. – Ты их не носишь? Этак никто и не узнает, что у тебя есть военные заслуги. Почетный легион можно ведь получить и за торговлю.
Он огрызнулся.
– Ну да! Пусть лучше меня принимают за торговца, чем за дурака.
– Так. Что же это ты?
– Ничего. Идем пиво пить.
Мы пошли. На улицах Латинского квартала, у здания университета, каждый камень напоминал нам о годах юности. Здесь мечтали мы о братстве и свободе. Здесь приняли мы и войну так, как она была нам представлена, – как войну за право и справедливость. Мы считали, что нам выпала великая удача, и ринулись в полки.
– Понимаешь, что получается? – внезапно сказал Рене, не то угадывая мои мысли, не то отвечая своим. – Мы обанкротились. Поубивали миллионы людей, утопили мир в крови. Потом кровь высохла, и мир снова тут – какой был, такой и есть.
– Что это ты все так разочарованно? – сказал я.
Мы уселись на террасе «Двух истуканов».
– Говори, что и как?
– Да так! – хмуро сказал Рене. – Ничего.
Все-таки.
– Что тебе сказать? – точно выдавил он из себя. – Ничего не вышло. Ну, есть семья, есть практика, есть три ордена, две уборных есть в квартире. И все…
– Расскажи мне про Россию, – сказал он, помолчав. – Впрочем, нет, не надо! Я все знаю. Ты расскажешь мне про русских солдат. Не говори мне о них. Русский солдат! Этот тип пошел на пролом! Он не знал сомнений! А у нас каждая живая мысль изъедена. Сомнение, скепсис, бессилие копошатся в ней, как черви, и делают ее падалью! Если бы организм не вырабатывал гормонов иронии и цинизма, каждый давно перерезал бы себе Горло за утренним бритьем.
– Ты сделался желчен, капрал! – сказал я. – Ты напоминаешь мне капитана Персье!
– Ротного? Если бы!.. Он был колониальный убийца. А я – интеллигент. Ты сейчас, конечно, прилепишь – «буржуазный» интеллигент. Ну и что ж? Пусть так! Но я был молод и дрался за справедливость. А где она?
Настала ночь. Кафе закрывалось. Мы взяли такси. Вскоре мы были у площади Звезды. Париж спал. Триумфальная арка еле прорезалась сквозь темноту ночи.
Мы вышли.
Прикрытая цветами, венками и лентами, лежала под аркой громадная плита: «Здесь покоится неизвестный солдат, умерший за Францию». Синий пламень подымался из изголовья могилы. Торжественная тишина окутала нас.
– Быть может, из наших кто-нибудь? – сказал я.
– Все равно! – угрюмо ответил Рене. – Солдат. Самый невиновный из всех расстрелянных.
Мы обнажили головы.
2. Поездка в БорьеМы поехали на поля сражений, нам хотелось видеть наш участок в Шампани.
В Реймсе мы взяли автомобиль и отправились на запад.
– Вот тут был Заячий бульвар, – говорит шофер Мариус, указывая на узкую полоску виноградника. – А этот лесок они тогда звали Зубной щеткой. Они были шутники, эти бородачи! Они для всего находили словцо.
Из-за поворота дороги возникает одинокая часовня.
– Это в память деревни. Ее уже больше нет. Уничтожена.
Мы пересекаем несколько селений. Некогда мы видели их в огне и развалинах. Теперь в них бьется новая жизнь. Они сверкают розовой черепицей.
Мариус говорит:
– После войны построили. А та, прежняя, разрушена и не восстановлена. Молитесь за нее! Ее уж нет!
Потом он добавляет:
– Я сам тоже из такой деревни. Я из Рипона. Это на Марне. Вы, может, слыхали про такое название? Потому что сейчас Рипона нет. В четырнадцатом году его разбили немцы, потом его вконец добили французы. Когда немцы стали наваливаться, население пустилось наутек. Осталось только несколько чудаков. Вероятно, они со страху сошли с ума, потому что они выкопали громадную яму и пересыпали туда всех покойников, которые, быть может, сто лет лежали на кладбище. Там еще мой дед лежал – наполеоновский солдат. А сейчас Рипона больше нет. Я говорю – из Рипона, а я ниоткуда… Нет Рипона. Точка – и все.
Лесок, поле, военное кладбище.
На двух столбах большая доска с надписью указывает, что в пятистах метрах лежит такая-то деревня. Но деревни нет, никто теперь уже не установит среди сорных трав, где именно она находилась.
– Совсем как Рипон, – говорит Мариус. – Страшные у нас там бои были. По самый восемнадцатый год Немцы ввалились в августе четырнадцатого. А в ноябре их стали понемногу выживать. Четыреста метров отобрали в ноябре, потом еще столько же в декабре. А потом началась позиционная война с подкопами и взрывами. Сильные бывали взрывы.
Мариус смеется.
– Один сапер поймал сто пятьдесят осколков. Ах, мсье, если бы слышали, как этот чудак потом смешно рассказывал: «Я, – говорит, – искал свою ногу. Спасибо, – говорит, – ребята из взвода подобрали ее!» Одного типа из Эро, крестьянского парня, ранило в руку, он сам себе ампутировал ее ножом. Вот какие герои были. А Рипона все-таки отобрать не смогли! Только в восемнадцатом году Гуро отобрал эту землю. Но деревни уже больше не было. Только на карте осталось место. А деревня пропала.
Мы пересекаем канал. Двадцать лет хранил я в памяти видение этого канала. Оно осталось у меня как непостижимый образ тишины и покоя: вода еле двигалась тогда среди густых зеленей, брошенная баржа стояла у берега и окровавленная куртка зуава валялась на борту.
Кладбище спокойно и просторно разместилось у деревни Понтарев, на том месте, где некогда стоял наш обоз. Сторож инвалид на деревянной ноге открыл нам калитку. Мы долго и грустно бродили среди крестов.
– Если бы мы умели так правильно стоять в строю, как правильно наши ребята построились в могилах, капитан Персье ругался бы гораздо реже, – заметил Рене.
Мы пересекли лужайки и чащи, где двадцать лет назад бродили мы с полком. Костры легиона снова дымились у меня перед глазами, снова ворчала, пела, веселилась и ругалась вторая рота. Мы искали славы и победы.
Мариус сказал:
– Ему, однако, повезло в жизни, этому гиппопотаму!
– Которому?
– А этому сторожу. Вот он сторож на кладбище. А не оторвало бы ему ногу, ходил бы без работы.
– Ладно, – сказал Рене. – Езжайте в Борье. Мы хотим видеть Борье. Пять километров отсюда.
– Вот тут, за поворотом, она жила, вдова с родимыми пятнышками. Помнишь ее? Уже она теперь старушка, должно быть! – говорит Рене, когда мы въезжали в Борье.
Наш взвод жил одно время в погребе помещичьего замка. Мы не знали, кто выпил вино и кто разбил бутылки, но спать нам пришлось на битом стекле.
– Опыт показывает, – высокопарно сказал однажды мой незабвенный друг, легионер Лум-Лум, – что битое бутылочное стекло, даже будучи перекрыто солдатской шинелью, является лишь суррогатом волосяного матраца и не может спорить с ним в отношении комфорта.
Мы давно проголодались и отправились разыскивать колесного мастера, – во время войны он торговал булками и вином. На месте колесной мастерской стоит небольшая, но опрятная гостиница с рестораном. Ее содержит сын мастера, бывший пехотный солдат, потерявший руку на Сомме, бывший преподаватель математики, махнувший уцелевшей рукой на науку и принявшийся за зарабатывание денег.
Он накормил нас гораздо лучше, чем кормил его отец. Он принес и бутылку вина. Но мы сидели молча. Лучше было не говорить о том, о чем хотелось говорить обоим: о товарищах, которые здесь погибли, о крови, о которой мы думали, что она пролита, а она оказалась вылитой.
– Кстати, мсье Мариус, – совершенно некстати восклицает Рене. – Вы, пожалуй, и не знаете, кто этот господин, который делает нам честь своим обществом и развлекает нас своим молчанием.
Шофер взглянул на меня и смущенно остановил вилку, поднесенную ко рту.
– Прошу прощения, – сказал он, – не знаю. Вы наняли меня на стоянке.
– Это известный мсье Дурак, – с серьезностью сказал Рене. – Неужели вы не слыхали? Мсье Дурак!
– Нет, господа, – сказал Мариус, – я не имел чести…
Рене поднял свой бокал, Мариус подхватил свой. Он сказал мне почтительно:
– За ваше здоровье, мсье Дурак! Очень рад, мсье Дурак! Право же, какая честь!
– Не удалось тебе пройти неузнанным, старый брат! – буркнул Рене. – Ну, что ж…
– Очень мило, что ты помнишь кличку, которую тебе дали русские студентки еще на первом курсе, – сказал я. – Но мне казалось установленным, что из нас двоих только ты имеешь право так называться. Я не претендую.
Я сказал это по-немецки, не желая вмешивать шофера.
– Ну, еще бы! – по-немецки же ответил Рене. – Ты двадцать лет лечишься. Но в четырнадцатом году ты в армию пошел? Под Борье воевал? Под Реймсом воевал? А за что? Молчи уж. Зачем скромничать, мсье Дурак?
Мариус сказал:
– Я расскажу вам про одного чудака, У нас в Районе был некий мсье Шапрон. Он был мэр Рипона. Сейчас он живет в Сюиппе. Вы, конечно, слыхали про Сюипп. Там очень пекло во время войны. Эти шутники, артиллеристы, оставили после себя только мусор. И вот он живет в Сюиппе, потому что Рипона больше нет.
Хозяин принес счет. Мы расплатились и пошли пить кофе в трактир. В трактире Мариус сказал:
– Я вам говорил про этого чудака, который живет в Сюиппе. Рипона больше нет. Так вот иногда этот господин Шапрон уходит на те старые места, где когда-то был Рипон, и бродит там. Как тень прошлого. Он с совершенной точностью устанавливает место, где был его дом и его двор, и где стояла его конюшня, и где начиналось его поле. Он – чудак. Он – тень прошлого. Он даже может показать, где он стрелял куропаток в тринадцатом году. Нас было семьдесят пять жителей в Рипоне. По мобилизации мы дали семь голов пехоты. Шестеро убиты. Я один остался. Вольные жители тоже исчезли. Одни вымерли, другие рассеялись по Франции. Потому что Рипона больше нет, а селиться на старом месте нельзя: там все завалено неразорвавшимися снарядами.
Из трактира мы пошли на нашу старую позицию. Улица, по которой мы проходили во время войны, теперь залита асфальтом, но она такая же кривая и горбатая, как была. На околице, на старом месте по-прежнему стоит чугунное распятие.
Туманное небо висело, как и в тот день, когда я впервые попал в эти места в четырнадцатом году.
– Ну, – сказал Рене, – отсюда двести метров влево, и мы дома.
Немного поодаль, влево от распятия, тощий кустарник скрывал во время войны наши окопы.
Надписи на столбах напоминают, что сюда нельзя ступать: неразорвавшиеся снаряды, бомбы и гранаты еще таят смерть. Проклятие висит над этой землей. Траншеи раскрыты, не засыпаны воронки и фугасные ямы. Куски металла, ржавые осколки снарядов, поломанные котлы походных кухонь, ружейные стволы, баклаги, гильзы, солдатские кости, колючая проволока, банки из-под консервов валяются среди пустыни, которая вздыблена стрельбой. Ничто не растет на ней, и птицы давно улетели из этих мест. Среди скорбного одиночества лежат тут и там груды камней, остаток стены, ступени разбитой лестницы. Зрелище далекой и давно разрушенной жизни встает, как в дыму, и ест глаза.
– Нет порядка, – говорит Рене недовольным тоном капрала. – Какая это скотина набросала мне мусор в траншею?
– Чего ты орешь, капрал? – сказал я. – Ведь здесь третий взвод! Они всегда были неряхи. Наше место дальше.
Мы прошли к месту четвертого взвода. Оно было так же загажено, как и другие…
Неожиданно появился безрукий хозяин гостиницы. Он взошел на бугорок и начал:
– Господа! Перед нами лежит участок фронта мировой войны, известный под именем Шмен-де-Дам. Вы видите дорогу. Предание приписывает строительство этой дороги Нарбонну, который открыл ее в тысяча семьсот семидесятом году для того, чтобы дочери короля Людовика Пятнадцатого, дамы Франции, могли проехать в коляске в его дворец, находившийся в Бов. В действительности же эта дорога была построена гораздо раньше. По ней проходила Жанна д’Арк. Так или иначе, господа, очаровательное имя «дороги Дам» обозначает одно из самых знаменитых полей битв во Франции, – поле, где французский солдат дал наиболее высокие доказательства своего героизма.
Безрукий говорил, не глядя ни на поле, ни на нас. Он машинально повторял объяснения, которые давал приезжим в течение двадцати лет и в которых он никогда больше не сможет изменить ни одного слова. Он описал сентябрьские бои 1914 года, французское наступление 16 апреля 1917 года, майские и октябрьские бои 1918 года.
Пустыня, которая лежала перед нами, заваленная смертью, была наша. Мы не слушали его, а он говорил долго, с назойливой монотонностью гида.
Наконец он кончил и спустился со своего бугорка. Он подошел к нам.
– Эх, господа, – сказал он, раскуривая трубку. – Годы расцвета уже прошли для нас. Туристы стали гораздо реже приезжать на поля сражений. Это уже далеко не то, что было в первое время. Хоть снова возьмись за математику.
Он говорил теперь другим, простым тоном, даже более простым, теплым и человечным, чем обыкновенно. Так говорят иногда за кулисами актеры, снимая с себя грим и парики.
Внезапно встрепенулся Мариус:
– Я не закончил вам про мсье Шапрона. С тех пор, как нет Рипона, он все ходит туда, смотрит-смотрит на свой участок, где был дом его, конюшня и поле. Потом он пробирается туда, где было кладбище. У него там сын лежал, мой сверстник, – он умер молодым. И вот он приходит на кладбище и плачет. Я так думаю, что он, быть может, и не над тем местом плачет, потому что кто его теперь знает, где было кладбище, если Рипона нет? Это мое мнение! А тем более старику семьдесят пять лет! Что он может помнить? Их четверо, таких чудаков. Они все из Рипона: мсье Шапрон – мэр, и мсье Каньо, мсье Леру, мсье Рав. Мсье Шапрон – мэр, а все остальные муниципальные советники. Каждые четыре года они приходят на пустырь и устраивают выборы. Они переизбирают мэра, помощника и двух советников. После выборов они уходят в поле и плачут. Потом они возвращаются в Сюипп и напиваются.
Безрукий смотрел на Мариуса укоризненными глазами: шофер держал себя слишком развязно со своими седоками, он говорил слишком много и слишком громко.
А Мариус расхохотался:
– Вы знаете, что недавно устроили в Рипоне? Господа, я вам расскажу, что устроили в Рипоне, и вам станет смешно: артиллерийский полигон! Пригнали солдат и снова стреляют по старым местам. Прямо вовсю! Они стреляют по теням, господа, потому что Рипона, собственно говоря, нет.








