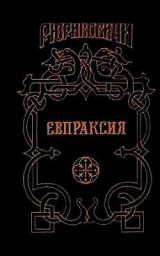
Текст книги "Евпраксия"
Автор книги: Михаил Казовский
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц)
– Очень щедро! – оценил секретарь, помечая грифельной палочкой на листе пергамента. – В армии и так перебои с поставками...
Кесарь огрызнулся:
– Делай как велели. И ещё я желаю говорить с её величеством. Позови сюда.
– Берсвордт утверждает, что её величество не встаёт с постели.
– Пусть её поднимут. Приведут под руки. Принесут, чёрт возьми! Я хочу говорить с собственной женой! В чём дело?
– Сей момент исполним... – Испугавшийся камергер, кланяясь, попятился и, открыв задом дверь, испарился.
«Отрубить бы ему башку, – зло подумал Генрих. – Только ничего от этого не изменится. Новый будет не лучше. Заколдованный круг. Вот в чём наша трагедия!»
Полчаса спустя, опираясь на локоть каммерфрау, появилась Ксюша – белая как мел, сильно похудевшая, с мутным взором; тем не менее чёрный бархат платья с чёрной накидкой на волосах шли ей необычайно. Слабо поклонилась при входе.
– Сядьте, Адельгейда. Лотта, помогите ей и оставьте нас.
– Слушаюсь, ваше величество...
Женщина сидела недвижно, как изваяние. Даже не моргала. Государь пододвинул ей наполненный кубок:
– Пригубите граппы. Подкрепитесь немного.
Разомкнув слипшиеся губы, Евпраксия ответила:
– Не могу. Не буду.
– Я приказываю вам.
– Даже мысль о вине мне невыносима.
– Если вы не выпьете, я заставлю силой.
– Вы бесчеловечны, ваше величество.
– Да, я монстр. Богохульник, еретик, дьявольский приспешник – разве вы не знаете, как меня зовут на базарных площадях?
– Я давно не ела. Крепкое вино мне закружит голову.
– Вот и хорошо, потому что на трезвую голову не поговоришь.
– Это вы так считаете.
– Это я так считаю. Пейте, пейте.
Еле подняла кубок и дрожащей рукой поднесла ко рту. Сделала глоток, а потом неожиданно ещё несколько. Но остановилась, опустила сосуд на стол и прикрыла веки.
Генрих произнёс:
– Вот и замечательно. А теперь выслушайте меня.
У супруги дрогнули ресницы, и она взглянула на императора несколько осмысленней. Задала вопрос:
– Вы со мной разводитесь?
Он слегка даже умилился:
– Нет.
Помолчал и продолжил:
– Впрочем, что скрывать, – вызывая вас, я намеревался сказать, что действительно разрываю с вами. Но в последнее мгновение передумал.
Адельгейда тихо спросила:
– Что же повлияло на ваше решение?
– Вы.
– Я? Не разумею.
– Просто появились и сели. Вся такая хрупкая, удивительная, воздушная. Понял, что хочу вас. Тут, немедленно, прямо на ковре у камина. – Самодержец дотронулся до её запястья, но она отдёрнула руку, в страхе отшатнувшись.
Выкрикнула жалобно:
– Нет! Оставьте! Это невозможно.
– Что ещё за глупость? – Муж поднялся.
Евпраксия выставила ладонь, отстраняясь от него в ужасе:
– Только не сегодня! Пять часов назад умер Лёвушка!..
– Да, я помню. И скорблю не меньше, чем вы. И желаю немедленно подарить жизнь новому созданию. – Наклонившись, он поцеловал её в лоб.
– Нет, не надо!
– Вы моя жена и не смеете мне отказывать. – Генрих целовал уже её брови, веки, скулы.
Ксюша отворачивалась, хрипела:
– Вы пьяны... вы не отдаёте себе отчёта...
Император не отступал:
– Полно, не упрямьтесь... Я вас обожаю... Если не хотите меня потерять... Сжальтесь надо мной... – И с животной жадностью впился в её раскрытые губы.
Евпраксия схватила серебряный кубок и заехала немцу по затылку. Но замах получился слабый, и металл по касательной лишь прошёлся по его волосам. Тут монарх сразу рассердился и, взглянув ей в лицо, воскликнул:
– Ах ты маленькая мерзкая тварь! Бить меня, супруга? – и наотмашь хлестанул её по одной щеке, а потом по другой.
Заслонив лицо руками, женщина заплакала. Кесарь, приходя в ярость, только распалился:
– Убери локоть! Убери локоть, я сказал! – и с такой чудовищной силой вдруг нанёс ей удар под подбородок, что она, вылетев из кресла, рухнула навзничь на ковёр, чуть не раскроив себе череп об основание камина.
Встать уже не успела. Он ударил снова, а потом бесцеремонно, грубо и разнузданно овладел ею на полу, приговаривая со злобой:
– Вот! Вот! Я тебя научу вежливости! Навсегда забудешь, как перечить своему господину! – и от каждого толчка вожделенно всхрапывал.
Чтоб не видеть его налитое кровью лицо, краснота которого усиливалась отблесками пламени в камине, Евпраксия зажмурилась и закинула голову назад, выгибая шею. Из груди её вырвался стон брезгливости. Ногти впились в ковёр, и она с отчаянием поняла, что сдаётся, что её протестующий разум отступает перед мощными импульсами тела, вспоминающего прежние радости их взаимного единения. И уже стонала от сладострастия.
По обыкновению, Генрих не отпускал её больше часа. Был неутомим и довёл до полного изнурения. Пережив четыре или пять пиков удовольствия, государыня больше не могла чувствовать и двигаться, даже думать. И когда монарх наконец поднялся, продолжала лежать в прострации, заголённая и измученная совсем.
Приводя одежду в порядок, он проговорил:
– Поднимайтесь, ваше величество, хватит симулировать отвращение к происшедшему. Я же видел: вы и сами заходились от радости, просто ваш паршивый характер вам не позволяет в этом признаться. Опустите юбки. Вдруг сюда войдут и увидят? Ну, давайте, давайте руку, я вам помогу.
Адельгейда зашевелилась, скрыла наготу, но руки не подала, пятясь, отползла, встала, опираясь на лежащее кресло, посмотрела на государя, раздувая ноздри:
– Можете меня вновь ударить. Можете повесить, отрубить голову, бросить с камнем на шее в Адидже. Только всё равно я скажу. Вы подонок, ваше величество. Грязная, зажравшаяся свинья. Всё, что говорят о вас на базарных площадях, истинная правда.
Генрих рассмеялся:
– Кипятитесь, кипятитесь, сударыня. После драки кулаками не машут.
Вытащив из-за пояса платок, Ксюша вытерла им губы и влагу, появившуюся в носу. Сухо заключила:
– Вы напрасно торжествуете раньше времени: драка ещё не кончена. Я вам отомщу. Страшно отомщу. И за «Пиршество Идиотов», и за Лёвушку, и за это насилие.
Император поморщился:
– Прекратите нести околесицу. Что вы можете? Ничего. Завтра после погребения я уеду. Вас же прикажу охранять вчетверо серьёзней. Вы теперь и шагу не ступите без присмотра. – Он открыл кувшин с граппой и отпил прямо через край; выдохнув, сказал: – И молите Бога, чтобы Он даровал вам беременность. Если будет мальчик, обещаю, что забуду навсегда вашу непочтительность. – Позвонил в колокольчик: – Позовите Берсвордт. Пусть проводит её величество. Наше сегодняшнее общение окончено.
Утром государыне принесли известие ещё об одной смерти: у себя в комнатёнке, не перенеся угрызений совести от кончины мальчика, наложила на себя руки Груня Горбатка.
Пятнадцать лет спустя,
Киев, 1107 год, лето
Мономах, вызволив сестру из Андреевской обители, свёз её сначала в княжеский дворец к Святополку, их двоюродному брату, и на все протесты Янки возвратить обратно возмутительницу спокойствия отвечал отказом, а когда Евпраксия за пару дней стала чувствовать себя лучше, счёл за благо переправить её в Вышгород, к матери-княгине. Та обрадовалась немало, угощала пасынка и дочь самыми достойными яствами. Причитала при этом:
– Тэвочки моя, ты такой есть худючий и бледный! Надо больше кушать. Пить кумыс и катык, в лес ходить и на речка, лакомиться ягода, молёко и мёд. Мы тебя быстро поправлять, очень опекать.
А Опракса спрашивала у брата:
– Как мне быть, Володюшко? К Янке не вернусь, это вне сомнений. Но куда податься? Ведь иные женские монастыри Киева побоятся теперь меня принять. А в другой какой-нибудь город уезжать не хочу. Тут под боком маменька, Катя, Васка. Как же я без них?
Мономах не знал, что ответить, пожимал в задумчивости плечами:
– Надо покумекать, дело непростое... Заодно решить с Катериной – ей-то оставаться в Андреевской обители тоже ведь нельзя. Злыдня Янка будет вымещать на сестре все свои обиды. В гроб загонит девку.
Евпраксия крестилась:
– Господи Иисусе! Помоги Хромоножке и не допусти измывательств над сим ангельским созданием.
– Да, она из нас самая невинная.
Не успел Владимир и дня погостить у мачехи, как из Киева прискакал нарочный: Святополк сообщал, что Переяславль осадили половцы во главе с Боняком, надо поспешать городу на выручку. Князь заторопился и велел немедля седлать коней. Евпраксия вышла проводить брата. Он сказал на прощание:
– Вот какая мысль посетила меня внезапно. Может, бить челом Феоктисту – настоятелю Печерской обители? Он один отважится не бояться Янки. Монастырь-то его мужской, но к нему примыкает несколько женских келий – для монахинь из княжеских и боярских семей. Там-то тебе и место.
Оживившись, она кивнула:
– Было бы неплохо. Жаль, что не успеешь выступить ходатаем за меня.
– Может, и успею, Бог даст. Если что, я пришлю человека с весточкой. – И вскочил в седло.
– Благодарна тебе за всё, мой спаситель и избавитель. Да хранит тебя Небо от напастей и тяжких ран! – Осенила его крестом.
– Будь здорова, милая. Помолись за меня и моё семейство.
Он действительно улучил момент среди воинских сборов в дорогу и заехал в Печерский монастырь. Феоктист был сухонький маленький старик лет примерно семидесяти, но достаточно крепкий и жизнерадостный. Пригласил Мономаха за стол, угостил сбитнем и ватрушками, а по ходу трапезы внимательно выслушал. Покачал головой сочувственно:
– Вот ведь Янка какая, право. Я и раньше знал, что она своих сестёр держит в чёрном теле, спуску не даёт за малейший проступок, но про эти зверства слыхом-то не слыхивал – чтобы запирать и держать на воде и хлебе, плоть свою истязать насильно – власяницей да плетью? Будто не христианка, а ирод. Да ещё кого – сводную сестрицу, порождение собственного батюшки? Просто удивительно...
– Янка невзлюбила княгиню Анну с самого начала, не желала признавать мачехой – может, оттого что они ровесницы, может, оттого что та половчанка... Я сие не ведаю... А потом эта нелюбовь перешла на троих ея деток. В меньшей степени на покойного Ростислава Всеволодича – он и Янка общались мало. И в каких-то несуразных формах – на Опраксу и Катю Хромоножку. С тех, я думаю, пор, как они отправились в школу для девочек при Андреевском монастыре, а сестра уже была там игуменьей.
Феоктист продолжил:
– А уж как княжна вернулась из немецких земель, Янка точно с цепи сорвалась – вроде нет других предметов для разговора, кроме как ругать Евпраксию. Уж такая она сякая, немазаная, «сука-волочайка», Господи, прости!
Мономах сказал:
– Ксюша после пострига приезжала ко мне в Переяславль – поклониться праху моей супруги. Мы подолгу толковали о ея немецком замужестве. Многое скрывает, но и то, что осмелилась мне поведать, повергает в оторопь. Этот Генрих Четвёртый – просто кровопивец, воплощение самого нечистого, тать, мучитель. Измывался над бедной Опраксушкой как хотел. А она терпела, потому что любила. Потому что закон велит. Но потом сбежала и отомстила. Так за что ж ея осуждать прикажете?
Настоятель не возражал:
– Осуждать нельзя. Надо пожалеть.
– Пожалейте ж, отче. Приютите у себя в женских кельях. Обещаю, что, когда отгоню Боняка от Переяславля, я велю прислать для обители Печерской щедрые дары.
Феоктист поблагодарил, но вздохнул с неким огорчением:
– Так-то оно так, от даров отказываться грех, но предвижу бучу, поднятую Янкой. Не иначе как к митрополиту пойдёт.
– Я и с ним переговорю. Слава Богу, что, греком будучи, он пока не лезет в наши русские распри. И рассудит по справедливости.
– Уповаю на сё, Володимере, очень уповаю.
Князь не обманул и добился одобрения у первосвятителя на Опраксин переход в другой монастырь. Правда, его высокопреосвященство счёл необходимым чинно порассуждать о латинской ереси, сбившей Адельгейду с пути истинного.
– Этот Папа Урбан... тоже самозванец, – говорил Никифор с неодобрением. – Кто таков вообще? Жалкий французишко Эд де Шатийон, в прошлом – приор Клюни. Всколыхнул Иеропию на Крестовый поход – под предлогом борьбы за Гроб Господень в Палестине, а на самом деле вознамерился силой провести унию церквей. Но Создатель не допустил подобного богохульства, и осада Константинополя провалилась. Православие как истинное учение выстояло. Единению с католиками-христопродавцами не бывать. – А про Евпраксию сказал: – Жаль ея, конечно. Выдавать за католиков русских девушек – лишь губить их души. Лучше уж за половцев даже. Те хотя и язычники, но свои. Не вероотступники. Пусть живёт в Печерской обители и замаливает грехи. Я не против.
Вот чего не успел в Киеве Владимир, так помочь бедной Хромоножке. Закрутился с подготовкой похода, выступил к Переяславлю в середине июля (плыли на нескольких ладьях – люди впереди, кони отдельно) и о Кате вспомнил уже в пути, миновав Белгород. «Тьфу ты, дьявол, – выругался про себя. – Вот ведь незадача! Пропадёт бедняга в лапах этой злыдни. Ну да ничего: буду жив – вернусь, подсоблю сестрёнке».
Там же, тогда же
В августе Евпраксия переехала к Феоктисту. Выкатила из Вышгорода в коляске, запряжённой парой лошадей, и велела обогнуть Киев с запада, по другую сторону от Днепра, дабы не столкнуться ни с кем из знакомых. Миновала сельцо Берестово, где почти век тому назад отдал Богу душу её прадедушка – князь Владимир Святой, окрестивший Русь. Тут любили проводить лето и другие князья – дед Ярослав, дядя Святослав Ярославич и отец Всеволод Ярославич. Вспоминая их, Ксюша осенила себя крестным знамением, глядя на церковь Спаса, выстроенную не так давно. А от Берестова до Печерской обители – несколько шагов.
Женские кельи располагались хоть и внутри монастыря, но стояли особняком, за Успенским собором, ближе к Троицкой надвратной церкви. Общей трапезной у монашек не было, ели каждая сама по себе. Но молились сообща, в небольшой часовне при митрополичьих палатах. И разгуливать просто так не имели права, уж не говоря о пещерах («печёрах»), где могла ступать лишь нога мужчины. Разрешалось инокиням работать в саду, хлеву и на огороде, а ещё, по особому дозволению митрополита, у него в библиотеке. Вот и весь «распорядок дня».
Феоктист вышел встретить прибывшую княжну, благосклонно принял её приветствия и поднёс для поцелуя свой массивный наперсный крест. Так сказал:
– Что ж, располагайся, сестра Варвара, обживайся, привыкай к нашему уставу. Будь как дома. Коль возникнут какие трудности, обращайся ко мне без всякого. Помогу, чем смогу.
Ксюша поклонилась:
– Благодарствую, благодарствую, отче. Ничего мне особенного не надобно, акромя тишины да покоя, книжных чтений да истовых молитв. Да ещё по праздникам повидаться с моими – маменькой, сестрой и приёмной дочкой.
– Никаких препятствий чинить не станем.
Первые недели протекли в безмятежности. Просыпались затемно, умывались ледяной водой из колодца и спешили к заутрене. Пели хором. После небольшой трапезы (каша, мёд, творог) помогали братьям-монахам убирать в Успенском соборе и других церквах и работали по хозяйству. В полдень обедали (овощи, похлёбка, яйца, рыба или курица, иногда – телятина, запивали квасом). В общей сложности молились пять раз в сутки. Вечеряли молоком и хлебом, фруктами и ягодами. И ложились рано, заперев курятник и хлев после дойки.
Евпраксия подружилась с сестрой Манефой – чуть постарше себя, сорокалетней, из боярского рода Чуриловичей, потерявшей мужа и троих детей на пожаре. Чудом не сгорела сама (приговаривая: «Кто должен утонуть, не горит»), а потом, от тоски и горя, подалась в монастырь к Феоктисту, дальнему родичу погибшего мужа; тот не отказал. У Манефы страшные ожоги зарубцевались, но серьёзно пострадали глаза – и от пламени, и от слёз, и от мук дальнейших; видела предметы как в тумане, а читать и писать не могла вовсе. Сёстры подсобляли ей, как могли, ограждали от тяжёлой работы, но она старалась не отставать, огорчалась, что хоть в чём-то уступает другим. Ксюша понемногу подбадривала её:
– Погоди, не спеши, не переживай. От волнений теряешь зрение больше. Время лечит. Мал-помалу очи придут в порядок.
– Совестно, Варварушка, – сетовала та. – Быть нахлебницей у моих сестёр.
– Ты ж не виновата в случившемся. С каждым такое может произойти. А христианский долг сильных и здоровых – печься о недужных и страждущих. Нам такая забота только в радость.
– Можно подумать, что ты не страждешь.
– Ну, во-первых, в последние седмицы меньше – мне в Печерской обители славно. Во-вторых, не больна глазами и ничем иным. Коли заболею – и мне помогут.
Вечерами, при зажжённой свече, Евпраксия читала вслух греческие книги, взятые в митрополичьей библиотеке, а Манефа слушала, иногда просила растолковать сложные места; получившая хорошее образование в Германии, Адельгейда объясняла уверенно. Часто к их посиделкам присоединялись остальные монашки, предаваясь богословским и житейским беседам. А на Яблочный Спас Евпраксия и Манефа, отпросившись у Феоктиста, посетили Вышгород, навестили княгиню Анну и увиделись с Катей Хромоножкой и Ваской.
Дочка Паулины сильно подросла, прямо повзрослела, говорила складно и ни капельки не стеснялась. Подарила приёмной матери вышитую ею собственноручно подушку – куст шиповника с красными цветами. А Опракса вручила девочке небольшое серебряное колечко с бриллиантиком, в детстве подаренное ей князем Всеволодом.
И сестре Манефе в Вышгороде очень понравилось, от души благодарила Варвару на обратном пути. Та кивала рассеянно: думала о словах, сказанных по секрету Хромоножкой.
Катя выглядела неважно: похудела, осунулась и напоминала подбитую птицу. На воде и хлебе больше не сидела, ибо митрополит, от Владимира Мономаха узнавший о бесчинствах Янки, запретил той измываться над сёстрами; но подспудные тычки и уколы Катя ощущала всё время.
– И сестра Серафима оказалась в немилости, – говорила монашка. – Из келейниц перевели ея в скотницы – убирать навоз из свинарника. Лишь за то, что тебе сочувствовала когда-то.
– Кто ж теперь в келейницах?
– Ясно дело, кто: Харитина, Харя.
– Ух, змея подколодная! Ядом так и брызжет. Я боялась принимать от нея еду.
– Я бы тоже не приняла – слава Богу, что меня до последнего хлебом и водой Серафима снабжала.
– А когда Володюшко спас меня, визгу было много?
Хромоножка замахала ладошками:
– Ой, не то слово! Серафима баяла, будто Янка бегала к самому Никифору, всё желала возвратить тебя к нам. Ничего не добилась, лишь, наоборот, получила повеление выпустить меня на свободу. – Наклонилась к уху и добавила шёпотом: – Сёстры говорили – Янка поклялась, будто не оставит тебя в покое даже у Феоктиста.
– Ну, уж это – дудки, – рассмеялась Ксюша. – Руки коротки.
Катя продолжала вполголоса:
– Ох, не зарекайся. От нея всего можно ожидать. Пребывай начеку. И особливо – не ешь незнакомой пищи.
– Что с тобой, сестрица? Ты и в самом деле считаешь?..
Та ответила, опустив глаза:
– Бережёного Господь бережёт...
– Ну, не знаю, право. Ты сгущаешь краски.
– Осторожность не помешает, душенька.
Да, сестре Варваре, прежней Адельгейде, было от чего призадуматься. И особенно страхи возросли на Медовый Спас: ей прислали от келейника Феодосия приглашение появиться в настоятелевых палатах.
– Для чего ж такое, не знаешь? – удивилась Ксюша, обращаясь к посыльному – мальчику-послушнику.
– Два бочонка мёду прибыли в подарок из Янчина монастыря.
– Как – из Янчина? – вздрогнула Опракса.
– Из Андреевской обители, значит. Для тебя, сестра, и владыки Феоктиста.
– Господи, помилуй! – вся похолодела она. – Это ж неспроста!
– Ясно, неспроста, – подтвердил разговорчивый паренёк. – А по поводу праздника.
– Да, хорош праздник, ничего не скажешь! – И помчалась предупредить келейника о возможной опасности.
Тот сидел за столом и, блаженно улыбаясь, ложкой намазывал на хлеб светлый липовый мёд из глиняной плошки. Покивав, поведал:
– На бочонках имелись берестяные записочки, чей который, да они в пути-то слетели. Я уж выбрал сам, поразмыслив здраво: маленький себе взял, а большой тебе уготовал. Вишь: не вытерпел и попробовал с ходу. Знатный мёд! Присоединяйся, Варварушка.
– Благодарствую, брате, только мы с утра уж с сестрицами мёду наелись вдоволь. – Евпраксия стояла ни жива ни мертва и старалась не думать о зловещем. Только неожиданно попеняла: – Думаю, что Янка предопределила иначе – меньший мне, а большой игумену.
Феодосий легкомысленно отмахнулся:
– Не имеет значения. Мы и этому дару рады, ты же свой можешь разделить между сёстрами. Брат Парфений донесёт бочонок до келий.
– Буду очень рада. – И ушла от келейника с камнем на душе.
Прежде чем позволила остальным монашкам лакомиться мёдом, настояла, чтобы дали на пробу дворовой собаке. Удивлённые инокини исполнили. Жучка с удовольствием слопала миску с угощением и не только не умерла, а, наоборот, сделалась живее и ласковее, чем прежде. Подождали до завтра, потом и сами угостились в охотку. Мёд действительно оказался славный: в меру вязкий, не особенно приторный и безмерно душистый. Ели и нахваливали от сердца. Евпраксия думала: может, зря клепала на Янку? Нет, она, конечно же, злыдня, но ведь не убийца. И прислала мёду в знак их примирения, осознав ошибки. Надо бы послать ей грамотку с благодарностью...
Не послала. Потому что в полдень зазвонили колокола на Успенском соборе, извещая мир о печальной новости. В келье у себя нежданно-негаданно умер от внезапно случившегося удушья Феодосий, келейник.








