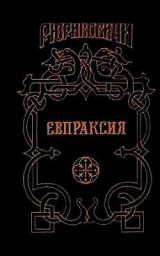
Текст книги "Евпраксия"
Автор книги: Михаил Казовский
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 26 страниц)
– Дочь моя, – произнёс вошедший голосом Рупрехта. – Я, иерофант Братства николаитов, спрашиваю тебя: добровольно ли ты решилась на муки грехопадения? С чистой ли душой готова самоунизиться, а затем отречься от прежней ереси?
– Да, – ответила Евпраксия без всякого выражения. – Я на всё согласна.
Первым делом иерофант прочитал первые восемнадцать стихов Евангелия от Иоанна. Обвязав голову Опраксы белой лентой, смоченной в крови и по всей длине испещрённой каббалистическими знаками, он надел ей на шею мешочек с фрагментами мощей Николая Чудотворца. Наконец сорвал с королевы чёрный балахон, бросил его в огонь камина, а на голом теле императрицы начертал кровью несколько крестов. Вынув затем полоску красного сукна, опоясал ею вступающую в Братство.
– На колени! – крикнул он. – Повторяй за мной: «Во имя распятого Иисуса Христа клянусь расторгнуть узы, которые ещё соединяют меня с отцом, матерью, братьями и сёстрами, с мужем и друзьями, которым я когда-то присягала в верности, повиновении и благодарности... Отрекаюсь от моей Родины, чтобы пребывать в иных сферах. И клянусь отдаться моему учителю и моим братьям-николаитам как мёртвое тело, у которого отняли волю и жизнь. И клянусь, что после грехопадения буду жить чисто, целомудренно и по Заповедям Господа нашего Иисуса Христа, по Заветам Николая Чудотворца!»
Посвящаемая в точности повторила клятву.
– А теперь ложись, – приказал наставник. – Навзничь, навзничь!
Между тем сквозь дыру в стене стали приползать и другие вновь обращаемые в Братство – восемь молодых людей в чёрных балахонах. Человек в белом произвёл с ними те же действа, что и с Опраксой, и они легли на ковёр с ней рядом – голова к голове, этакой звездой.
– Пиршество Идиотов начинается! – крикнул иерофант страшным голосом и воздел руки.
Грянул гром, засверкали молнии, засвистели дудки и забил барабан; в воздухе разнёсся запах серы; и по Черной Комнате заскакали появившиеся неизвестно откуда жуткие чудовища – в безобразных рогатых масках, долгополых шубах мехом наружу, с длинными хвостами и копытами на ступнях. Яростно кривляясь и улюлюкая, зверская компания начала плясать колдовские танцы около лежащих, делать непристойные жесты и пинать их ногами. Шёл по кругу кубок с вином. А потом другой. И третий. Постепенно участники приходили в совершенно скотское состояние, падали и ползали, их тошнило, и они мочились друг на друга, кто-то возбуждал свои гениталии, а кому-то между ног засовывали горящие свечи. Вскоре началась вообще вакханалия, свальный грех, Содом и Гоморра, непередаваемое бесчинство; всё рычало, стонало, совокуплялось и оргазмировало; женщины лизали возбуждённые половые члены, струи мужского семени брызгали на ковёр и тела, но при этом никто не касался вступающих в Братство, те лежали в центре оргии, словно островок непорочности. Неожиданно возле них появился карлик – тоже в рогатой маске и шубе, вылитый Егино; он, расставив ноги, волосатые и кривые, начал мастурбировать с фантастической скоростью, и фонтан желтоватой спермы вскоре окропил кожу обращаемых. Но они лежали, как мёртвые.
В это время существа в шубах начали щипать, щекотать и таскать молодых людей за интимные места, вовлекать во всеобщий разгул, поливать вином. А иерофант возвышался над ними и шептал молитвы. Но потом воззвал:
– Дочь моя, Адельгейда! Ты готова ли отдаться на всеобщее поругание, искупив тем самым наши грехи, чтоб затем воскреснуть?
– Да, готова, – совершенно бесстрастно ответила та.
– Так свершись же позор над твоим бренным телом!
И волна безудержного разврата захлестнула всех: существа в шубах и юноши обладали ею – и по одному, и одновременно; завывали дудки, били барабаны, от курильниц шёл дурманящий наркотический запах; а княжна отдавалась каждому безропотно, только думала: «Значит, это нужно... Если этого хочет мой любимый...»
А любимый монарх пребывал практически рядом – в небольшой смежной комнате, глядя на ужасный обряд через потайное отверстие. Он и сам был как будто пьяный, наблюдал заворожённо, жадно и безумно, а его сын Конрад, находившийся рядом, горько плакал.
– Господи, – шептал принц, – что же это такое, Господи?.. Для чего?.. Как вы можете, ваше величество?.. Ведь она – супруга ваша, данная вам Богом! Будущая мать вашего ребёнка!
– Замолчи, ублюдок, – обрывал его государь. – Пусть она искупит грехи – и свои, и наши. Я принёс Братству в жертву самое дорогое. Ибо только Дух Божественный свят, остальное – гниль.
– Прикажите им прекратить, – не сдавался отпрыск. – Мне нехорошо... У меня желудок выворачивает наружу...
– Ты щенок, Конрад. Жалкий червь. Император должен закалять свою волю. И уметь выдерживать всё. Верно говорили: ты не мой сын... Хочешь ли её, Адельгейду? Так поди и возьми. Разрешаю. Нет, приказываю тебе!
– Господи, о чём вы? – отзывался тот. – Осквернить отцовское ложе? Совершить кровосмесительный грех? Никогда!
– Тряпка. Недоносок. Грех кровосмешения – выдумка попов. Ибо люди – братья. Ибо все мы произошли от Адама и Евы, дети которых совокуплялись друг с другом...
– Не могу! Не хочу! Оставьте!
– Ты не понимаешь... Ты глуп. И разочаровываешь меня...
Постепенно групповое насилие над императрицей стало затихать. Существа в шубах расползлись в разные углы. А иерофант церемонно поднёс к ней крест и велел трижды плюнуть на него, чтоб отречься.
Вдруг какой-то проблеск рассудка всплыл в её зрачках. Действие галлюциногенов ослабло, и она со страхом осознала себя – голую, поруганную, мокрую и липкую, на ковре, в жутком склепе, принуждаемую совершить святотатство. Скрючившись, попятилась, обхватила ноги руками и, стеная от омерзения, выдохнула:
– Нет!
– Как? – воскликнул человек в белом. – Ты отказываешься закончить обряд?
– Да, отказываюсь! – крикнула княжна с яростью. – Дьявол! Сатана! Я в тебя плюю, а не в Крест Святой!
– Так нельзя, – возразил наставник. – От цепи грехопадений надобно очиститься – а иначе ты останешься в скверне до конца дней своих.
– Прочь, нечистый! Ненавижу тебя! Ненавижу всех, в том числе и Генриха! Будьте прокляты!.. – Силы оставили её, и она лишилась сознания.
Увидав случившееся, услыхав слова Адельгейды, самодержец сомкнул веки, прошептал ругательства, отвернулся от смотрового отверстия и, не обращая внимания на дрожащего Конрада, удалился по ступеням наверх. А наследник рыдал, призывая Деву Марию к себе в помощницы...
...Евпраксия очнулась в спальне. Над постелью висел мощный балдахин. Сквозь ячеистое окно проникал серый свет рождественского утра. Тело было ватное, непослушное, но сухое и чистое. Значит, её купали... Сразу вспомнились отвратительные детали кощунственного обряда, киевлянка сморщилась, и горючие слёзы заструились по её щекам и вискам. Села, вытерла мокрое лицо краем простыни. Сжала кулаки и вскочила с ложа. У дверей столкнулась с Груней Горбаткой.
– Господи, жива! – улыбнулась нянька, но потом сразу испугалась: – Да куды ж ты, милая? И в таком-то виде?
– Отойди! Геть с дороги! – оттолкнула её хозяйка. – Я ему скажу! Всё теперь скажу!
И, отпихивая охрану, слуг, придворных, побежала по лестницам в комнаты императора. Залетев в кабинет, встала посередине.
Генрих удивлённо поднялся с кресла. Рупрехт, находившийся тут же, повернул брыластую, гадкую физиономию к возмутительнице спокойствия.
– Как вас понимать, Адельгейда? – произнёс венценосец, побелевший как мел. – Посмотрите на себя, не позорьтесь...
– Я – позорюсь?! – прокричала Евпраксия – звонко, негодующе, прямо-таки захлёбываясь словами. – Я должна на себя смотреть?! Вы – ничтожество, ваше величество. Мерзкая скотина и негодяй. Я любила вас больше жизни. А теперь презираю. Чтоб вы сдохли!
И упала, и забилась в конвульсиях. А когда подоспевшая челядь её унесла, император проговорил грустно:
– Вот вам – «робкая русская овечка»... Я рассчитывал не на это. У меня больше нет супруги.
– Успокойтесь, сын мой, – приободрил его епископ. – Мы ещё своего добьёмся. Впереди война с Папой, итальянский поход и установление новой веры. Точку ставить рано. А жена вас наверняка простит. Вот увидите. Будет с вами душой и телом – на земле и на небесах.
Восемнадцать лет спустя,
Германия, 1107 год, осень
На вторые сутки пути их корабль оказался в окрестностях Майнца и Висбадена: здесь была развилка рек – Рейн налево, Майн направо. Йошка плыл по Рейну на север, Герман собирался по Майну во Франкфурт. И Опраксе надо было решать, с кем же следовать дальше.
Разговор состоялся на палубе, под открытым небом и довольно сильным дождём. Ветер теребил их накидки, капли брызгали в лицо, и беседа вышла какой-то нервной, неприятной, обрывочной. Немец звал с собой, убеждал, что нельзя расставаться, что в конце концов дело не в императоре, а, наоборот, в них самих – лучше скоротать оставшиеся дни вместе, пусть отрёкшись от схимы, от духовных обетов, но зато в любви и покое. Евпраксия отнекивалась – грустно, нехотя, погруженная в себя, в собственные мысли. Нет, остаться в Германии вовсе не хотела, потому что Германа не любила и не чувствовала потребности разделить с ним остаток жизни; но и возвращаться на Русь опасалась – в келью, в одиночество, в прозябание и забвение. Что же выбрать? По какому пути отправиться?
Йошка торопил: судно не могло стоять долго, надо было сниматься с якоря. И епископ, нахохлившись, мокрый, раздражённый, не выдержал:
– Ваша светлость, говорите же последнее слово. Или сходим вместе, или ухожу я один.
«Господи, последнее слово! – ужаснулась она. – Точно перед казнью. Вынесение приговора – и ему, и себе, и всем... Я не знаю, Господи! Совершенно не представляю!» и потом, словно не сама по себе, а под чью-то диктовку, произнесла:
– Еду дальше. Будь что будет.
Промелькнула мысль: «Что же я наделала?!» Даже удивилась: «Почему сказала именно так? Не заметила, как переступила черту». Спохватилась: «Может, передумать? Присоединиться к нему?» Но смолчала.
Кёльнский священнослужитель тоже молчал. Сразу как-то сник, словно бычий пузырь, из которого выпустили воздух. И морщины на лбу и щеках сделались рельефнее. Выдохнул негромко:
– Ну, как знаете, сударыня. У меня больше нет слов.
Снова воцарилось молчание. Дождик моросил, оседая в ткани накидок.
На губах у Опраксы промелькнуло некое подобие невесёлой улыбки. И она сказала:
– Тихий ангел пролетел...
Он не понял:
– Что?
Евпраксия пояснила:
– Так у нас в Киеве говорят. Если собеседники потеряли нить разговора и замолчали – «тихий ангел пролетел»...
Герман посмотрел на неё с тоской:
– Тихий ангел, да... Вы, как тихий ангел, пролетели по моей жизни... и по нашей Германии!..
– О-о! – воскликнула Опракса. – Я совсем не ангел. Столько грехов на мне, что не отмолить никогда. И совсем уж не тихий: стала роковой женщиной для кесаря...
– Кесарь сам виновен.
– Ах, не будем говорить о покойном плохо.
Снова помолчав, немец заключил:
– Обещаю вашей светлости: приложу все силы, чтобы снять анафему с императора и похоронить его с честью. А когда добьюсь этого, то приеду на Русь и возьму вас к себе.
Ксюша засмеялась:
– Даже если буду уже старухой?
– Даже если старухой. Но надеюсь, что увидимся раньше. – Наклонившись, он поцеловал её в щёку.
И она поцеловала его.
Герман сразу заторопился, прихватил свои вещи, помахал рукой Йошке и стремительно побежал по сходням на берег. Даже не оглянулся ни разу, словно опасался не выдержать, броситься назад и опять молить её о любви.
Судно отвалило от пристани.
Евпраксия смотрела вслед архиепископу до последнего мига, до тех пор, пока далёкий причал не исчез из её поля зрения. Осенила себя крестом и подумала: «Вот и всё. Я опять одна. Впрочем, не беда. Мне никто не нужен – кроме Кати, Васки и маменьки. Лучше быть одной, чем жить с человеком без взаимного чувства».
Рейн катил осенние воды. Впереди лежали Вестфалия и Брабант, а затем – Северное море.
До трагической гибели Адельгейды оставалось ровно полтора года.
Там же, 1107 год, начало зимы
Йошка торопился доплыть до Гданьска к первым числам декабря, чтобы не попасть в ледостав южной Балтики. И поэтому решил простоять в порту Бремерхафена, в устье Везера, только несколько часов, чтобы запастись питьевой водой вплоть до самой Гдыни. Но попал в крайне неудачный момент: в городе как раз разгорелся очередной еврейский погром, обезумевшие толпы перемолотили иудейский квартал, ювелирные лавки, кабачки, магазинчики, синагогу, перебили всех, даже стариков и грудных младенцев, ринулись к причалу и один за другим захватили несколько купеческих кораблей, не успевших убежать в открытое море. В том числе и Йошкин.
С криками: «Бей жидов, распявших Христа!» – бросились на палубу, половину команды выбросили за борт, в ледяную ноябрьскую воду, остальным размозжили голову или же вспороли живот. Сразу устремились к бочонкам с вином, стали заливать его в глотку, радоваться, орать: «Не дадим иудам споить народ! Денежки тянуть в свой карман! Не на тех напали, иноверцы проклятые! На немецкой земле могут жить только немцы!»
– Гля, да здесь баба за бочонками! – крикнул кто-то.
Евпраксию вытащили на свет Божий и уже хотели сорвать одежду, чтобы надругаться, как один из погромщиков крикнул:
– Стойте, погодите! – подошёл и всмотрелся в её лицо. – Уж не Адельгейда ли ты, маркграфиня фон Штаде, взятая затем в жёны королём?
Та, дрожа от страха и холода, подтвердила:
– Да, я самая.
Окружавшие её мужики сразу загудели:
– Ничего себе! На жидовском корабле – королева?
– Я плыла в Польшу, чтобы возвратиться затем на Русь.
Кто-то пьяно ляпнул:
– Русские и поляки с жидами заодно! Бей её!
– Тихо! – оборвал его тот погромщик, что узнал Опраксу. – Я, Йоханнес Фладен, – вы меня знаете, – был в имении у маркграфа рубщиком мяса. И беру госпожу под мою защиту. Кто её обидит, встретится со мной! И с моим топором!
Все почтительно замолчали. А мясник стал расталкивать толпу:
– Пропустите, пропустите! Дайте же пройти! – И любезно обратился к бывшей государыне: – Милости прошу, ваша светлость. Мой дом – ваш дом.
Киевлянка ответила:
– Да, спасибо, конечно, только я должна дальше плыть...
Мужики снова загудели:
– С кем? На чём? Лично мы в Гданьск не собираемся!
Фладен произнёс:
– Плыть, конечно, уже нельзя... Ничего, что-нибудь придумаем. Главное, пойдёмте отсюда. От греха подальше...
Он помог ей спуститься по сходням. И сопроводил в город. По дороге болтал:
– Честно говоря, я к евреям отношусь дружелюбно. Люди как люди, хоть и поклоняются не нашему Богу. Пусть себе живут и торгуют. Иногда нам привозят такие товары, о которых мы и слыхом не слыхивали. Но когда погром... Все бегут, и тебе неудобно отставать от соседей. Скажут: «Ты – пособник жидов, сам такой, к ним примазался!» А к чему мне подобные неприятности? – Он вздохнул. – Домик у меня небольшой, но уютный. Я женился на дочери местного бакалейщика, а когда тот умер и оставил ей в наследство лавку с домом, переехал из Штаде в Бремерхафен. А детей Бог нам не дал. Так вдвоём и живём, да ещё с кошкой Мурхен, но она уже старая и почти ничего не слышит.
Фрау Фладен оказалась сухощавой невыразительной немкой в белом чепчике и белом передничке. Увидав Евпраксию, ахнула:
– Ваша светлость, вы?! – А потом, по мере рассказа мужа о чудесном спасении Адельгейды, всплёскивала руками и причитала: – О, Майн Готт! Пресвятая Дева! Ничего себе!
Быстренько накрыла на стол, угостила нехитрой пищей: молоком, творогом, яйцами и хлебом, земляничным вареньем, но сказала, что это так – просто заморить червячка, а обед будет чуть попозже. Сам хозяин после трапезы сообщил:
– Вот что я подумал. Не отправиться ли мне завтра поутру в Штаде? У соседа займу кобылу с коляской – здесь езды несколько часов, – до полудня доберусь. И скажу в замке маркграфини, кто находится у меня под кровом. Вы наверняка с её светлостью Агнессой знаете друг дружку?
Ксюша рассмеялась:
– О, ещё бы! Ведь она тоже киевлянка и приехала в Германию как моя наперсница. Звали её по-русски Мальга, а по-гречески – Фёкла.
– Превосходно! Значит, не откажется вам помочь.
Евпраксия ответила:
– Я надеюсь. Впрочем, утверждать наверняка не могу. У людей, бывает, изменяются взгляды и вкусы.
Но мясник заверил:
– Нет, дурная слава об Агнессе не шла. Вот супруг у ней был большой болван. Слава Богу, сгинул где-то в походе. И сынок, видно, в папочку пошёл – любит пошалить и покуролесить. А мамаша-то ничего, вроде бы не вредная.
– Вредной не была никогда.
Следующий день прошёл в ожидании. Снарядили Йоханнеса в путь и затем коротали время, приготавливая еду. Нет, конечно же, готовила фрау Фладен, не давая Опраксе подойти к продуктам («Это не ваших нежных ручек дело, сударыня!»), и княжна только помогала советами, да ещё играла с кошкой Мурхен. Та её признала безоговорочно, сразу подошла, словно бы к хорошей знакомой, прыгнула на колени и доверчиво свернулась клубком.
– Сколько лет ей? – спросила русская с интересом.
– Много, очень много! Почитай, уж двадцать, – поразмыслив, сказала немка.
– Неужели? Нет, невероятно. Ни собаки, ни кошки столько не живут.
– Я вас уверяю. Мы нашли её вскоре после похорон прежнего хозяина Штаде – графа Генриха Длинного, вашего супруга.
Евпраксия задумалась:
– После похорон? Генрих умер в восемьдесят седьмом... Получается, правда двадцать лет!
– Ну, вот видите! Очень умная тварь, смышлёная. Добрая и чистоплотная. Но к чужим относится с подозрением. Иногда кто-нибудь зайдёт незнакомый – так потом полдня киску из-под кровати не выманишь. Всё сидит и зыркает своими зелёными глазищами из темноты. А вот вас ни капли не испугалась.
– У неё глаза, как у Генриха покойного.
– Это вам виднее. – Помолчав, хозяйка добавила: – Говорят, что души людей после смерти переселяются в птиц и животных. Может, ваш покойный супруг поселился в Мурхен?
Бывшая императрица провела ладонью по мягкой шерсти и с улыбкой произнесла:
– Трудно утверждать, но догадка ваша забавна. – Позвала негромко: – Генри, Генри, уж не вы ли это?
Кошка посмотрела на неё с любопытством.
– Да она ничего не слышит, – пробурчала Фладен, стоя к ним спиной.
– А по-моему, слышит. Вы взгляните сами. Генри, Генри!
Но когда немка обернулась, Мурхен уронила голову на колени гостьи и лежала совершенно невозмутимо.
– Значит, показалось.
– Ясно, показалось. Потеряла слух года три назад. И мышей не ловит. Только спит и лопает. Что ж теперь поделаешь! Старость уважать надо, даже если старость кошачья.
Ждали возвращения мясника и не ели, но потом, под вечер, сели за обеденный стол без него. На душе было неуютно.
– Может, что случилось? – спрашивала хозяйка. – По дороге? В Штаде? Нынче время тревожное: мало ли, на кого напорешься!
Ксюша тоже нервничала, но старалась не подавать вида:
– Ой, не надо нагнетать страхов! Пресвятая Дева Мария не оставит нас. Без Её защиты я давно бы уже погибла.
– Дал бы Бог, дал бы Бог, вашими молитвами...
С тем и спать легли. А наутро не успели подняться, как услышали под окнами цоканье копыт, трубные звуки рога и торжественный бой барабанов. Выглянули на улицу – Господи Иисусе! – гвардия маркграфа Штаденского на конях под флагом, где, как прежде, был изображён непокорный единорог в обрамлении дубовых листьев.
Йоханнес, раскрасневшийся, шумный, топал по ступенькам внутренней лестницы и кричал на ходу:
– Ваша светлость, ваша светлость! Тут за вами приехали! Соблаговолите собраться!
Отдышавшись, объяснил гостье и жене: маркграфиня Агнесса, как узнала о появлении прежней своей подруги, так велела везти её к себе; но пока снаряжали гвардию, ехать стало поздно и решили перенести отправление на сегодняшнее утро. Тут поднялся и командир гвардейцев; поклонившись и церемонно представившись, он сказал:
– Мне поручено вас доставить в замок фон Штаде. Всё готово к вашему торжественному приёму.
– Крайне польщена. Подождите меня внизу. Я спущусь через четверть часа.
Ксюша попрощалась с гостеприимной четой. Вынув золотую монетку, подарила хозяйке. Та вначале принимать не хотела, говорила, что само пребывание в их убогой хижине столь высокопоставленной особы было им наградой.
Киевлянка, улыбнувшись, кивнула:
– Хорошо, пусть тогда подарок будет для Мурхен. И пойдёт на её достойную старость и приличные похороны.
Йоханнес заметил:
– На такие деньги можно прокормить и похоронить целый выводок кошек!
– Нет, не надо выводок. Лишь её одну, остальное – вам.
Появилась на улице под приветственные крики гвардейцев. Все соседи таращили глаза, стоя возле окон или в створах ворот: в их квартале ничего подобного никогда не происходило. Радостные Фладены кланялись ей вслед и напутственно махали платками. Командир помог Евпраксии сесть в повозку, а затем сам вскочил в седло. И под звуки военной музыки поскакал во главе процессии к городским воротам.
Ехали небыстро, но чинно. И погода благоприятствовала: не было дождя, выглянуло солнце, утренний, чуть морозный воздух нежно щекотал ноздри, а раскисшая прежде болотистая дорога, схваченная ледком, превратилась в твёрдый грунтовый путь. Ксюша, глядя по сторонам и дыша полной грудью, думала с восторгом: «Всё, что ни случается, к лучшему. Если бы поехала в Гданьск, не смогла бы встретиться с Фёклой. Значит, это судьба!»
Около полудня кончились болота, потянулись рощицы, а за ними вскоре возник и Штаде, с теми же башнями и подъёмным мостом, что княжна запомнила с ранней юности. Это же без малого четверть века прошло! Старики поумирали, дети выросли... Интересно, жива ли ещё тётя Ода? Сын её, Ярослав Святославич, возвратившись на Русь, правил давно в Чернигове и с Опраксой никогда не встречался...
Адельгейда с эскортом вновь проехала по улице Поросячьей Коленки, у колодца едва не перевернувшись в колоссальную грязную глубокую лужу, и, проследовав мимо церкви Святого Вильхадия, по базарной площади, покатила к замку. Там, внутри, у дверей дворца, сразу разглядела вышедшую ей навстречу Мальгу – сильно располневшую, несколько кургузую из-за этого, но с такими же весёлыми, озорными глазами, как прежде. Позабыв про все этикеты-церемонии, с радостными криками бросились на шею друг другу. Плакали, смеялись, обнимались, как дети. Говорили по-русски.
– Ух, какая ты сделалась жирная, подруга! – хохотала, глядя на неё, Евпраксия. – Сала много кушаешь.
– Да какое сало! – отмахивалась товарка. – Я уже забыла, с чем его едят. Ты попробуй народи четверых детей и не растолстей!
– С этим я согласна.
– Ну а ты зато совершенно не изменилась. Всё такая же стройная, словно тополёк.
Евпраксия махала ладошкой:
– Ой, да будто бы! Вон смотри, сколько седины!
– Почему в монашеском одеянии?
– Год назад постриглась – после смерти Генриха Четвёртого. И теперь называюсь сестрой Варварой.
– Разумеется, у Янки в монастыре?
– Нет, оттуда сбежала в Печеры.
– Господи, да как же?
– После расскажу.
– Ну, пошли под кров. Чай, проголодалась с дороги-то?
Длилась трапеза несколько часов. Выслушав историю Евпраксии, Фёкла объявила:
– Я тебя на Русь не пущу. Нечего там делать. Будешь жить со мной – и кататься как сыр в масле. Ты мне помогла обрести семью и богатство, я тебе отплачу лаской и заботой.
Ксюша улыбнулась:
– Радостно услышать. Но, прости, не останусь.
– Как так – не останешься? Почему?
– Не хочу да и не могу делаться твоей приживалкой.
– Ой, о чём ты! О какой приживалке речь ведёшь? Мы с тобой подруги и почти что сёстры, породнились, выйдя замуж за братьев фон Штаде. Да, конечно, я не ровня тебе по крови – ты великая княжна и была королевой, я простая боярышня и всего лишь графиня... Но, по-моему, титулы и звания никогда нас не разобщали?
Евпраксия ответила:
– Дело тут не в титулах и не в крови. Просто я хочу вернуться домой. В Киев, к матери, сестре и приёмной дочке, к сёстрам и братьям во Христе. Умереть на чужбине не желаю. – Посмотрела на неё извинительно: – Ты не думай, я сказала так не в упрёк тебе. У тебя иная судьба – ты нашла в Германии новую Родину. Обрела детей, ставших немцами, говоришь по-немецки чище, чем по-русски... У меня не вышло. Я осталась русской. Православной русской. А ещё моя половецкая половина крови не даёт мне покоя в тесных замках, серых городах – жаждет на простор, на свободу, на родную Русь.
Покачав головой, Агнесса произнесла:
– Это всё фантазии. Ты придумываешь сказки, веришь в них, а потом, когда они погибают в столкновении с жизнью, переживаешь. Я давно избавилась от иллюзий. Пару раз схлопотав от мужа по зубам и своими силами воспитывая детей, быстренько избавилась. Сделалась практичной и трезвой. Настоящей немкой. И тебя призываю опуститься из заоблачных сфер к нам на грешную землю, здраво оценить своё положение в мире и остаться коротать старость у меня.
– Нет, не уговаривай.
– Очень жаль... Ну, хотя бы погости до весны. Экипаж и сопровождающих я, конечно, выделю, можешь не тревожиться, будешь в Киеве через десять дней. Но сегодня-то, как-никак, третье декабря, скоро грянут морозы, на востоке – лютые, загудят метели, и в дороге можно застынуть. Для чего тебе подвергаться опасности? Погоди пока, а в апреле уедешь, Бог даст.
Ксюша с благодарностью улыбнулась:
– Благодарна тебе, Феклуша, за твоё радушие и приветливость. Может, и останусь до Масленицы будущего года. Я должна подумать.
– Было бы чудесно! Вместе столько месяцев! Встретим Рождество и Крещение, чинно поговеем, а потом разговеемся. Хорошо-то как! Доведётся ли встретиться ещё? Если ты уедешь, то вряд ли.
– Не трави мне душу. Сказано: подумаю. Дай собраться с мыслями, отойти от волнений последних лет...
– Я не тороплю.








