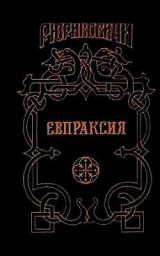
Текст книги "Евпраксия"
Автор книги: Михаил Казовский
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 26 страниц)
Четырнадцать лет спустя,
Русь, 1107 год, осень
Мономах отогнал половцев от Переяславля, и они предложили в знак дальнейшей дружбы и мира выдать дочку хана Аепы за Владимирова сына – Юрия Долгорукого. Князь ответил согласием и послал приглашение на свадьбу многим родичам в разные города Руси, в том числе и Кате с Опраксой.
Младшую сестру, разумеется, не пустила Янка, но сама неожиданно захотела поехать – видимо, решив помириться с братом. А Варвара-Опракса поспешила за советом к игумену.
Старец выслушал её и сказал:
– Отчего бы не съездить на самом деле? Свадьба твоего племяша – дело хорошее и богоугодное. Заодно поклонишься от меня Мономаху, передашь мою благодарность за его дары Печерской обители.
– Но меня смущает другое: как смогу я сидеть за одним столом с Янкой, зная о ея мерзостях?
– Успокойся, милая. И прости ей великодушно.
У монашки потемнели глаза:
– И моё заточение простить? И кончину брата Феодосия?
Феоктист вздохнул:
– Да, конечно же, обращалась с тобою неласково... Но возможно, уже раскаялась, коли едет к Мономаху на свадьбу. А кончина келейника... кто сумел доказать, что бочонок оказался отравлен? Если был, по приказу ли игуменьи? По дороге – мало ли? – яд могли подсыпать. ..
– Для чего? Почему в один, а не в два? И как раз в малый, мне предназначавшийся?
Настоятель нетерпёливо отмахнулся:
– Ах, не станем ворошить сызнова. Не единожды пересужено, но, коль скоро убивец за руку не схвачен, зряшно обвинять никого не след. Ты ступай, сестрица, в Переяславль и попробуй вернуться к добрым, родственным отношениям с Янкой.
Та потупилась:
– Возвращаться не к чему, ибо добрых отношений между нами не было отродясь.
– Ну, тогда просто к тёплым.
– Я всегда к ним стремилась. Это от нея исходила злоба.
– Попытайся по крайней мере.
– Сделаю усилие... И ещё одно, ваше высокопреподобие: разрешите взять с собой сестрицу Манефу? Нам вдвоём веселее будет, а поездка поможет укрепить души и тела, вдохновит на дальнейшие работы в монастыре.
– Ничего не имею против. Отправляйтесь-ка с Богом.
Снова выпросила у матери небольшую ладейку, на которой княгиня Анна иногда совершала прогулки по Днепру. И в сопровождении челяди – трёх мужчин, управлявших судном, и двух женщин-прислужниц – две монашки поплыли в град Владимира Мономаха.
Свадьбу Мономах провёл с истинным размахом: в княжеском детинце-кремле всё пространство двора занимали столы для гостей помельче; а почётные люди – родичи, боярство, духовенство, дружина и старцы – размещались за столами на галерее сеней (так тогда назывался второй этаж во дворце). Янка сидела рядом с Владимиром, а Опракса с Манефой – ближе к молодым. По другую сторону восседал хан Аепа в красной остроконечной шапке с кисточкой и расшитом золотом половецком кафтане без рукавов; ложкой не пользовался – ел руками; смуглый, чернявый, круглолицый, он смотрел на всех смеющимися глазами и показывал ряд безукоризненно белых зубов.
Дочь его, невеста, урождённая Кара-Су, получившая при крещении имя Анны, очень напоминала отца – смуглая, скуластая, кареглазая; пёстрое свободное платье не могло скрыть широких бёдер и высокого бюста – очень развитых для её шестнадцати лет. Сам жених, лишь на год старше, выглядел немного смущённым. Он за лето, что не виделся с Евпраксией, сильно загорел, и прыщей на его лице стало меньше, а бородка и усы подросли. Сразу после свадьбы увозил новобрачную к себе в вотчину – Ростово-Суздальскую землю, выделенную ему Владимиром Мономахом.
На венчание в церковь хан Аепа, будучи язычником, не пошёл, а сидел во дворе под навесом, и слуга отмахивал от него назойливых насекомых. Увидав проходившую мимо Евпраксию, обратился к ней по-кумански:
– Уж не ты ли будешь внучкой хана Осеня?
Та почтительно поклонилась:
– Ассалям алейкюм. Я Аютина дочь, это верно.
– Алейкюм ассалям. Как её здоровье?
– Хорошо, спасибо.
– Почему ты в чёрном? У тебя кто-то умер?
– Муж мой прежний, король Германии, умер о прошлом годе. Но ношу чёрную одежду не в знак скорби по нему, а лишь потому, что постриглась в монахини, посвятив себя Богу.
– Разве посвятить себя Богу – не радость? – удивился хан.
– Радость. Превеликое счастье.
– Почему же тогда русские монахи одеваются в траурный цвет?
– Это не траур, а цвет аскезы. Отрешения от всего мирского.
– Отрешение от мира означает смерть. Похороны заживо. Разве нельзя посвятить себя Богу, не умирая? Разве Бог не есть жизнь, не разлит повсюду?
– Жизнь полна греха, что идёт не от Бога. Мы же отрекаемся не от всякого мира, но от грешного.
– Значит, пёстрый цвет – это грешный цвет? Чёрный цвет святой? – рассмеялся Аепа. – Ладно, не хочу смущать твою душу. Поклонись от меня Аюте.
– С благодарностью поклонюсь, ваша светлость...
Стоя в храме во время венчания, всё никак не могла успокоиться после разговора; вспомнила давнюю беседу с ханом Боняком – тоже на религиозные темы. Есть загадка в богоощущении каждого народа. Бог не познаваем человеческим разумом и поэтому предстаёт перед каждым по-своему. В этом ничего нет плохого. Плохо то, что каждый народ начинает доказывать, что его ощущение Бога – правильное, главное. И стремится высмеять, растоптать ощущения других. Или даже выжечь огнём, вырубить мечом. Не желает примириться с разными трактовками веры – например, как римская и греческая церкви. Почему человечество не может объединиться – под знамёна Добра против зла? Почему народы сражаются не со злом, а с другими народами, ближними своими? И когда же наступит на земле Царство Божье?
Из раздумий её вывела негромко, но ясно брошенная фраза:
– Сука-волочайка... Ты ещё жива? Ничего, недолго тебе осталось...
Оглянулась и увидела спины Янки и сестры Харитины. Посмотрела на стоящую рядом Манефу:
– Слышала, сестрица?
Женщина кивнула:
– Да, поют прелестно...
– Нет, я не про певчих.
– Нет? А про кого?
– Как мне угрожали сейчас?
– Угрожали? Кто?
– Да вот эти, сбоку.
У Манефы вытянулось лицо:
– Ничего не слышала. Вот те крест! Что ж они сказали?
Евпраксия смутилась:
– Ничего, неважно. Может, мне действительно показалось...
– Ты такая бледная стала. Хочешь ли на воздух?
– Нет, не надо, я уже в порядке. У меня такое бывает...
А сама подумала: «Не могло показаться. Я пока ещё не сошла с ума. Янка не простила. И готовит новую гадость. Свадьба – лишь предлог, чтобы до меня дотянуться. Мне нельзя оставаться благодушной», – и перекрестилась, глядя на икону Спасителя.
А во время свадьбы, сидя на сенях, Евпраксия наблюдала за Янкой: в чёрном клобуке и с большим крестом на груди, та смотрела невозмутимо, ела мало и пила того меньше, не вступая ни с кем в разговоры. И на сводную сестру не взглянула ни разу. Ксюша думала: «Что ж ты взъелась на меня, подлая гадюка? Вроде нам делить с тобой нечего, я монахиня другого монастыря, никому не мешаю, ни на что не притязаю – отцепись, забудь. Что тебе неймётся?»
– Горько! Горько! – то и дело кричали гости.
Молодые вставали, кланялись, поцеловавшись, возвращались на место, пунцовые. Вскоре их увели в опочивальню, а застолье продолжалось далеко за полночь.
В горнице, которую отвели двум черницам, от окна сильно дуло, и Опракса, побоявшись спать на сквозняке, стала звать прислугу, но Манефа сказала:
– Так давай, сестрица, поменяемся ложами. Я люблю свежий ветерок, мне любая простуда нипочём.
– Да зачем подвергаться опасности? – возразила подруга. – Кликнем плотника, он заделает щёлку.
– Ах, не суетись, всё в порядке. Главное, чтоб тебе было хорошо на моей постели.
– Отчего же плохо? Очень хорошо.
– Вот и славно.
Только, помолившись, обе прилегли, как раздался стук: прибежавшая сенная девушка доложила, что «сестру Варвару просят пройти к его светлости князю Володимеру Всеволодычу в их палаты».
– Что-нибудь стряслося? – стала одеваться княжна.
– Не могу знать, нам сие не ведомо.
Брат сидел размякший от еды и выпитого вина и оглаживал бороду, глядя на Евпраксию ласково. Пригласил тоже сесть и выпить. Та проговорила:
– Ох, да мне довольно сегодня. Приняла достаточно.
– Ну, чуток, пожалуйста. Вроде для порядка.
– Ну, чуток – изволь. – И смочила губы в напитке.
Мономах сказал:
– Я позвал тебя для совета мудрого. С Янкой толковать не хочу: хоть и помирились уже, да она всё одно чужая. А тебя люблю больше остальных.
– Ох, спасибо, Володюшко, за такие лестные для меня словеса.
– Лести никакой, это правда. Ну, так слушай: предлагает Аепка мне жениться на его племяннице, тоже половецкой княжне, о семнадцати с половиной лет. Мол, краса такая, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Ласковая, добрая, тихая – не в пример Кара-Су, у которой на уме только лошадиные скачки да охота. Вот не знаю, как быть.
Ксюша улыбнулась:
– Почему бы нет? Я не вижу препятствий. А тебя-то самого что смущает?
Он ответил неторопливо:
– Ну, во-первых, конечно, вспоминаю всё время Гиту Гарольдовну, Царство ей Небесное! Боле тридцати лет, как-никак, прожили душа в душу. И хоть красотой не блистала, но была первым другом и помощницей, непременной советчицей моею. Меньше чем полгода прошло от ея кончины, траур до весны носить буду... Во-вторых, больно молода эта половчанка. Внучка моя старшая – дочь Мстислава Владимировича, что сидит в Новгороде Великом, – ей ровесница! Представляешь? Бабушка и внучка одного возраста – смех один.
Пригубив ещё раз вина, Ксюша согласилась:
– Разумею тебя прекрасно. И к невестке-покойнице относилась по-родственному тепло, ты ведь знаешь. Но коль скоро Бог ея забрал, мы должны учиться жить без Гитушки. Траур по весне кончится. А потом? Непривычен ты бобылём-то ходить. Дети повзрослели, разлетелись из гнезда кто куда. Без семьи тебе будет тяжко. Войны да суды занимают много времени, но не всё. Одному в холодной постели-то очень грустно, можешь мне поверить.
Мономах молча слушал. А Опракса продолжила:
– Ну а то, что невеста молода, – это хорошо. Сможешь воспитать в своём вкусе. Настоящей русской княгинюшкой. И никто сказать злого слова про нея не посмеет. Выбор князя – закон.
Он отпил из кубка. И в раздумье проговорил:
– Может быть, и так. Не жениться-то не смогу, это верно. Без супруги мне тягостно, мысли набекрень, всё из рук валится порою. Худо, худо! Но немолодые-то бабы замужем давно. Или вдовые. С выводком детей. Коли полюбил бы – это дело другое. А уж ежели по расчёту, лучше молодую, невинную. С чистого листа!
– Видишь, ты и сам понимаешь.
– Понимать понимаю, а в душе как-то боязно. Я один домашние вопросы-то решать не привык, слушал мнение Гиты. А теперь вот тебя призвал... Благодарен вельми за совет да за ласку.
– Да какие же благодарности, братец дорогой? Мы с тобой опора друг другу. То, как ты меня от голодной смерти спас, разве ж я забуду? Жаль, что с Катей Хромоножкой не вышло.
– Ничего, мы ещё ея отобьём у Янки!..
Уходила от Мономаха в добром настроении. Потому что жизнь продолжалась. Пусть сама Опракса несчастлива, но зато готова приносить пользу близким. И молиться за всех за них. Приходить вовремя на помощь. Быть советчиком и другом. И тогда никакие Янкины козни не страшны ничуть!
Евпраксия, зайдя в их с Манефой горницу, чуть не поскользнулась: кожаные подошвы туфель оказались на чём-то мокром.
– Господи Иисусе! – прошептала она. – Ты не спишь, сестра? – Ив ответ услышала какие-то хрипы. Приоткрыла двери, крикнула: – Огня! Огня!
Прибежала сенная девушка со свечой. В отблесках пламени им предстала ужасающая картина: на полу в луже крови сидит Манефа и, закрыв лицо, тихо стонет.
– Что с тобой, голубушка? – бросилась к ней Опракса.
Отняла её окровавленные руки от лица и отпрянула в страхе: у Манефы не было глаз! А на месте них зияли две сочащиеся кровавые дырки.
Девушка от испуга выронила свечу, выскочила из горницы с дикими воплями. Набежал народ, принесли ещё свечи. Подняли несчастную, повели умыться и перевязать раны. Выяснилось вот что: в темноте кто-то влез в окно и, набросившись на Манефу, со словами:
«Вот тебе, сука-волочайка!» – полоснул острым по очам. Больше она ничего не помнила.
Евпраксия обо всём догадалась. Села в уголке и заплакала. Причитала жалобно: «Господи, за что? От меня одни несчастья кругом... Как мне жить при сём?..»
Появился Мономах – возбуждённый, взволнованный и трезвый как стёклышко. Выслушав доклады, сказал:
– До утра никого из дворца не выпускать. Учиним дознание. А коль скоро обнаружим виновного, беспримерно накажем.
Но, конечно, никого не нашли. Ни один человек ни в чём не признался, и никто ничего не видел, не слышал. С Янкой попытался говорить сам Владимир, но она пришла в такое негодование, что ему и вправду возразить было нечего.
– Как ты смеешь, брат, – кипятилась игуменья, – задавать мне вопросы дерзкие? Я всю ночь спала в предоставленной мне одрине – это подтвердит кто угодно, и сестра Харитина пребывала в соседней горнице. Ни один из моих холопов не отлучался, говорю ответственно. И какая связь между мной и вот этой падалью, сукой-волочайкой? Знать ея не знаю, да и знать не хочу. Может быть, сама и выколола глаза Манефе? А теперь хочет заслониться другими? От такой подлой твари можно ожидать что угодно. – Помолчав, добавила: – Если б знала, что такое случится, ни за что бы сюда не тронулась, а сидела б дома. Ведь хотела, как лучше, – помириться с братом, побывать на свадьбе племянника. А меня вновь втянули в какие-то дрязги. Уезжаю немедля. И ноги моей больше никогда у тебя не будет!
Князь вздохнул:
– Что ж, прости, коли что не так. И не поминай лихом.
– А вот этого, брате, обещать не сумею: тот, кто водится с непотребными грешницами, должен знать, что прощения ему нет и возмездие придёт рано или поздно.
Мономах нахмурился:
– Не стращай, сестрица. Мы, поди, не грешнее тебя.
Янка рассмеялась:
– Надо же, святые какие! Ну, живите как знаете. И Господь вам судья!
– Он судья для всех. И кому-то очень худо придётся на Его суде.
– Вот уж верно сказано.
Сёстры Варвара и Манефа пробыли в Переяславле ещё с неделю – подлечили ослеплённую, успокоили, как могли, поддержали ласковыми словами. А потом Владимир посадил обеих на ладью, обнял с нежностью, пожелал благополучного возвращения в Киев.
Ксюша пошутила невесело:
– Ну, коль скоро нет с нами той, от кого всё зло, думаю, плохого не будет.
Брат посетовал:
– Горько видеть вашу вражду – глупую, никчёмную.
– Разве ж я виновата в ней?
– Нет, не ты, это ясно. Будем же молиться, дабы Бог образумил Янку.
Евпраксия кивнула:
– Что ещё остаётся делать!
Тринадцать лет до этого,
Италия, 1094 год, зима
Лотта фон Берсвордт не нашла ничего лучшего, как открыто приехать в замок Каносса и предстать перед маркграфиней Матильдой. Так обосновала своё решение: – Генрих заподозрил меня в измене – будто бы похитила ключи для побега. И велел пытать, чтобы я созналась. И меня едва не лишили жизни на дыбе. Но потом государь помиловал и велел пробраться сюда, чтобы выкрасть или просто убить Адельгейду. Только делать это – никакого желания. Пытки императору не прощу. Я хотела бы поступить к вам на службу: вместе одолеем его проворней.
Итальянка разглядывала немку: стройная, холодная, властная; светлые волосы собраны под шапочкой, водянисто-голубые глаза светятся недобро, рот похож на щёлку. Нет, она себе на уме. И скорее всего, прикидывается союзницей, будучи на самом деле преданной самодержцу. Но с другой стороны, прогонять её тоже чрезвычайно опасно. Лучше держать под боком, но контролировать. Станет честно на нас работать – доверять больше. А начнёт двойную игру – покарать нещадно. Видимо, такой вариант – оптимальный. И произнесла:
– Хорошо, оставайтесь. Будете в подчинении у Конрада.
Лотта удивилась:
– Но я думала, что опять стану каммерфрау её величества...
– Нет необходимости – у императрицы компаньонок достаточно. А вот Конраду нужны люди – для посольства на юг.
– Вы меня отсылаете к норманнам?
– Да, в числе полномочной делегации. Мы хотим объединить всю страну, сделав Конрада королём Италии. И для этого – женить на княжне Констанции, дочери князя Рожера, что владеет большей частью Апеннинского полуострова. В случае удачи, станете компаньонкой юной королевы.
Опустив глаза, чтобы маркграфиня не прочла в них негодование, Берсвордт поклонилась:
– Я готова к этому поручению, ваша светлость.
– Вот и замечательно. Можете пока отдохнуть, а в начале марта – в дорогу.
Та подумала: «О, до марта я ещё успею навредить Адельгейде!»
А Матильда мысленно ей ответила: «Мы до марта ещё посмотрим, искренна ли ты в дружеских намерениях к нашим предприятиям!»
Евпраксия тем временем постепенно привыкала к Каноссе. В первое время радовалась успешному бегству, с удовольствием спускалась из комнат второго этажа дворца к общему обеденному столу, ела с аппетитом и смеялась шуткам герцога Вельфа. Буйная природа Эмилии, где стоял замок, зимний воздух гор, тишина, благодать – всё это способствовало улучшению настроения. Но потом она стала понимать, что попала в новый плен – пусть не столь жестокий и гибельный, как в Вероне, а, наоборот, с добрым отношением окружающих, с полной, бесконтрольной свободой... лишь на территории крепости. Ни уйти, ни уехать государыня не могла. И куда податься? Вдруг лазутчики императора украдут, убьют? А довольно частые беседы с Матильдой («Надо вывести Генриха на чистую воду, рассказать Европе о его еретичестве и злодейства« ») оставляли горький осадок. Страхи и сомнения снова переполнили душу. Верно ли она поступила, убежав – и тем самым вооружив неприятелей самодержца? Нет, конечно, сидеть у него взаперти тоже было жутко и смертельно опасно (ведь имелось же подозрение, что императрица Берта, первая супруга, умерла от отравы!). Но вполне возможно, что монарх гнев сменил бы на милость, как бывало уже нередко, и у них всё ещё бы наладилось? Нет, смешно и предполагать... он неисправим... и Опраксу ждали бы новые обиды... Значит, бегство было необходимо. Хорошо. Но теперь надо ли вредить государю и растаптывать его окончательно? По-христиански ли это?
И тогда она решила посоветоваться со своей духовной наставницей – матерью Адельгейдой, настоятельницей монастыря в Кведлинбурге, где княжна жила и училась после своего приезда из Киева. Ведь, помимо прочего, аббатиса была ещё и родной сестрой Генриха IV...
Вот какое письмо у беглянки-императрицы вышло в результате:
«Ваше высокопреподобие!
Обращаюсь к Вам как к единственному и, надеюсь, верному другу во всей Германии. Ибо положение моё незавидно, я не знаю, что делать, и взываю о помощи и поддержке.
К данному письму прилагаю обращение моё к германским епископам, признающим Папу Урбана II и не признающим «антипапу» Климента III; Вы поймёте из этого обращения, как несправедливо и подло обращался со мной Его Величество, как заставил меня согрешить при вступлении в его «Братство», как я отказалась отречься от Креста и последствия всего этого. Видит Бог, я любила и люблю супруга и старалась быть ему преданной женой. Не моя вина, что священный брак наш не выдержал испытания – временем и Истинной Верой.
Не снеся унижений, наносимых мне императором постоянно, я бежала из королевского замка Вероны. Люди герцога Вельфа IV Швабского помогли это сделать, и теперь я живу в Каноссе, в замке маркграфини Тосканской. Здесь находится и мой пасынок (ваш племянник) Конрад, тоже, как Вы знаете, не желающий подчиняться странным и преступным приказам своего родителя. Скоро он поедет в Милан и, по доброму согласию с гражданами Ломбардии, будет провозглашён королём Италии, независимым от Генриха. Ходят слухи, что и младший сын Его Величества, проживающий в Майнце, сильно с ним повздорил; правда ли – не ведаю.
В обращении к германским епископам я прошу их о снисхождении, отпущении мне моих вынужденных грехов и молю покорно походатайствовать перед Папой Римским о немедленном расторжении данными ему полномочиями брака нашего с императором. Честно Вам признаюсь: я писала это послание по немалому настоянию маркграфини Матильды. Отказать ей нельзя, ибо сделала она для меня свыше всякой меры, но душа моя неспокойна. Надо ли действительно затевать развод? Ведь в его процессе неизбежно всплывут детали, напрямую порочащие репутацию самодержца. И хотя вина его в моей участи велика и неоспорима, не уверена, стоит ли её предавать огласке. Честь и слава правящего дома Германии для меня священны.
Именно поэтому отдаюсь Вашей воле. Вы – сестра Генриха, лучше знаете ситуацию в королевстве, настроения и соотношения сил и ко мне всегда относились с добротой и участием. Как Вы пожелаете, так оно и будет. Можете уничтожить моё письмо и послание к германским епископам. Можете вручить его им – в этом случае я готова мужественно пройти через все разбирательства и дознания, лишь бы поскорее освободиться от поруганных императором брачных уз. Делайте как желаете.
Да хранит Вас Господь наш Иисус Христос!
С жаром целую руки Ваши.
Ваша несчастная духовная дщерь
Адельгейда.
Писано в замке Каносса, что в Эмилии-Романье,
Месяца февраля 19 дня 1094 года от Р. X.».
Запечатав письмо и послание германским епископам, Ксюша вручила свитки герцогу Вельфу, лично направлявшемуся в Швабию, и потом даже успокоилась, вроде сбросила с души камень. Думала наивно: «Как Господь рассудит, как решит аббатиса, так затем и сделаю. Мучиться заранее глупо». Между тем спектакль под названием «Императрица обвиняет императора» был уже расписан не Господом, но людьми, как по нотам...








