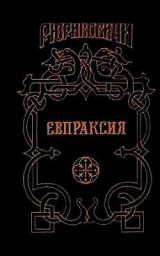
Текст книги "Евпраксия"
Автор книги: Михаил Казовский
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц)
Восемь лет спустя,
Киев, 1107 год, лето
В келью к Евпраксии-Варваре заглянула келейница Серафима и предупредила:
– Жди беды, сестра. Матушка как узнали, что без спросу подалась ты на похороны Гиты в Переяславль, так серчали зело. Говорили, что в обители своевольничать никому не след, даже княжьим дочкам. И велели, по твоём появлении, отвести тебя к ней для толковища.
– Ой, подумаешь, беда! – отмахнулась Евпраксия. – Не убьёт же она меня!
Серафима потупилась и сказала тихо:
– Ты на всякий случай ничего чужого не ешь и не пей. И вообще в монастыре не трапезничай. А посадят коль на хлеб и на воду – потребляй только те, что подам тебе я.
Ксюша удивилась:
– Господи, о чём ты?
– Я и так поведала больше, чем должна была.
У монашки от страха выступил пот на лбу:
– Ты считаешь?.. Неужто?..
– Повнимательней будь.
– Боже мой, не верю!
– Осторожность не помешает.
Янка сидела в кресле и писала что-то гусиным пером на листе пергамента. Встретила Евпраксию молча, даже не повернув головы. Та с поклоном спросила:
– Дозволяешь, матушка?
Настоятельница ответила:
– Дозволяю – не дозволяю... Ты же всё одно делаешь как хочешь.
Младшая сестра пояснила:
– Я отправилась к Мономаху не на гульбище, между прочим. Проводить невестку в последний путь и Во-лодюшку поддержать добрым словом. Он признателен был вельми за мою заботу. Сокрушался, что тебя не увидел...
– Речь веду не об этом. Как посмела ты ослушаться моего повеления? Ясно говорила: никуда не ехать! Отчего дерзнула не подчиниться? – Янка отшвырнула перо, и оно чернилами испачкало скатерть. В первый раз подняла глаза на вошедшую и была неприятно поражена, что Опракса-Варвара выглядит гораздо свежее, чем до пострига: тени под глазами не такие зловещие, на щеках едва заметный румянец, а рисунок губ умиротворённый. Это вывело игуменью из себя окончательно; прервала Евпраксию на полуслове: – Слушать ничего не желаю! За твоё непослушание я обязана тебя покарать. Запрещаю покидать свою келью две недели, даже на моление. А из яств – лишь вода да хлеб.
– Как прикажешь, матушка.
– И ни с кем общения не иметь, кроме Серафимы.
– С Катей Хромоножкой нельзя?
– Я сказала: ни с кем.
– С Ваской тож?
– Ас девицей тем паче. С панталыку ея собьёшь.
– Восемь лет не сбивала вроде.
– Цыц! Не возражать!
– Умолкаю, матушка.
– Лыбься, лыбься. Я тебе устрою райскую жизнь.
– И не думала улыбаться, ваше высокопреподобие.
– Будто я не вижу. Кончилась твоя вольница. Монастырь – не княжеское сельцо для отдохновения. Две недели на хлебе и воде мало – лучше целый месяц. И надеть власяницу. И стегать себя розгами по рукам, ногам и лицу, чтоб ходила вечно в кровавых струпьях.
Ксюшины глаза потемнели:
– Может быть, прикажешь сразу меня распять? Чтоб уж окончательно извести?
Янку передёрнуло:
– Богохульствуешь, тварь такая? Издеваешься над Крестом Святым? – Помолчав, сказала: – Лёгкой смерти себе не жди. Будешь умирать долго и мучительно. Потому как житья я тебе не дам.
Евпраксия сказала твёрдо:
– Но и ты не богохульствуй, сестрица. Жизнь давать или отнимать может только Бог. И тебе не позволят надо мной измываться.
– Любопытно, кто?
– Братец наш любезный. Если что, сказал, дай мне знать – я приеду и тебя из беды-то выручу.
– Так попробуй, дай. Много человек у тебя на посылках?
– Кто-нибудь найдётся.
– И не затевайся. Хуже будет.
Первую неделю своего заключения Евпраксия выдержала легко. Вспоминала поездку в Переяславль, разговоры с Владимиром и его сыном Юрием, занималась переводами на русский некоторых греческих книг, принесённых по её просьбе Серафимой, вышивала на пяльцах. И конечно, много молилась. Но потом одиночество стало одолевать, в келье было жарко, душно, тёплая вода вызывала отвращение. И желание сочинить записку брату крепло с каждым часом. Шёпотом спросила у зашедшей келейницы:
– Коли я составлю малую цидульку на волю – сможешь передать?
Та решительно отмахнулась:
– Что ты, что ты, окстись!
– Да чего бояться? Кто узнает, коли спрячешь под платьем?
– Ни за что на свете. Ить меня обыскивают при выходе от тебя. Даже и под платьем.
– Свят, свят, свят! Мыслимо ли это?
– Вот представь себе.
– Янка ополоумела.
– И на Катю Хромоножку ругается. Та всё время плачет.
– Господи Иисусе!
– Так что не взыщи, а помочь тебе не смогу я при всём желании.
– Ладно, потерплю.
Неожиданно вместо Серафимы хлеб и воду принесла сестра Харитина (в обиходе, среди монашек, получившая прозвище Харя – за наушничества настоятельнице); внешне была сама любезность, но никто никогда не сомневался в её подлых мыслях. Ксюша удивилась:
– Почему тебе приказали приносить мне пищу?
Харитина слащаво заулыбалась:
– Разве ж это труд? Поручение матушки только в радость.
– Но ведь прежде приходила келейница.
– Нынче недосуг, надобно готовиться к Троице, веточки берёзовые срезать и траву-мураву везти.
– Я прошу вернуть Серафиму.
– Невозможно сие, Варварушка: занята она.
– От тебя вообще не приму еды.
– Ох, за что ж такая немилость?
– Я тебе не верю.
– Нешто я могу кому повредить? – слишком уж наигранно огорчилась та.
– Ты – не знаю, а другие могут.
– Уж про что толкуешь – не ведаю, только мне поручено – и придётся кушать.
– И глотка не сделаю. Так и передай Янке.
– Обязательно передам, беспременно, а как же!
– Передай, что не прекращу голодать, если не вернут Серафиму.
– Рассерчают матушка. Ох уж рассерчают!
– Очень хорошо. Мне она – сводная сестра, вот и разберёмся по-свойски.
– Вы пока разбираетесь, Хромоножке-то достаются все синяки да шишки.
– Что опять стряслось?
Харитина преувеличенно скорбно вздохнула:
– За проступок свой в тёмную посажена.
– За какой проступок?
– В трапезной прислуживала и, споткнувшись, опрокинула бадью с квасом.
– Так она же хромая – вот и оступилась.
– Не была бы матушка на тебя сердита – и Катюше бы не попало. А теперь страдает через тебя.
Евпраксия залилась краской:
– Я желаю говорить с Янкой! Живо доложи!
– Доложу сейчас же. Но захочет ли матушка говорить с тобою?..
Разумеется, Опраксин протест ни к чему не привёл: настоятельница до разговора не снизошла и келейницу не вернула. Ксюша начала голодовку. Силы оставляли её, и она размышляла, грустно улыбаясь: «А не всё ль равно, от чего преставиться – от отравы или от голода? Нет, в моём положении лучше от голода, но не покорённой и гордой. Быть отравленной, точно крыса в погребе, вовсе недостойно».
И действительно: смерть явилась как избавление...
Только не к беглянке императрице, а к другой высокопоставленной даме – к матери великого Киевского князя Святополка, урождённой польской принцессе Гертруде, дочери короля Польши, Казимира Пяста. От жары ей сделалось дурно, и она скоропостижно умерла от удара. А на похороны княгини, отдавая дань уважения двоюродному брату, прибыл из Переяславля сам Владимир Мономах. И решил проведать сестёр в Андреевской обители. Заявился к игуменье с дорогими подарками, принял угощение и спросил, сидя за столом:
– Где же Катя с Опраксой, отчего их не позовут?
Янка сообщила сквозь зубы:
– Обе оне наказаны за грехи.
– Ах, оставь, какие у них могут быть грехи? Обе точно ангелы.
Настоятельница съязвила:
– Да, особенно Евпраксия – чистый херувим!
Брат сказал примирительно:
– Ну, пожалуйста, Яночка, не злобничай, ради моего приезда хотя бы. Разреши увидеть.
Та позволила скрепя сердце:
– Будь по-твоему. Об одном прошу: не жалей их сильно. Не мешай мне воспитывать в духе послушания.
Мономах похлопал её по руке:
– Полно строить из себя буку. Что ты в самом деле? Помню, как была жизнерадостной девушкой, пела песенки и гадала на чаре, кто тебе будет суженый.
Янка поджала губы:
– Ты меня с кем-то путаешь. Сроду я такой не бывала.
– А забыла, как в тебя влюбился Ян Вышатич? И однажды вас застукали на сенях старого дворца, где вы целовались?
– Прекрати! – побелела преподобная. – И не смей никому рассказывать!
Он расхохотался:
– Хорошо, не буду. Но и ты не делай вид, что святая. Все мы грешны. Тем уже, что зачаты не от Духа Святого, а от семени нашего родителя – Всеволода Ярославича. И негоже тебе глумиться над сёстрами родными. Иисус бы тебя не понял.
Янка поднялась:
– Не учи меня христианству, дорогой. Я уйду, дабы не мешать вашей братской встрече. Не терплю этих ваших нежностей, или, как сказали бы латиняне, сантиментов.
– Жаль, сестра, что не терпишь. Хуже некуда, коли вместо сердца – ледышка.
Катя прихромала одна и, увидев Владимира, вскрикнула от радости:
– Ты ли это, княже? Пресвятая Дева! Дай мне приложиться к твоим перстам.
– Не к перстам, а к ланитам, душенька. – Усадил её с собой рядом, начал угощать и расспрашивать.
Катя ела споро, но на все вопросы о себе отвечала сдержанно: мол, сама виновата, и жаловаться нечего.
– А Опракса? Кстати, где ж она?
Хромоножка опустила глаза:
– Нездорова, кажется...
– Ну, так я пойду её навестить.
– Не положено светским заходить в наши кельи.
– Пусть тогда приведут сюда.
– Нет, нельзя, нельзя, совершенно невозможно.
– Отчего такое?
– Потому что она... она... встать уже не может!.. – И несчастная разревелась в голос.
Озадаченный Мономах стал её утешать и одновременно выпытывать: что же всё-таки сделали с их сестрой? А когда узнал о воде и хлебе, власянице и розгах, голодовке невольницы, вознегодовал. Стукнул кулаком по столешнице:
– Я иду к ней немедля! И никто остановить не посмеет!
Катя прошептала:
– Поступай... поступай как знаешь... Только помоги ей, пожалуйста... Если ещё не поздно...
Мономах стремительным шагом направился по внутренним галереям и решительно отстранял монашек, заступавших ему дорогу, а отдельных, самых рьяных, висших на его рукавах, стряхивал с себя, как налипший репей.
– Где она? – рычал Владимир. – Где моя Опракса? Коли не увижу, разнесу по щепкам это ваше осиное гнёздышко! – Сапогом сбил замок на келье и ворвался внутрь.
Узница лежала пластом на лавке – бледная, худая, с безразличными ко всему глазами. Повернула голову, разлепила ссохшиеся губы:
– Что сие такое? Кто вы, сударь?
– Ты не узнаёшь? Я твой брат Володимер. – Мономах опустился перед ней на колени.
– Господи, Володечко... Поцелуй меня. Докажи, что ты настоящий, а не призрак из моих бредней...
Он поцеловал её с нежностью. А потом сказал:
– Я тебя вызволю отсюда. Прочь, прочь, на свежий воздух, вон из этих стен!
– Вызволи, пожалуйста. Или я погибну...
– Ни за что, не смей! С Янкой разберёмся потом, а сейчас тебя надо выручать.
Подхватив сестру на руки (удивившись про себя, как она мало весит), вынес в галерею и пошёл по ступенькам вниз. На ходу Ксюша лепетала:
– Ох, а может, мы дурно поступаем?.. Я ведь приняла постриг... Вдруг митрополит нас предаст анафеме? Отлучит от церкви?..
Мономах бубнил:
– Ты молчи, молчи. Я ему объясню. Он поймёт.
– Но ведь мне сюда больше не вернуться...
– И не надо. Не один Андреевский монастырь на свете. Что-нибудь придумаем.
Евпраксия-Варвара ласково прильнула к его груди:
– Как же хорошо, что ты появился! Мне с тобой ничего не страшно!
– Ничего и не бойся. Вместе нас никто не погубит.
Пятнадцать лет до этого,
Италия, 1092 год, лето
Лотта фон Берсвордт в табеле о рангах при дворе императора Генриха IV называлась «каммерфрау» – то есть компаньонка императрицы. Не служанка, не горничная, а прислужница из благородных. Некогда она была фавориткой самого государя, но роман их закончился быстро, и дворянка-сирота продолжала составлять свиту кесаря. Старше Евпраксии-Адельгейды лет на десять, эта дама отличалась умом и хитростью, тонкой дипломатичностью и стремлением угождать. Ксюша вела себя при ней осторожно, так как знала: Лотта выполняет тайные поручения Генриха, например – наблюдать за его женой и немедленно докладывать о любом неповиновении.
Венценосная чета после неофициального разрыва не общалась между собой. Даже на родившегося в 1090 году сына Леопольда самодержец прискакал посмотреть не сразу. Больше проводил времени в войсках – он готовился к новой Итальянской кампании. А завоевав Мантую, Пизу, Павию и Верону, приказал, чтоб в последней поселилась его супруга с мальчиком. Адельгейда-Евпраксия повиновалась и приехала в Верону в окружении всей своей челяди, в том числе служанки Паулины Шпис, мамки-няньки Груни Горбатки (русской, привезённой ещё из Киева) и, естественно, Лотты фон Берсвордт.
Леопольд (или просто Лёвушка), появившись на свет семимесячным, сразу чуть не умер, но стараниями повивальных бабок и лекарей начал оживать; разумеется, хворал часто и, как все болезненные дети, рос тщедушным, капризным, вялым. «Бледный ангелочек» – так прозвали его при дворе.
Ксюша не отходила сутками от ребёнка, видя смысл своего существования на земле в воспитании и лечении мальчика. Лотта иногда просто заставляла императрицу уйти из детской, чтоб самой поспать и хоть что-то перехватить из пищи.
– Говорили: «Италия!», «тепло!» – сетовала беспокойная мать, убаюкивая отпрыска. – Утверждали, что здешний климат будет для Лёвушки благоприятен. А конец августа в Вероне хуже, чем во Франкфурте: ветер, сырость, дождь.
– Это Северная Италия, – отвечала Берсвордт. – Близость Альп, и река Адидже прохладная. Вот когда император вступит в Рим и переберёмся туда, думаю, что принцу сделается лучше. Самое лучшее – поселиться на юге, где-нибудь в Неаполе или же в Салерно. Но, боюсь, не выйдет: юг Италии занят норманнами, с ними воевать – хуже некуда; вряд ли Генрих захочет покорять Апеннинский полуостров полностью.
– Я мечтаю съездить на море, – отзывалась Ксюша. – Окунуться в его солёные воды и погреться на солнышке. В Киеве купалась в Днепре, плавала неплохо. Это очень всегда бодрит. Лёвушке поможет бесспорно.
– Да, но только не раньше будущего лета, – продолжала каммерфрау. – Завтра – первое сентября.
– Осень, осень... Не люблю осень. Ненавижу холод, слякоть, жёлтую листву. Угасание, увядание вообще. Старость. Умирать надо молодым.
Лотта фыркнула:
– Не кощунствуйте, ваше величество. В каждом возрасте, в каждом времени есть свои особые прелести. Старость – это мудрость и возможность передать опыт. Умиротворение. Философия. Подведение итогов...
– Чепуха. Старость – это дряхлость и немочь, слабоумие и болезни. А накопленный опыт никому, по сути, не нужен. Молодые предпочитают сами обжигаться. – Помолчав, добавила: – И потом, осень трудно сравнивать со старостью. Потому что осенью есть надежда на будущую весну. А у старости нет надежд. После старости – пустота.
– Вы не верите в загробную жизнь?
– Верю, как и все. Только люди отчего-то не торопятся перебраться в мир иной – вот что странно! И оплакивают тех, кто туда ушёл.
– Люди – неблагодарные твари. Чем они больше получают, тем ещё большего хотят. И плюют затем на своих благодетелей.
Евпраксия вспыхнула:
– Вы на что намекаете? На моё отношение к императору?
Та наигранно испугалась:
– Ах, помилуйте, ваше величество! Разве я могу отважиться на подобную дерзость?
– Вот и правильно. – Русская помедлила. – Мы по-прежнему остаёмся в браке. Я его люблю – моего супруга и отца моего единственного ребёнка... Но за то, что и вы, и он сотворили со мной в ту ужасную рождественскую ночь, ненавижу. И смириться – не значит простить. Так и знайте, Лотта.
Каммерфрау возразила проникновенно:
– Государыня, вашему упорству нет разумного объяснения. Понимаю: вы воспитаны в догмах греческой ортодоксальной церкви. Всякие новации вам страшны. Но религия не может стоять на месте и должна развиваться с обществом. Прежние воззрения кажутся смешными. Генрих же не зря отрицает папские каноны. Поклонение Кресту...
– Крест не трогайте! – рассердилась Ксюша. – Я и раньше не отреклась от Креста и теперь не стану!
– Тише, тише, пожалуйста: мальчика разбудите.
Леопольд завозился в кровати, закряхтел во сне.
Мать замолкла и поправила ему одеяльце; шёпотом сказала:
– Да... забылась... вы разбередили старые раны... – И по-русски велела няньке – Груне Горбатив: – Грунечка, побудь с Лёвушкой, пожалуйста. Если что – Паулина пусть меня растолкает.
Пожилая женщина покивала:
– Не тревожься, моя голубушка, почивай спокойненько. Я надёжней всех твоих паулин, вместе взятых...
– Знаю, дорогая, и люблю за сё.
Вышла из детской вместе с Лоттой. И произнесла по-немецки, громче:
– Вы напрасно, Берсвордт, считаете, будто я такая упрямая. Ведь смогла же из православия перейти в католичество и назвать себя Адельгейдой. Потому что нет принципиальной разницы, основные догмы христианства сохраняются там и тут. Но отречься от Креста животворящего? Никогда. Кто бы меня ни убеждал – Генрих, вы или же епископ Бамбергский.
– Генрих и епископ от вас не отступятся.
– Оба далеко и прибудут сюда нескоро.
– Про епископа ничего не знаю, а его величество должен появиться здесь четвёртого сентября.
Евпраксия замерла и встревоженно вперилась в собеседницу:
– Как – четвёртого? Почему я об этом узнаю последней?
– Извините, ваше величество, мне самой сообщили час назад.
– Боже, и вы молчали!
– Не успела. Не хотела отвлекать вас от принца.
– Ну, так говорите теперь. Он надолго? С чем приедет?
– Представления не имею. Мне сказал шамбеллан замка, дон Винченцо. Прискакал гонец и велел готовиться к встрече.
Государыня осенила себя крестом:
– О, Святая Дева Мария! Помоги мне перенести приезд императора. Вдруг захочет мириться? Как себя вести?
– Не упорствовать, быть послушной.
– Я не возражаю в принципе. Главное – на каких условиях?
Лотта вкрадчиво улыбнулась:
– На каких бы то ни было, сударыня.
Адельгейда дёрнула плечом:
– Вы несносны, Берсвордт! Подчиниться готова – только не в вопросах Креста и веры!
– Что ж, тогда ждите неприятностей.
В то же самое время в замке Каносса (Италия)
Во главе итальянских врагов Генриха IV находились четверо.
Первой была женщина – маркграфиня Тосканская Матильда. Ей в ту пору исполнилось сорок шесть, и она переживала вторую молодость с юным, семнадцатилетним мужем – герцогом Швабским Вельфом. Их союз укрепил ряды оппозиции: «молодых» благословил сам Папа Урбан II и тем самым освятил сплочение Юга Германии с Севером Италии в их борьбе против императора. К этой тройке – Урбан, Вельф и Матильда – год назад присоединился старший сын Генриха от первого брака – Конрад. Он порвал с отцом вскоре после скандала с Евпраксией, взяв её сторону.
В родовом замке маркграфини – Каноссе – завтракали трое. Грузная Матильда, жгучая брюнетка с хорошо заметными усиками и как будто бы даже с баками, ела свежий творог и сыр, дабы не толстеть больше, но в таких количествах, что восстановление некогда утерянной талии не имело никаких шансов. Двадцатидвухлетний Конрад тоже не был худ: он пошёл в свою мать, первую жену Генриха, итальянку, маркграфиню Берту Сузскую; чуть сутулясь и тараща глаза, как любой близорукий человек, без особой охоты жевал жареное мясо. Только Вельф отличался живостью и свежестью – пропорционально сложенный, стройный, крепкий, он имел весёлые ясные глаза, пухлые, ещё не взрослые губы и копну великолепных белокурых кудрей, вообще чем-то походил на ягнёнка; пил и ел немного, больше говорил. В частности, сказал:
– Наши люди в Вероне передали сведения о возможно скором появлении у них императора.
– Это усложняет задачу, – оценила Матильда. – Крошка Адельгейда может согласиться на примирение с мужем. Как вы думаете, ваше величество? – обратилась она к Конраду. (Дама имела право так его назвать: несколько лет назад Генрих IV сам официально короновал сына в Аахене и провозгласил своим наместником в Италии; вскоре после этого отпрыск перешёл в стан его врагов).
Молодой человек посопел, размышляя, а потом ответил:
– Я не исключаю. Мачеха по-прежнему влюблена в отца, несмотря на всё случившееся. Если он задобрит её, насвистит в уши всяких нежностей, покачает на руках Леопольдика – сдастся наверняка. Русская натура. Больше чувствует, чем думает.
– Плохо, плохо. Наши планы под угрозой провала.
– Может, просто выкрасть? – предложил Вельф. – Каждое воскресенье Адельгейда ходит на мессу в церковь Сан-Дзено Маджоре, и её сопровождают только каммерфрау и четыре охранника. Налететь и увезти ничего не стоит.
– А последствия? – усомнилась Матильда. – Обратит гнев на нас, а не на супруга. Нет, она должна стать нашей союзницей, чтобы добровольно – только добровольно! – рассказать христианскому миру о бесовских действиях императора. Это будет скандал на всю Европу! Пострашнее, чем любая военная кампания. От такого удара он уже не оправится. Маленькая русская устранит императора с политической сцены.
Белокурый шваб посмотрел на супругу с нежностью:
– Вы безукоризненны в ваших рассуждениях, мона Матильда. Лишь одна закавыка: как осуществить их на практике? Если императорская чета примирится, дело наше будет проиграно.
Женщина кивнула:
– Совершенно верно. Остаётся одно: организовать побег Адельгейды до приезда Генриха.
– Да, но как?!
– Я пока не знаю. Чем-то напугать. Страх перед императором должен пересилить любовь к нему.
Конрад произнёс:
– Говорят, что мачеха молится на сына. Не отходит ни на шаг от болезненного мальчика. Значит, страх может быть один – за здоровье и жизнь Леопольда.
– Выкрасть сосунка? – догадался Вельф.
– Нет, ни в коем случае! – отмела его предложение маркграфиня. – Вновь возненавидит не Генриха, а нас, похитителей. Надо поступить по-другому. Например, убедить государыню, будто государь вознамерился отнять у неё ребёнка. Вот тогда... не исключено... что добьёмся чего-то дельного...
Герцог восхитился:
– Вы неподражаемы, дорогая! Не перестаю удивляться вашему уму и находчивости. – Он схватил жену за руку и расцеловал в неуклюжие кургузые пальцы.
– Полно, полно, дурашка, – усмехнулась она, потрепав его белёсые кудри. – Время не для нежностей, а решительных действий. Надо во всех деталях обсудить план, чтоб не ошибиться. Потому что другого столь благоприятного случая может не представиться.
Конрад произнёс:
– Я собственноручно напишу мачехе. Мы с ней в дружбе. Мне она поверит.
– Очень хорошо! – оживилась дама. – И сегодня же пошлём грамоту в Верону. Медлить нельзя ни часа. Мы должны опередить императора.
И они, сомкнув серебряные кубки, осушили их за успех опасного предприятия.








