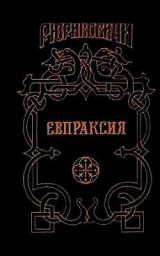
Текст книги "Евпраксия"
Автор книги: Михаил Казовский
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 26 страниц)
Десять лет спустя,
Русь, 1107 год, осень
От игумена Феоктиста прибежали за сестрой Варварой: приглашают к его высокопреподобию. Та явилась. Настоятель Печерской обители сказал: прискакал гонец от князя Святополка, ждут её во дворце.
– Что-нибудь стряслося? – испугалась женщина.
– У него посол от германского императора. И желают поговорить, дочь моя.
– Да зачем же? Я не хочу.
– Неудобно отказывать, не упрямься, пожалуй. Человек приехал издалека, по таким-то погодам.
Евпраксия, помявшись, кое-как согласилась. Дали ей возок, лошадь и возницу, и она отправилась.
Во дворце поднялась в залу для пиров – гридницу. И не сразу узнала в поседевшем, полысевшем мужчине Кёльнского архиепископа Германа – порученца Генриха IV, приезжавшего за ней в Штирию и Венгрию. А теперь, получается, служит новому самодержцу – Генриху V?
Герман встал, поклонился и сказал по-немецки:
– Рад, что вижу вас в полном здравии, Адельгейда.
– Милостью Божьей ещё жива. Только я не Адельгейда уже, а сестра Варвара.
– Понимаю, да.
Сели. Помолчали. Евпраксия спросила:
– Что вас привело в Киев?
– Приказание его императорского величества Генриха Пятого. Он взывает к вашей милости – просит помощи в деле похорон своего отца.
У монахини по лицу пробежала нервная дрожь:
– Как, простите? В деле похорон? Я не понимаю. Ведь насколько мне известно, бывший мой супруг умер год назад!
Немец согласился:
– Совершенно верно. Но лежит до сих пор непогребённый, так как церковь, что подвластна Папе, не даёт согласия на захоронение по чину императора, ибо был отлучён и предан анафеме.
– Страсть какая! Это ж грех великий – тело не предавать земле. Где же он лежит?
– В маленькой, неосвященной Шпейерской часовне. Тамошний епископ, давний враг усопшего, продолжает упорствовать. А поскольку вы были в хороших отношениях с Урбаном Вторым, то могли бы повлиять на епископа, чтобы он выдал тело. Генрих Пятый просит вас отправиться в Шпейер.
Евпраксия похолодела:
– Ехать снова в Германию? Это невозможно.
– Отчего? Три недели пути – и мы на месте. К Рождеству возвратитесь на родину.
– Нет, и не просите. Я давно отрешилась от мирских дел.
Герман покачал головой:
– Разве похороны его величества лишь мирское дело? Долг не только гражданский, но и духовный. Вы любили покойного и имели от него сына. Генрих Четвёртый в завещательном предсмертном письме, продиктованном мне лично, всех простил: Конрада и Генриха-младшего, Урбана и вас. Неужели вам, человеку Божьему, трудно простить его в свою очередь и помочь с погребением?
Женщина замялась:
– Я давно простила его... Тоже написала примирительное письмо и передавала с купцами, но оно, к сожалению, опоздало... Я должна подумать. Посоветоваться с родными... Завтра дам ответ.
– Превосходно, я жду.
Вся в смятенных чувствах, Ксюша помчалась в Вышгород к матери. Та была в обычном расслабленном состоянии и невозмутимо сказала:
– Почему не поехать, тэвочки моя? Что плёхой между вами был, всё уже забыл, всё быльём зарос – после драка кулаками нельзя махать. А помочь надо.
– Маменька, голубушка, это тяжело! – на каком-то надрыве выкрикнула дочка.
– А земной жизнь есть вообще тяжёл. Ничего, ничего, ты такая сильный. Оставлять тело без могил – тяжелей ещё. Ты сама себе места не найти, если не поехать.
На обратном пути Евпраксия завернула в Андреевскую обитель – повидаться с Ваской, Катей и Серафимой. Васка уже поправилась и ходила в школу, а сестра никак не могла решить, оставаться ей в Янчином монастыре или перебраться в Печерский. Весть о том, что Опракса до конца года может пропутешествовать в Германии, вроде даже обрадовала её:
– Вот и хорошо, я пока останусь. А потом видно будет.
– И тебя не страшит наше расставание?
– Безусловно, милая, но я верю, что за расставанием будет встреча. Ты должна поехать. А иначе не простишь себе никогда.
Девочка поддакнула:
– Да, поехать надо, только не одной.
– С кем ещё?
– Так со мною.
Евпраксия снисходительно рассмеялась:
– Вот ещё придумала!
– Маменька, пожалуйста, ну поедем вместе!
– Даже не проси! Я сама умираю от страха, как подумаю, что опять отправлюсь за тридевять земель, а ещё за тебя бояться! Нет, останешься дома. Бережёного Бог бережёт. – Посмотрела на Серафиму: – Ну а ты что мне присоветуешь?
Бывшая келейница поддержала общее мнение:
– Да, нельзя не пойти навстречу пасынку. Коль послал сюда человека, значит, ты его единственная надежда. Хочет упокоить отца. Как ему откажешь?
Из груди Варвары вырвался вздох:
– Понимаю: вы правы. А душа отчего-то ноет.
– Ясно: от сомнений. Примешь вот решение – сразу успокоишься.
– Я ещё посоветуюсь с отцом Феоктистом.
Настоятель Печерского монастыря, выслушав её, ласково спросил:
– Дочь моя, что тебя страшит больше – дальняя дорога или нежелание оказать услугу своему давнему обидчику?
– Ах, ни то ни другое, отче. Я на Генриха больше не сержусь. Бог ему судья! К тяготам дороги тоже отношусь трезво. Просто неизвестность меня гнетёт. И разлука с дорогими людьми.
– Стало быть, смирись. Долг превыше страхов. Я благословляю тебя на духовный подвиг. Ты должна вынести невзгоды и свершить святое предназначение. Судя по всему, Небо хочет этого. – И перекрестил её трижды.
Ксюша подчинилась.
Выезжали 30 октября, в мелкий дождик, что считалось благоприятной приметой для отъезда. Герман скакал верхом, а Опракса двигалась в закрытом возке, с небольшим сундучком, где везла необходимые в дороге вещи и лекарства. Вспоминала, как её впервые увозили в Германию – больше двадцати лет назад: пышно, целым свадебным поездом, кавалькадой, с верблюдами... А теперь – скромно, очень буднично и в сопровождении всего пятерых немцев-всадников...
Первую остановку сделали в Житомире. Ужинали вместе в гостином дворе, говорили о ситуации в Германии, об итогах Крестового похода. Евпраксия узнала, что союзные войска европейцев, переправившись на греческих кораблях в Малую Азию, тяжело пробивались с боями к Иерусалиму и в конце концов овладели городом летом 1099 года. Было провозглашено Палестинское христианское княжество, во главе которого встал Готфрид де Бульон. Через год он умер, заразившись тропической лихорадкой, и престол унаследовал его брат. Так что цель вроде бы достигнута и Святая земля освобождена, но неверные окружают христиан со всех сторон, без конца нападают, и приходится посылать на Ближний Восток новые и новые войска для отпора противнику; а энтузиастов всё меньше, денег тоже, и не ясно, сколько Бодуэн сможет продержаться.
– А нашли ли священный сосуд Сан-Грааль? – задала вопрос Евпраксия.
– Я не знаю, не слышал, – отвечал ей Герман. – И признаться, считаю, что его не существует в природе. Это всё легенды из песен трубадуров...
Помолчав, Ксюша попросила:
– Расскажите мне о последних днях Генриха Четвёртого.
Немец посмотрел с неохотой, но потом решил, что нельзя ей отказывать.
– Он, конечно, не признал отлучение от церкви на соборе в Пьяченце, где вы выступали, и продолжил править частью Священной Римской империи, остававшейся у него в подчинении. Даже собирался ехать в Святую землю, чтобы помогать Бодуэну де Бульону, передав бразды правления Генриху-младшему. Но как раз в это время новый Папа, избранный после смерти Урбана Второго, правящий и ныне – Пасхалий Второй, – снова отлучил императора от церкви. И провозгласил императором Генриха Пятого.
– Сын с отцом находился в ссоре?
– Часто враждовали, но не менее часто и мирились. Сын просил отца подчиниться Папе, и тогда конфликт будет разрешён. Генрих-старший вроде бы ответил согласием, и к нему прислали папского легата. Но они сразу же поссорились, и легат отказал самодержцу в отпущении грехов. Рассердился и младший Генрих. Он напал на отца, посадил под арест в замок Бекельхайм, а епископ Шпейерский вынудил монарха подписать отречение. И на съезде в Майнце двадцать седьмого декабря тысяча сто пятого года Генрих Пятый был повторно коронован.
– А его родитель?
– А его родитель, выпущенный из Бекельхайма, ускакал в Льеж, где и объявил своё отречение недействительным, ибо было подписано оно под угрозой смерти. Он решил бороться с сыном за престол. Центром сопротивления выбрал Кёльн. Генрих Пятый осадил город и попытался взять его штурмом. Вряд ли бы это удалось, если б Генрих Четвёртый не скончался. Перед смертью я его причастил и собственноручно записал последнюю волю – он прощал всех своих врагов, в том числе и сына.
– Ну а сын?
– Сын похоронил его в Шпейерском соборе. А когда уехал, Шпейерский епископ, не согласный с этим решением, вынул тело из саркофага и удерживает непогребённым полтора года.
– Господи Иисусе! Что же Генрих Пятый не повлияет?
– Шпейер находится в княжестве Пфальц, а оно не подвластно императору.
– Ну и чудеса! – удивлялась Ксюша невесело.
А потом, оставшись одна, долго молила Деву Марию о защите и покровительстве в деле упокоения бывшего супруга.
Двадцать четыре года до этого,
Германия – Русь, 1083 год, лето
Сватать четырнадцатилетнюю Евпраксию Всеволодовну из Германии прибыла её тётка – маркграфиня Ода фон Штаде.
Дело в том, что Ода была второй женой старшего сына Ярослава Мудрого – Святослава Ярославича. Вместе жили они недолго, но счастливо, правили Киевом три года и родили сына. Но внезапно у князя на щеке появился фурункул, вскрыли его неудачно, и от заражения крови Святослав умер. Безутешная вдова с маленьким ребёнком отбыла в Германию, увезя с собой громадное состояние...
И никто не знал, что княгиня перед отъездом спрятала в днепровских пещерах ценностей не меньше, взять с собой которые просто не смогла. А потом искала предлог возвратиться в Киев за второй половиной своих сокровищ.
Что ж, предлог был выбран достаточно убедительный. Северной землёй в Саксонии, Нордмаркой, правил её брат, Удон II фон Штаде. В тридцать девять лет он скоропостижно скончался, поскользнувшись на лестнице и разбив затылок о каменную ступеньку. И оставил после себя процветающие поместья, многочисленные амбары, полные пшеницы и проса, винные погреба, две суконных мануфактуры и немалые стада коров и овец. Всё это досталось его сыновьям – Генриху по прозвищу Длинный, семнадцатилетнему юноше, и тринадцатилетнему Людигеро-Удо. В общем, тётя сделала предложение старшему племяннику: мол, она съездит в Киев и сосватает за него княжну Евпраксию, за которой дадут приданого – видимо-невидимо.
Генрих Длинный, тощий, нескладный молодой человек, рыжий и лопоухий, сплошь в больших и маленьких конопушках, с недоверием смотрел на неё, невысокую тридцатилетнюю даму, полноватую и довольно милую:
– Право, тётя, я озадачен. Может быть, найти невесту из наших?
Ода возразила:
– Глупости, мой друг, у тебя напрасные опасения. Русские такие же христиане, как мы; чуточку наивнее и попроще, чуточку упрямее и суровее, а вообще люди славные и гостеприимные. Я вон прожила среди них столько лет и, как видишь, жива-здорова.
Юноша по-прежнему сомневался:
– Да она, наверное, ни бум-бум по-немецки...
– О, не страшно. Мы её отдадим подучиться в Кведлинбургский монастырь. Пусть штудирует языки, примет католичество, разовьётся как следует. Ей ведь ныне всего четырнадцать. А когда шестнадцать исполнится, свадебку сыграете.
Генрих Длинный молча поморгал и спросил напоследок:
– Да она хороша ль собою?
– Просто прелесть! – с воодушевлением воскликнула тётка. – В ней намешана скандинавская, славянская и куманская кровь. В результате вышел ангелочек – глаз не оторвать! И смышлёная очень. Ты не пожалеешь, верно говорю.
Наконец он сдался и кивнул со вздохом:
– Хорошо, согласен. Отправляйтесь и, коль сговоритесь, привезите её вначале сюда, в Штаде, для знакомства, а потом уж отправим в Кведлинбург.
– Так и сделаю, дорогой, можешь быть спокоен...
...Евпраксия вышивала на пяльцах в мастерских Андреевского монастыря, как вошла келейница Серафима и произнесла низким голосом:
– Душенька Опраксушка, милости прошу к её высокопреподобию. Ждут к себе немедля. Поспешай, родимая, дабы матушка не почали гневаться. Ныне сутрева в нерасположении духа.
– Ах! – воскликнула четырнадцатилетняя княжна. – Не иначе, дурные вести. Может, батюшка нежданно-негаданно захворали? Или с братцем Володимером Мономахом что? Ой, не приведи Бог! – И, перекрестившись, устремилась к двери.
Был июнь. Солнце жарило рьяно, прямо-таки вцепляясь в чёрную материю её платья. Туфельки шуршали по белому раскалённому камню бесконечного ряда ступенек. Если глянуть с высокого крыльца, можно рассмотреть за стеною монастыря вымощенный Андреевский спуск, ведший ко Владимирской горке. Именно с неё, по преданию, сто лет назад и крестил её прадед киевлян...
Девочка вошла в Янчины палаты. Янке было в ту пору тридцать три года. Стоя у оконца, настоятельница смотрела во двор, и её худая длинная фигура в чёрном балахоне выглядела точно обугленное дерево посреди сильного лесного пожара. Повернула голову в сторону вошедшей. Тень от рамы вроде разрезала её лицо: нос немного приплюснутый, плотно сжатые недобрые губы...
– А, явилась не запылилась, – проворчала игуменья, подойдя к сестре. – Говорят, в последнее время делаешь успехи. На латыни болтаешь бойко. Ну-тка переведи: «Fortuna tibifavet».
Девочка наморщила лоб:
– «Счастье... тебе... благоволит...»
– Совершенно правильно. Но об этом есть и другое изречение: «Fortuna vitrea est, tum, cum splendet, fran-gitur». Понимаешь? «Счастье порою разбивается, как стекло, в миг его особого блеска». Никогда нельзя забывать, чтоб не загордиться.
Евпраксия согласно поклонилась. Настоятельница монастыря протянула руку и взяла двумя пальцами нежный подбородок сестры. Подняла её лицо к свету, рассмотрела внимательно: смуглая, с оттенком гречишного мёда, кожа, сросшиеся брови, острый носик, карие глаза, словно два умытых дождём лесных ореха, загнутые кверху ресницы... Да, она была хороша! А со временем превратится просто в красавицу – безусловно. Почему одним всё, а другим ничего? Чем Господь прогневался на Янку? Обделил женской привлекательностью, а потом и разбил надежды на семейное счастье? А вот этой пигалице, половчанке, соплячке – и пригожесть, и отменное сватовство? Ненавижу её, задушить готова!
– Не томи мою душу, сделай милость, – жалобно сказала юная княжна, не сумев по-взрослому выдержать устремлённого на неё холодного, хищного взгляда. – Для чего кликнула меня? Не случилось ли что худого с тятенькой и маменькой?
Верхняя губа игуменьи иронически дрогнула:
– Маменька твоя!.. Что с ней станется? – Отпустила подбородок малышки. – И отец, слава Богу, здоров и бодр. От него прибежал посыльный. Велено тебе идти во дворец, в лучшие наряды облечься и предстать пред их сиятельны княжьи очи.
– Что за надобность – сообщи, не мучь!
– Скоро всё узнаешь. – Янка посмотрела на неё с долей жалости: – Не трясись, дурёха. Чай, не голову тебе сечь ведут. Живота не тронут. – И перекрестила напутственно: – Ну, ступай, ступай, время дорого. У ворот увидишь Груню Горбатку и холопа Микешу – с ними и пойдёшь.
Поклонившись, Евпраксия скользнула за дверь. Ног не чуя, проскакала по лестницам и пошла вприпрыжку через жаркий, раскалённый полуденным солнцем двор. Тут навстречу ей стали появляться из мастерских её однокашницы. В том числе и две сердечных подруги – Фёкла по прозвищу Мальга и Екатерина, Катя Хромоножка. Фёкла происходила из боярского рода Вышатичей, но её родители умерли, а из родственников остались только дяди – Ян Вышатич и Путята Вышатич. Оба посчитали за благо приютить племянницу в школе для девочек при монастыре, уплатив за её полное довольствие. Бедная же Катя, несмотря на увечье – родовую травму, вывихнутый бедренный сустав, – сохраняла доброту и весёлость. Обе, заприметив Опраксу, сразу подошли, начали выспрашивать: для чего позвали? Что случилось?
– Ой, не знаю, не знаю, – ни жива ни мертва говорила Ксюша, осеняя себя крестом. – Батюшка в палаты зовут. Для не ясно какой затеи.
– Может, сватать будут? – вслух подумала Хромоножка. – Очень даже просто.
– Неужели? – похолодела сестра. – Я умру от страха!
– Душенька, Опраксушка, – улыбнулась Мальга, – коли отдадут тебя за какого-нибудь заморского прынца, прихвати и меня с собою в чужедальние страны! Страсть как хочется поглядеть на мир!
– Ясно, прихвачу, – нервно рассмеялась подруга.
– Вместе-то надёжней.
У ворот её поджидала Груня Горбатка, пожилая нянька, и холоп Микеша, парень лет шестнадцати, бывший у князя на посылках. Оба поклонились при виде маленькой хозяйки.
– Грунечка, голубушка, – бросилась она к челядинке, – растолкуй, сделай милость, на какую такую надобность я сдалась отцу?
– Ох, кровиночка ты наша, буйная головушка, – обняла её скособоченная служанка. – Увезут тебя от нас к бусурманам лютым, за четыре моря! – И расплакалась чуть ли не навзрыд.
– Тьфу, Горбатка, полно голосить! – сплюнул провожатый. – Ты не слушай ея, дуру окаянную, Евпраксея свет Всеволодовна. Никакие не бусурмане лютые, а вдова Святославова из Неметчины пожаловали – выдавать тебя за немецкого племянника, богатея-вельможу.
– Свят, свят, свят, – прошептала княжна. – Да неужто правда?
– Вот те крест – не вру!
Не прошло и полутора часов, как её, разодетую в парчу и меха, с длинной толстой косой, перекинутой на грудь, в золотой диадеме шириной в два пальца, всю в бриллиантах и яхонтах и с височными золотыми кольцами, вывели в просторную залу-гридницу – главную палату дворца.
Во главе стола восседал отец – Всеволод Ярославич, плотный широкоплечий мужчина, у которого левая бровь была рассечена саблей; этот шрам придавал его лицу выражение постоянного удивления.
Справа от него находился Ян Вышатич – старший дядя Фёклы-Мальги, киевский тысяцкий, воевода, с крупной сединой в волосах и серьгой в правом ухе.
Слева занимал место митрополит Иоанн II в белом клобуке и просторной рясе; из-под бороды клинышком у него блестел серебром тяжеленный крест. Был он константинопольский грек и не одобрял связей Киева с Западом.
Дальше располагались приближённые князя – видные дружинники, знатные бояре и старейшины города. На такие пиры женщин не пускали, но сегодня сделали исключение: по одну сторону от князя разместилась его супруга – половчанка Анна, по другую – Ода фон Штаде. Евпраксия помнила её смутно (та уехала в Германию шесть лет назад, девочке тогда было восемь), но теперь, после слов Микеши, сразу восстановила в памяти.
Поклонившись в пояс, Ксюша прошептала:
– Здравия желаю всем честным господам, а великому князю и великой княгине в отдельности. Звал ли, тятенька? Правду ли поведали, что имеешь ты надобность во мне?
Всеволод отпил из высокого червлёного кубка, согнутым указательным пальцем вытер край усов; на перстах его горели драгоценные кольца. Ласково взглянув серыми глазами на дочь, утвердительно покивал:
– Здравствуй, здравствуй, Опраксушка, самая пригожая моя дщерь. Как идёт учение, много ли познаний праведных ты в себя впитала?
– Слава Богу, порядочно. Слов дурных от наставников не слыхала.
– Умница, хвалю. И горжусь тобою. А теперь услышь княжье и отеческое моё повеление. Надлежит тебе этим летом следовать в германские земли, к будущему мужу – графу Штаденскому. Во главе поезда поскачет Ян Вышатич, а с собою возьмёшь надлежащую прислугу и знатное приданое. Я скупиться не стану, лучшее отдам, что смогу. Тем продолжу деяния моего великого тятеньки Ярослава, укреплявшего узы Иеропии и Руси. И да будет по сему!
Юная княжна в знак покорности наклонила голову, приложив руку к сердцу, и затем, волнуясь, проговорила:
– Как прикажешь, отче. А дозволь просьбу высказать?
– Говори, не таись, хорошая.
– Разреши взять с собою Фёклу-Мальгу как мою любимую дружку? У нея такое желание, да и у меня тож. Мы вдвоём, обе-две, верно не погибнем посреди чужеземцев!
Все заулыбались речи Евпраксии, а отец ответил:
– Я бы согласился, будь на то воля попечителей ея, Яна да Путяты.
Пожилой воевода покачал серьгой в ухе и покашлял в кулак. А потом сделал разъяснение:
– С братцем мы давно в распрях. У него спросите отдельно. А с моей стороны возражений нет. Пусть Мальга поедет, может быть, и счастье своё отыщет. В жизни ить, известно, происходит всяко.
Так и рассудили. Только митрополит пробубнил с неодобрением:
– Никакого счастья у еретиков-латинян быть не может. Лишь разврат и смута.
Киев постоянно лавировал между Западной Европой и Константинополем. Всеволод пышно принимал послов от Генриха IV, воевавшего с Папой, но открыто не поддерживал. А митрополит, ненавидевший католиков, в споре Генриха и Папы всё-таки склонялся в пользу Папы, нежели «антипапы» (то есть вёл себя, как и Константинопольский Патриарх). Словом, князь нередко поступал, не считаясь с первосвятителем, Иоанн же позволял себе иногда словесные выпады против князя. В целом же друг с другом уживались неплохо.
Вскоре после пира в терем к Евпраксии, милую светёлку, где она жила, поднялась тётя Ода. Заглянула в дверь и сказала на вполне сносном русском:
– Тук-тук-тук, мошно заходить? Я не потрефошу покой будусчий графинь?
Девочка вскочила с колен, потому что молилась перед образами в Красном углу, и, залившись румянцем, вежливо склонилась в поклоне.
– О, мин херц, мне не нушен цирлихь-манирлихь. Мы с топой же родные, йа? – И она по-матерински обняла Ксюшу. – Мой племянник Хенрихь повелел кланяться тёпе и преподносить айне кляйне подарок в знак лубоф унд на добрый лад – так, понятно, йа? – Немка отцепила от пояса небольшой кожаный мешочек и достала оттуда серебряную коробочку на цепочке. – А те-пер смотреть, што фнутри этот медальон! Айне гроссе интересе!
Дочка Всеволода надавила на пупочку сбоку, верхняя пластинка подпрыгнула, и под ней оказался вырезанный из кости профиль молодого мужчины, прикреплённый на тёмно-фиолетовый самоцвет, выполнявший роль контрастного фона. Миниатюра была необычайно изящной. Ода объявила:
– Это есть господин Нордмарки, маркграф фон Штаде, Хенрихь Ланг, што по-русски Длинный, – тфой шенихь! Мошно надефать цепочка на шея и носить, как ладанка, штоп не сапыфать! Ты дофольна, йа?
Профиль был как профиль, никаких эмоций он не вызывал, но из вежливости пришлось согласиться:
– Благодарствую, тётушка, за заботу и ласку. Буду носить на шее и молиться за здоровье его светлости.
– Гут, гут, ошень карашо!
Немка была действительно довольна: сговор состоялся, и, пока он шёл, слуги маркграфини, бывшей великой княгини Киевской, выкопали из указанной ею пещеры сундуки с богатствами, погрузили на крытые повозки и доставили в условное место, вне Киева, чтобы присоединиться к свадебному поезду, отправлявшемуся в Германию. И наверное, из приданого Евпраксии Генрих Длинный что-нибудь ей отвалит, отмечая тётины заслуги в устроении выгодного брака. Так она обеспечит безбедную жизнь и себе, и сыну!..
А подруги Ксюши, рассмотрев профиль в медальоне, заключили веско: некрасив, но и не дурен. Фёкла заявила:
– Ай, с лица, известно, воду-то не пить. Главное – богатый да знатный.
– Нет, ну всё же приятнее, если муж лен лицом и телом, – уточнила невеста.
– Может, и приятнее, только в муженьке красота – дело второстепенное. Радуйся, что идёшь не за старика и не за урода. Вот бы натерпелась тогда!
Катя Хромоножка поддержала её:
– Ох, счастливая ты, сестрица! Вот меня, убогую, век никто не просватает.
Будущая графиня, пожалев бедняжку, обняла её и поцеловала:
– Не тужи, родимая. Стану я в Неметчине настоящей хозяйкой, обустрою дом и тебя к себе выпишу. Уломаю супруга-то. Чай, не обедняем. Будешь за моими детьми приглядывать!
И сёстры хохотали от радости.
А потом у монашки Гликерьи – той, что преподавала в школе для девочек Андреевского монастыря греческий язык, географию и историю, – без конца допытывалась в деталях: какова страна Германия, с чем её едят? И совместными поисками в умных книгах выяснилось вот что.
Триста лет назад простиралась от Испании до Чехии и Польши необъятная держава императора Карла Великого. А когда он умер, то его империя быстро развалилась на части. К западу возникло королевство Франция, к югу – Италия, на востоке – Германия, между ними – Бургундия. И Германия, в свою очередь, состоит из отдельных княжеств-герцогств – Швабского, Баварского, Лотарингского, Франконского и Саксонского. Каждое герцогство – из отдельных вотчин, «марок». Стало быть, фон Штаде в герцогстве Саксонском заправляет Нордмаркой, примыкающей к Северному морю.
А король в Германии – Генрих IV – из Франконии. И саксонцы его не любят.
Евпраксии теперь часто снились эти загадочные земли – почему-то в виде непроходимых лесов, где поют диковинные разноцветные птицы и гуляют неведомые звери – единороги. А ещё снилось море – впрочем, больше похожее на Днепр, только шире, – как она и мужчина с профилем из медальона едут на большом красивом челне в сторону восходящего из воды солнца. «Господи, – молила невеста, – сделай так, чтобы всё это сбылось, стало явью. Чтобы полюбил он меня, я его, и, проживши дружно, мы бы умерли, как в сказке, в один день!»
Подготовка к отъезду шла тем временем полным ходом. В сундуки холопы складывали приданое, обустраивали повозки для дальней дороги, в специальном хлеву конюхи ухаживали за тремя княжьими верблюдами, поднесёнными Всеволоду его тестем – половецким ханом Осенем: было решено поразить воображение немцев экзотическим видом этих животных.
В отношении к самой Ксюше вскоре обнаружились перемены: девочки-боярышни в женской школе откровенно завидовали, а учительницы-монашки спрашивали не так строго. В окружении Всеволода то и дело заговаривали о грядущей поездке и давали советы. Даже сводный брат князь Владимир Мономах, прискакавший из Чернигова, где тогда правил, по делам к отцу, встретил девочку с невиданной доселе учтивостью, по щеке погладил:
– Немчуре спуску не давай, пусть не задаётся. Гитушка моя, аглицкая прынцесса, очень немцев не любит. Говорит, дикари да варвары. Ну, да ты не пасуй, знай, что за тобой – Русь!
Был он вылитый тятенька, только тридцатилетний. Портил его лишь слегка приплюснутый нос, как у Янки, – родовой знак Мономахов.
А ещё у Опраксы случился памятный разговор с иудеем Лейбой Шварцем, киевским раввином. Он два раза в год приносил князю дань, собранную с еврейской общины, и как раз сидел на скамейке в гриднице, ожидая управляющего хозяйством – тиуна, а княжна пробегала мимо. И, о чём-то вспомнив, подошла к нему.
Иудей поднялся и учтиво наклонил голову в шапочке-кипе. А невеста Генриха Длинного, посмотрев на Шварца снизу вверх, чуть прищурилась и спросила живо:
– Ты ведь, Лейба, родом из Германии – правду говорят?
Тот прикрыл веки в знак согласия:
– Точно так, да хранит Господь красоту твоё и здоровье!
– Что ж, тогда поведай, как там люди живут – весело, богато?
Иноверец развёл костистыми руками и пожал плечами. Было ему около пятидесяти, но морщины уже виднелись на его продолговатом лице, и залысины убегали под самую шапочку.
– Одного ответа у меня нет. Кто богаче, тот живёт весело. Кто беднее – печальнее. А бывает наоборот. Как везде. Просто к нашему брату, иудею, зачастую относятся плохо. Хуже, чем в Киеве.
– Отчего же так?
– Злобы в людях больше. Предрассудков и нетерпимости. Заставляют нас пришивать к одежде жёлтую полосу и носить колпак с рогами, чтобы точно видеть, что идёт чужак. Именно его надо бить в случае погрома. Оттого и бежим кто куда – либо на запад, к гишпанцам[13]13
гишпанцы – испанцы.
[Закрыть], либо на восток, к ляхам[14]14
ляхи – поляки.
[Закрыть] и русичам.
– Понимаю... А скажи, как зовётся стольный град Германии – вроде нашего Киева?
– Но такого у немцев нет.
Ксюша в удивлении вытянула губы:
– Разве так возможно? Где живёт их король?
– Генрих Четвёртый, с твоего позволения, проживает в замке у себя во Франконии. Часто приезжает в другие герцогства. А столицы нет, так уж повелось.
– Надо же! Престранно, – покачала головой девочка и, подумав, ещё спросила: – А каков он, этот король? Ты его живьём видел?
– Видел, как твою светлость. Он высокий, стройный, держится в седле прямо. Взгляд – как молния... Про него разное болтают. Вроде бы заметит девушку пригожую – и увозит к себе в опочивальню. Ночь потешится – и зарежет. А ещё, говорят, будто не признает христианский Крест... Но не надо доверять сплетням: на торговой площади всякое услышишь.
Евпраксия перекрестилась:
– Ох, не дай Бог встретиться с таким! Ничего, в случае опасности Генрих Длинный, мой жених, меня защитит. Как ты думаешь, Лейба?
– Защитит, наверное. Если Генрих Четвёртый его не погубит...
Накануне отъезда князь пригласил Опраксу к себе, долго наставлял, говорил, что в семейной жизни надо слушаться во всём мужа, не перечить и не скандалить, соблюдать местные обычаи, деньги зря не тратить, а детей воспитывать в строгости и богобоязни.
– Тятенька, ответь, – задала ему вопрос дочка, – а коль скоро Генрих Длинный не окажется мне по сердцу, будет невоспитан и груб, а ещё, паче чаяния, бить начнёт и куражиться, – как мне поступить? Ворочаться домой без спросу или же терпеть до последнева?
Озадаченный Всеволод посмотрел на неё внимательно, и кривая, рассечённая левая бровь придала его лицу выражение ещё большего удивления. Подойдя поближе, он провёл ладонью по её волосам, чуть волнистым, мягким, цвета еловых шишек, заглянул в глаза. От отца пахло мускусным орехом: он специальной мазью нафабривал бороду, усы и причёску.
– Надобно терпеть, дочь моя. Ибо нам невзгоды даются для смирения духа. А князья да цари – человеки особыя, избранныя Господом для печения о простом люде. «Люб – не люб, по сердцу – не по сердцу», – разговор не про нас. Умножение достоинства и славы Отечества – вот о чём надо думать. А своим бегством опозоришь Русь... – Он прошёл взад-вперёд по палате, где беседовал с девочкой, и дощатые половицы под его сафьяновыми сапожками недовольно заохали. – Муж даётся Богом, и разрушить брачныя узы может только Бог. Или Церковь Святая – в редких случаях. Но тебе о них лучше и не знать. Так что ворочаться домой без спросу не смей.
– Как прикажешь, отче, – поклонилась дочь.
А за день до прощания мать-княгиня завела девочку к себе в горницу. Анне минуло в ту пору тридцать лет; небольшого роста, хрупкая, неулыбчивая, половчанка посмотрела на Ксюшу строгими глазами и сказала чинно:
– Тэвочки моя, скоро расставаться, да. Я тебе давать материнский совет-мовет: не позорить себе, но держать очень высоко! «Я княжон!» – всюду помнить. У тебе предок – не одна Русь, не один Рурик, не один варяг-маряг, нет! Есть и наш куманский хан – Осень, Шарухан, Урусоба. Помнить хорошо!
– Буду помнить, матушка, – посмотрела на Анну Ксюша и слега потупилась.
Мать порывисто притянула её к себе и, прижав к груди, звонко чмокнула в щёку – может быть, впервые за всё детство. А потом, вроде устыдившись, оттолкнула прочь:








