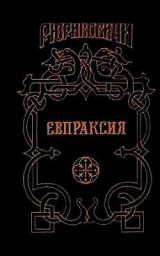
Текст книги "Евпраксия"
Автор книги: Михаил Казовский
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 26 страниц)
Месть Адельгейды

Из книги В. В. Богуславского, В. В. Бурминова
«Русь Рюриковичей. Иллюстрированный исторический словарь».
М., 2000 г.
 впраксия Всеволодовна (1069 – 1109) – германская императрица, дочь великого князя Киевского Всеволода Ярославича. Просватанная ещё девочкой (1083) за маркграфа Штаденского (в Северной Саксонии) Генриха Длинного, юная Евпраксия Всеволодовна прибыла в Германию и до 1086 года воспитывалась в монастыре. Достигнув брачного возраста, была обвенчана с маркграфом, но вскоре овдовела и вернулась в монастырь. В молодую вдову влюбился император Генрих IV, и в 1089 году она вышла за него замуж, став императрицей Адельгейдой. Этим браком Генрих IV преследовал двоякую цель: найти поддержку в лице могущественного киевского князя и примириться с саксонскими маркграфами. Расчёты Генриха не оправдались, что вызвало его ненависть к Евпраксии Всеволодовне. Она подверглась оскорблениям и издевательствам со стороны мужа и его придворных, стала причиной ссоры Генриха с сыном Конрадом, осуждавшим насилие отца над мачехой. Не выдержав атмосферы германского двора, Евпраксия Всеволодовна бежала к Папе Урбану II. Дело Евпраксии Всеволодовны было передано на рассмотрение церковных соборов в Констанце и Пьяченце. Соборы осудили поведение Генриха IV, что ускорило его поражение в борьбе с Папой. Оправданная, Евпраксия Всеволодовна развелась с мужем и уехала (1097) в Венгрию, а оттуда – на родину. В 1106 году постриглась в одном из киевских монастырей.
впраксия Всеволодовна (1069 – 1109) – германская императрица, дочь великого князя Киевского Всеволода Ярославича. Просватанная ещё девочкой (1083) за маркграфа Штаденского (в Северной Саксонии) Генриха Длинного, юная Евпраксия Всеволодовна прибыла в Германию и до 1086 года воспитывалась в монастыре. Достигнув брачного возраста, была обвенчана с маркграфом, но вскоре овдовела и вернулась в монастырь. В молодую вдову влюбился император Генрих IV, и в 1089 году она вышла за него замуж, став императрицей Адельгейдой. Этим браком Генрих IV преследовал двоякую цель: найти поддержку в лице могущественного киевского князя и примириться с саксонскими маркграфами. Расчёты Генриха не оправдались, что вызвало его ненависть к Евпраксии Всеволодовне. Она подверглась оскорблениям и издевательствам со стороны мужа и его придворных, стала причиной ссоры Генриха с сыном Конрадом, осуждавшим насилие отца над мачехой. Не выдержав атмосферы германского двора, Евпраксия Всеволодовна бежала к Папе Урбану II. Дело Евпраксии Всеволодовны было передано на рассмотрение церковных соборов в Констанце и Пьяченце. Соборы осудили поведение Генриха IV, что ускорило его поражение в борьбе с Папой. Оправданная, Евпраксия Всеволодовна развелась с мужем и уехала (1097) в Венгрию, а оттуда – на родину. В 1106 году постриглась в одном из киевских монастырей.

Киев, 1106 год, лето
 есть о смерти тысяцкого[1]1
есть о смерти тысяцкого[1]1
тысяцкий – военный предводитель городского ополчения (тысячи).
[Закрыть] Яна Вышатича прибыла с монахом, посланным от игумена Печёрской обители. Инок, стоя во дворе, потный, жалкий, кланялся и крестился, а великая княгиня, сидя на крыльце за столом и потягивая прохладный кумыс, подставляла лицо дуновениям, шедшим от опахала, слушала бесстрастно. Да чему ж удивляться? Удивительно не то, что Вышатич умер, а, наоборот, как ему посчастливилось дотянуть до своих девяноста лет! Прямо-таки библейский возраст. При его-то жизни, полной войн, погонь и опасностей! Человек был неглупый, сильный, не слезал с коня до последних дней. Царствие ему Небесное!
Вестник, поклонившись, спросил:
– Что сказать их высокопреподобию? Ожидать ли тебя, свет мой, матушка, на похоронах?
А великая княгиня ответила с сильным половецким акцентом:
– Нет, не ждать-пождать, голёва болеть. Плякать не хотеть. – И, подумав, добавила: – Я Опраксушке повелеть сказать. Может приходить.
– И на том спасибочки. Мы княжну Евпраксею свет Всеволодовну любим всей душою, страстотерпицу нашу. Мученицу, голубушку...
– Замолкать, чернец! – отмахнулась от него бархатным платочком княгиня. – Вон ступать!
Продолжая кланяться, нарочный попятился к выходу.
Этот разговор состоялся во дворце вдовствующей великой княгини в Вышгороде – в нескольких вёрстах к северу от Киева. Дочку половецкого хана Осеня, о пятнадцати годах от роду, выдали её за великого князя Киевского Всеволода Ярославича и, крестив, дали имя Анна. Родила от супруга княгиня трёх детей. Прожила среди русских больше полувека, но язык в совершенстве так и не осилила. Да и многие ханские обычаи сохранила: поднималась поздно, била холопок по щекам за малейшую провинность, обожала кумыс и катык, конные прогулки верхом и протяжные половецкие песни, исполняемые под комуз[2]2
комуз – трёхструнный щипковый музыкальный инструмент.
[Закрыть] специально обученной девушкой. Говорила всегда с некоторой брезгливостью, выворачивая и кривя нижнюю губу. И практически никогда не плакала, даже на отпеваниях мужа и сына, что произошли тринадцать лет назад, чуть ли не одно за другим.
После смерти князя Анна переехала из Киева в Вышгород. И жила здесь со своей старшей дочерью – Евпраксией (в обиходе – Опраксой, или просто Ксюшей). Та была затворницей, появлялась на людях редко и всегда опускала чёрный плат на глаза, чтоб её меньше узнавали. Но народ узнавал всегда и показывал пальцами. Говорил вполголоса: «Ишь, пошла, пошла – сука-волочайка!» И смеялся зло. А когда кто-нибудь незнающий, из приезжих, недоумевал: «Да за что же вы хулите столь пригожую молодую скромницу?» – киевляне скалились: «Скромницу? Конечно!» – и подмигивали похабно. Страшную историю Евпраксии знали многие. Но, как всякие россказни, от бесчисленных повторений обрастала она несуразицами и бреднями. Даже повторять совестно.
А когда мать-княгиня за вечерней трапезой сообщила дочери о кончине Яна Вышатича, та чуть слышно охнула и нечаянно пролила на колени щи. Подняла глаза, полные тоски и страдания:
– Господи, помилуй! Как сие прискорбно! Я его любила. – Вытащив платок из левого рукава, промокнула закипевшие слёзы. Тяжело вздохнула: – Помнишь, маменька, он возглавил свадебный поезд мой в Неметчину?
– Помнишь, помнишь, – подтвердила княгиня.
– И к подружке моей, Фёкле-Мальге, собственной племяннице, относился по-доброму. Разрешил нам поехать вместе.
– Помнишь, помнишь, – повторила родительница. – Как там есть Мальга? Жив ли, нет ли?
– Сказывали, в здравии. Родила четверых детишек. И совсем онеметчилась, с нашими купцами-гостями знаться не желает.
– Вах, вах, вах, это непорядок. Род свой забывать плёх. Я не забывать. Я куманка есть, половка-куманка. Мой народ велик! Киевский народ тож велик! Забывать плёх.
Евпраксия слушала мать невнимательно, думая о своём. Вспоминала прошлое. Столь уже далёкое, но всплывавшее в памяти отчётливо, словно это было вчера. Ян Вышатич, свадебный поезд, незнакомые города и веси, страх в душе и весёлое щебетание Фёклы-Мальги над ухом... Да, подруга теперь – маркграфиня[3]3
маркграф (нем. Markgraf) – буквально граф Марки, в Средние века владетель феодального княжества.
[Закрыть] фон Штаде. А она, Опракса, брошенная всеми, жалкая и не нужная никому, кроме близких женщин – матери, сестры и приёмной дочери, – прозябает в Вышгороде. Дома – как в изгнании. Никаких надежд. Никакого проблеска впереди.
Чёрные её думы перебила Анна:
– Ты пойти на отпевание Ян Вышатич?
Ксюша сдвинула брови, возвращаясь мысленно к матери, утвердительно покивала:
– Да, конечно, надо бы сходить, попрощаться.
– Ну, сходить, сходить. От мене поклёниться тож. Я дружить с Ян Вышатич. А с его брат не очень дружить. Хитрый, как лиса.
Евпраксия поднялась к себе в терем. Заглянула в светёлку, где кормили Васку – Вассу, восьмилетнюю сироту, что была у княжны на попечении. Та вскочила и поклонилась.
Ксюша усадила её на место и погладила нежно по головке. Ласково спросила:
– Как ты поживаешь, голубушка? Сытно ли тебе?
– Слава Богу, не жалуюсь.
– Кушай, кушай. Я с тобой посижу, попотчую. Как же ты похожа на свою несчастную маменьку, Царствие ей Небесное!
Девочка спросила, продолжая уплетать ложкой кашу:
– А какая она была, маменька моя?
Женщина задумчиво улыбнулась:
– Шустрая, весёлая. Спорая да ловкая. На язык острая. Настоящая немка.
– И отец мой – из немцев?
– Нет, отец – бургундец. Лыцарь и маркиз. Великан ростом. Ну а маменька – маленькая, кругленькая...
– Не из благородных?
– Маменька-то? Нет. Из простых горожанок.
– А отец, стало быть, вельможа?
– О, ещё какой!
– Получается, родители мои не были обвенчаны?
Евпраксия смутилась, помолчала немного, но таиться не захотела:
– Да, выходит...
– Получается, что я – плод греха? – Васка смотрела на княжну не мигая изумрудными, пронзительными глазами, совершенно такими, как у Паулины-покойницы.
Опекунша взяла воспитанницу за руку:
– Для чего бросаться хлёсткими словами? По закону – греха, а по справедливости – плод любви. Ведь любовь всегда праведна.
– А твоя любовь к императору Генриху?
Изменившись в лице, Евпраксия ответила строго:
– Сей вопрос не для твоего разумения.
Девочка, поняв, что зашла слишком далеко, залилась густой краской. И, уставившись в миску с кашей, стала бормотать:
– Извини меня, матушка, мой свет, не подумавши брякнула...
Взрослая, смягчившись, вновь дотронулась пальцами до её расчёсанных на прямой пробор светло-русых волос:
– Ладно, ладно, не сержусь боле. Кто тебе напел про мою любовь к Генриху?
Девочка пожала плечами:
– Дык ведь все, кому не лень, бают...
– Вот ведь балаболы, ей-богу! Делать людям нечего, кроме как перемывать мои косточки. Ты не слушай их.
– Хорошо, не буду.
– А начнут говорить – не верь.
– Ничему не поверю, матушка, мой свет.
– Я одна знаю правду.
– Мне ея поведаешь? – Васка посмотрела на княжну снизу вверх, с любопытством.
Евпраксия произнесла твёрдо:
– Нет. – А потом пояснила: – Это никого не касается.
– Никого-никого?
– Совершенно. – Опекунша встала. – Заруби сие на своём маленьком носу. – Наклонилась и поцеловала девочку в лоб. – Доедай, допивай, и пойдём помолимся. Чтоб Господь наш Иисус Христос сжалился над нами. И над теми, кого мы любим. – Осенила её крестом и вышла.
И пока проходила в свои покои, вдруг подумала: «Ну а что, если сочинить Генриху письмо? Тайно передать через иудейских купцов? Завтра и отправить? Может, он теперь, после отречения, вновь захочет соединиться со мною?» Затворила дверь и, упав у себя в светёлке на колени в Красном углу, заломила руки, протянула их к иконе Матери и Младенца:
– Пресвятая Богородица, Дева Мария! Вразуми и наставь! Как мне поступить? Ведь моя жизнь без него – не жизнь!..
Киев, на следующий день
Отпевание Яна Вышатича в церкви Спаса на Берестове проводил сам митрополит Киевский и Всея Руси Никифор. Был он константинопольский грек, худощавый, с бородкой клинышком. Говорил исключительно на греческом и по-русски понимал плохо. Вкруг него и гроба сгрудилась со свечками высшая киевская знать: правящий князь Святополк Изяславич и его супруга-половчанка; брат покойного – тоже тысяцкий, Путята Вышатич; прочие бояре; из Переяславля прибыл тамошний князь Владимир Мономах; тут же стоял игумен Печерского монастыря Феоктист и игуменья Андреевской обители Янка. Резко пахло ладаном. Чистые, высокие голоса певчих трогали за самое сердце.
Ян Вышатич лежал в гробу и напоминал деревянную куклу. Совершенно не был похож на того молодцеватого воеводу, что сопровождал Евпраксию в Германию: басовитого, стройного, осанистого, несмотря на свои тогдашние шестьдесят с лишним лет, с золотой серьгой в правом ухе и раскатистым, задиристым смехом.
Как давно это было!
Евпраксия стояла и вспоминала. Восковая свеча горела в её руке, чуть потрескивая и тая. На душе было горько, пусто, одиноко, тоскливо...
Неожиданно услышала брошенное кем-то недовольным шёпотом: «Кто пустил сюда суку-волочайку?» – вздрогнула, подняла глаза. И увидела гневные глаза настоятельницы Янки.
Та напоминала ворону: в чёрном одеянии, узком чёрном платке, стягивавшем щёки, чёрном клобуке и с большим носом-клювом. Бледное невыразительное лицо... Синеватые недобрые губы...
К ней наклонился Мономах и сказал что-то на ухо. Янка фыркнула, дёрнула плечом, отвернулась. Мономах посмотрел на Опраксу и едва заметно кивнул: мол, не беспокойся, улажено. Значит, защитил. Ксюша облегчённо вздохнула.
Но ушла из церкви, не дождавшись выноса тела. Выскользнула тихо, не желая больше обращать на себя внимание. Да и надо было успеть до конца церемонии заглянуть к киевским евреям, чтобы передать заветную грамотку.
Торопливо спустилась с паперти, разместилась в коляске, на которой её привезли из Вышгорода, наказала кучеру:
– По дороге домой заверни в Лядские ворота.
Тот не ожидал подобного распоряжения; обернувшись, проговорил:
– А княгинюшка велели никуда, значит, не сворачивать.
– Делай, как сказала.
Волюшка твоя. Нам чего? Мы холопы. Наше дело помалкивать. – И, причмокнув, щёлкнул кнутом: – Н-но, залётныя!
А еврейский квартал Киева находился как раз возле Лядских ворот (в обиходе их порой называли ещё Жидовскими) и включал в себя несколько десятков домов, в том числе и каменную синагогу. Обретались тут беженцы из Германии, где еврейские погромы не были редкостью. На Руси же иудеи занимались торговлей и ростовщичеством. И за пребывание в городе князь взимал с иноверцев очень крупную пошлину, на которую содержал всю свою дружину. Но евреи с готовностью подчинялись, лишь бы жить в спокойствии и достатке. Местные, киевские, купцы и ростовщики, разумеется, много раз пытались извести конкурентов. Жаловались князю – мол, нельзя терпеть на святой Руси эту нечисть, что распяла Христа. Князь их не слушал, почитая выгоду выше богословских размолвок.
В синагоге раввином был некто Лейба Чёрный (по-немецки – Шварц) – тощий дядька с пейсами, крючковатым носом и большой оттопыренной нижней губой. Говорил негромко, вкрадчиво, с характерным акцентом и заметно грассируя. Выступал посредником в связях между князем и еврейской общиной, лично приносил раз в полгода пошлину во дворец. Евпраксию знал со младых ногтей и всегда ей почтительно кланялся, даже когда та была ещё маленькой девочкой.
И теперь, завидев княжну, поклонился, приложив руку к сердцу. Маслено сказал:
– О, какая честь видеть столь значительную особу в наших скромных стенах...
Ксюша перебила его:
– Не трынди, Лейба. Некогда плести словеса. У меня к тебе дело.
– Понимаю, сударыня. Разве ж Лейба кому-то нужен без дела? Такова моя доля на земле: помогать людям в их заботах.
Поборов волнение, гостья произнесла:
– Можешь передать со своими грамотку? Я ведь знаю, что твои зятья посещают Южную Саксонию по торговой части.
– Да, конечно. Как не ездить? Не поедешь – не продашь и не купишь. И в Саксонию, и в Швабию, и в Баварию. А тебе куда?
– В крепость Гарцбург.
Лейба всплеснул руками:
– Господи, Святый Боже, прости нас, помилуй нас и даруй нам искупление!.. Уж не самому ли Генриху ты отважилась бить челом?
Вся пылая от смущения, Евпраксия ответила:
– Да, ему.
Шварц сочувственно покачал головой, отчего его пейсы-кудряшки стали дёргаться и подпрыгивать, как пружинки:
– Ах, наивная, светлая душа! Мало ль он тебя мучил? Мало ль унижал? Так не лучше ли забыть о нём навсегда? – Но потом вздохнул невесело: – Впрочем, понимаю: любовь... Тот, кто любит, до последнего мига надеется... – И процитировал из Торы: – «Прости нас, о Отец наш, ибо мы согрешили; помилуй нас, о Царь наш, ибо мы нарушили Твой завет; ибо Ты прощаешь и милуешь...»
Евпраксия спросила:
– Так поможешь передать или нет?
У еврея лоб собрался в гармошку:
– Разве Лейба смеет отказать госпоже? Разве Лейба смеет выражать своё мнение? Он его имеет, но держит при себе. Муж моей дочки Хавочки отправляется в Чехию и Силезию в первых числах нуля. Ну а там твоё письмо отдадут купцам из Германии. Думаю, что не позже начала аугуста грамота окажется в Гарцбурге.
Ксюша извлекла из-за пазухи летника[4]4
летник – платье с длинными широкими рукавами, иногда разрезными.
[Закрыть] скрученный кусочек пергамента, перевязанный лентой и скреплённый сургучом с выдавленной печаткой. Протянула раввину. Из-за пояса достала золотую монетку:
– Вот тебе, Лейба, за труды.
Иудей воскликнул:
– Ты считаешь, что Лейба не способен помогать бескорыстно? Нет, способен. Потому что добродетель дороже золота. Потому что моя доля на земле – помогать людям в их заботах. Но когда люди платят, Лейба соглашается и берёт... Потому что у него шестеро детей и одиннадцать внуков. И у каждого внука имеется рот. В этот рот надо каждый Божий день отправлять что-то вкусное. И одной добродетелью сыт не будешь... – Он почтительно склонил голову, на которой была шапочка-кипа, и пробормотал: – «Благодарим Тебя, Господь, Бог наш, ибо Ты даровал нам пищу, которой подкрепляешь нас ежечасно... Бог наш, Отец наш, веди нас, питай нас, поддержи и вызволи нас, Господь, изо всех бед наших...»
А Опракса, бросив «прощай», быстро вышла из синагоги. И, уже проехав Лядские ворота, покидая Киев и направляясь в Вышгород, чуть не повернула назад: «Нет, забрать грамоту у Лейбы, разорвать, помешать отправке!» – и не повернула... Смежив веки, решила так: «Будь что будет. Хуже всё равно некуда!»
А в её послании, составленном по-немецки, говорилось следующее:
«Ваше Императорское Величество! Окажите милость! Дочитайте до конца сию весточку!
Низко кланяется Вам бывшая Ваша супруга, бывшая Императрица Священной Римской империи Адельгейда, урождённая Киевская княжна Евпраксия Всеволодова Рюриковна.
От купцов иудейских я узнала о Вашем отречении от престола. И поэтому только решилась написать. Ибо Вы теперь – частное лицо, и на личные наши отношения больше не сможет влиять политика. Слава Богу!
Пребывая ныне на родине, в материнском доме, и придя в себя после всех моих злоключений, осознала я спорность и во многом неправедность прежних своих поступков. Ибо впала в тяжкий грех гордыни и непослушания, не смогла понять Ваших чаяний, устремлений и убеждений. И, пойдя на поводу у врагов Вашего Величества, нанесла Вашему Величеству ощутимый вред. Я разрушила наше с Вами счастье.
Помните ли Вы, как ходили в Каноссу к Папе Римскому? Как Вы в рубище, босиком, по январскому снегу шли по горным тропам Альп, чтоб покаяться, чтобы получить отпущение всех грехов и благословение на дела святые? Так и я готова приползти к ногам Вашего Величества и молить о прощении. Каюсь, посыпаю голову пеплом.
Не держите зла, снизойдите!
Ибо Сам Господь наш Иисус Христос нам велел прощать. Ибо кающийся грешник, осознавший грехи свои, даже ближе к Богу, чем праведник.
Призовите меня к себе, как однажды в Штирии. Но тогда Вы были ещё при власти и надеялись, что моё возвращение Вам поможет обрести её полноту. А теперь иное: Вы уже не у дел, правит Ваш наследник, и поэтому мы могли бы соединиться просто по любви. Доживать свой век в мире и согласии, в стороне от дворцовых дрязг.
Призовите, Генрих! И тогда Вы найдёте во мне самого преданного друга, любящую жену, мать возможных будущих детей. Я люблю Вас, Ваше Величество. Я люблю Вас ещё сильнее, чем раньше. И без Вас мне одна тропа – смерть.
Умоляю, не отвергайте! Заклинаю Вас памятью покойного Леопольда!»
Лейба не обманул Евпраксию: зять его, отправляясь для закупок товаров в Чехию, взял с собой письмо несчастной княжны. Оставалось только ждать ответа монарха.
Там же, пять месяцев спустя
Накануне Опраксу посетила её младшая сестра – Катя Хромоножка. Получив увечье при рождении, девочка припадала на правую ногу и поэтому выросла слегка скособоченной, развитой неправильно, некрасиво. И лицо её не было здоровым: желтоватая кожа, тёмные круги под глазами. Но имела добрую и светлую душу, нрав улыбчивый, сострадательный. Говорила, как пела. Десять лет уже была инокиней Янчина монастыря: так в народе называли Андреевскую обитель, настоятельницей которой была Янка.
Тут необходимо сделать небольшое биографическое пояснение. Сын Ярослава Мудрого – Всеволод – был женат два раза. Первым браком – на дочери византийского императора Константина Мономаха, Марии. От неё имел двух детей – Янку и Владимира, взявшего себе «фамилию» матери – Мономах. После смерти Марии Всеволод сочетался с половецкой княжной, нам уже известной, Анной, подарившей ему Евпраксию, Ростислава и Катю Хромоножку.
Следовательно, Янка была сводной сестрой Кати и Опраксы. А Владимир Мономах, соответственно, сводным братом.
Он к своим младшим сёстрам относился тепло, заботливо. А она, Янка, невзлюбившая мачеху-половчанку с самого начала, не терпела и детей Анны. Впрочем, нет: к Кате Хромоножке относилась достаточно сдержанно. И взяла к себе в монастырь – для начала послушницей, а затем монахиней. Но красивую, яркую Опраксу отчего-то на дух не выносила. И особенно – после её развода с Генрихом и приезда на Русь...
Ну, так вот: Катя Хромоножка, посетив Евпраксию в Вышгороде, сообщила радостно:
– Говорила с Янкой. И она не против, чтобы Васка занималась в монастырской школе для девочек и работала в вышивальной мастерской!
Ксюша согласилась:
– Очень хорошо. Ей пора подружиться с кем-то. Я ея выучила грамоте и счету, а теперь пускай черпает премудрости у других наставников. – Но в словах княжны не звучало счастья: фразы произносила, непрестанно вздыхая.
Катя не поняла:
– Ты не рада разве?
– Рада, рада. Отчего не рада?
– Но как будто плачешь.
– Нет, совсем не плачу, – и буквально сразу же после этих слов разрыдалась в голос. Но взяла себя быстро в руки; вытирая слёзы, поясняла досадливо: – Ты пойми, родная: сердце не на месте... Остаюсь одна-одинёшенька... Васка для меня – свет в оконце, этакая отдушина в мир... А теперь – тоска! Нечем даже заняться.
– Не преувеличивай, ласточка, – гладила её по плечу Хромоножка. – Можно хлопотать по хозяйству, шить, вязать, перекладывать греческие и латинские книги на русский... и ещё придумать много чего полезного.
– ...никому не нужного...
– Ах, оставь, пожалуйста! Коль явилась на Божий свет, стало быть, нужна Господу. Да и нам – любящим тебя всей душою.
– Маменька как будто бы без меня не тужит. Ей всегда доставало собственных забот! Ты – черница, молишься у себя в обители. Васка тоже выпорхнет из нашего дома, вырастет совсем, оперится – поминай как звали. Я как будто сбоку припёка.
– Выходи замуж сызнова. Народи ребяток.
Евпраксия взмахнула руками:
– Слушать не желаю! После Генриха ни один мужчина не люб.
– Так ступай в монашки.
К Янке в ноги падать? Так она сперва надо мной станет измываться, вываляет в грязи, а потом и прогонит!
– Ой, да будто бы! Ведь меня же не прогнала.
Ты – другое дело. Я – известно кто.
– Кто? – спросила Катя.
– «Сука-волочайка».
– Как тебе не совестно мерзкие слова повторять?
Евпраксия ответила:
– Нет, не утешай. Сука-волочайка и есть.
Ни о чём не договорившись, обе повели Васку в монастырь, чтоб определить в школу. Много лет назад, целых четверть века тому, Ксюша, Катя и подруга их – Фёкла-Мальга – тоже посещали эти занятия. Школу основала первая жена князя Всеволода – Мономахиня Мария, по константинопольским образцам. Девочки из знатных семей постигали тут главные тогдашние дисциплины – от Закона Божьего до изящной словесности, рисования и пения. Все ходили будто послушницы – в белых платочках с перекрещёнными под подбородком и завязанными сзади шеи концами, в чёрных свободных платьях. Помогали монашкам в саду и на грядках. Пели в церкви. И работали в вышивальной мастерской. Время учёбы оставалось ярким пятном в памяти Опраксы. Время детства, светлых надежд на будущее, беззаботности, предвкушения счастья. Ей учиться нравилось. Узнавать новое – о далёких странах и городах, о великих героях прошлого, о бесчисленных мудрецах и подвижниках. Нравилось листать старинные книги, писанные от руки на пергаментах, в кожаных обложках («корках»), иногда окованные железом, точно сундуки или ворота... Да они и были вроде ворот – к знаниям, к Абсолюту, к Истине... Четверть века прошло. Все надежды рухнули. Господи, помилуй!
Но Андреевский монастырь совершенно не изменился. Да и школа осталась прежней: те же белые стены, сводчатые потолки, чистые столы и скамейки; тот же гомон послушниц, те же платьица и платочки; только лица новые, нет уже знакомых, – все знакомые выросли давно, нарожали собственных детей, а иные уже в могиле...
Вот монашек старых было немало: подходили, кланялись, здоровались. А с сестрой Гликерьей, что преподавала греческий, латынь, географию и историю, даже расцеловалась. Из дверей выплыла келейница Серафима – женщина дородная, говорившая басом. Увидав мирянок и не проявив удивления, ближе подошла:
– Здравствуй, здравствуй, Опраксушка. Катерина, здравствуй. Это ваша воспитанница, о которой речь? Ясно, ясно. Матушка дала распоряжения, всё давно улажено. Может оставаться. – И немного свысока обратилась к девочке: – Васса, да? Ты гляди ж, Васса: баловать не смей. Мы шалуний не любим, а особо непослушных наказываем, оставляем без сладкого.
– Да она не такая, смирная, – поспешила заверить Ксюша.
– Ну, дай Бог, дай Бог. А сама-то девица чего надулась? Испугалась, что ль? Нечего бояться. Мы детей не кушаем. Но, наоборот, наставляем на путь истинный. Хоть и строгие, да не злые. Без пригляда и ласки не оставляем. Не молчи, будто бы язык проглотила, и произнеси что-нибудь. Нравится у нас?
Васка ей ответила через силу:
– Да, красиво... Благодарна всем... Матушке Опраксушке... – И моргала жалобно.
– Ну, ступай с сестрой Катериной, пусть тебе покажет обитель и мастерские. – Те ушли, а келейница посмотрела на Евпраксию хмуро: – Ты-то как, сердешная? Маешься, поди?
У княжны покраснели веки. Вспухшими губами сказала:
– Я везде маюсь. На Неметчине маялась, думала – вернусь восвояси, малость успокоюсь. На Руси ж тоска взяла пуще прежнего. Я для всех «сука-волочайка». Лишняя, чужая.
Серафима ответила:
Всех-то не черни. Многие тебя любят. Я люблю. С малых лет люблю, ты ведь знаешь.
Знаю, знаю, спасибочки, – со слезами на глазах улыбнулась княжна. – Только не боишься игуменьи? Янка как прознает – может заклевать.
– Не на ту напала. Да она и знает. Я ей говорила открыто: Евпраксию при мне не трожь. Неча было девку за немца выдавать. Выдали – терпите, не осуждайте.
– Ох, да дело не в немце. Дело во мне самой. У меня на роду написано: умереть неприкаянной.
– Перестань скулить. Тошно слушать: молодая, пригожая, именитая, а стоит гундосит, как дремучая баба. У тебя всё ещё наладится.
– Ох, твоими бы устами да мёд пить!
Из монастыря княжна покатила в еврейский квартал и зашла в синагогу. Лейба появился не сразу и произносил приветствия как-то нервно, суетливо, отводя глаза. Заподозрив недоброе, женщина потребовала:
– Не виляй, пожалуйста, говори напрямки. Возвратился ли зять твой из Неметчины?
– Точно так, сударыня, прибыл благополучно. «Благослови Ты, Господь наш, Бог, Который сохранил нас живыми, дал нам силы, позволил дожить нам до этого часа...»
– Выполнил ли просьбу мою – передал ли с торговыми людьми в Гарцбург письмо?
– Передал, а как же? Обязательно передал.
– Получил ли взамен ответ?
Чёрный-Шварц захлопал ресницами, снова заюлил:
– Нет, увы, возвратился свиток обратно...
Сердце больно сжалось в груди у княжны, на душе стало холодно, противно, словно бы задули свечу. Еле слышно спросила:
– Что, нераспечатанный?
У раввина пейсы запрыгали, как пружинки. Он потряс головой в кипе:
– Да, как видишь. – И достал из-за пазухи пергамент с неразломанным сургучом.
Ксюша его взяла как-то отстранённо, вялыми, безжизненными пальцами.
– На словах-то что передали?
– Ничего, совсем...
– Да дошла ли вообще грамотка до Генриха?!
– Не дошла...
– Как же так, Лейба? Объясни.
Он молчал, не решаясь озвучить главное. Наконец сказал:
– Генрих... их величество... был не в Гарцбурге, а в Льеже... повезли туда... не успели...
– Почему?
– Потому как аугуста в сёдьмый день... император преставился...
Евпраксия стояла как громом поражённая. Не могла понять до конца. Даже улыбнулась невольно:
– Что за чепуху ты городишь? Как – преставился? Быть того не может. Кто тебе велел меня огорчать?
Иудей развёл костлявые руки:
– Мог бы обмануть, но зачем? Говорю, что знаю.
– Да неужто убили? Или захворал?
– Нам сие неведомо. Слухи были, повредился в уме, а затем почил в Бозе.
Ощутив дрожь в коленях, русская присела на ближайшую лавку. Дурнота подступала к горлу. Свет мутился в её глазах.
– Господи, неужто?.. – прошептала она. – Императора нет на свете? Боже мой... Одна!.. Вот теперь уж точно одна!.. – И, лишившись чувств, повалилась наземь.








