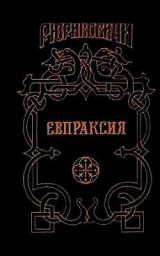
Текст книги "Евпраксия"
Автор книги: Михаил Казовский
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 26 страниц)
Полгода спустя,
Русь, 1108 год, лето
Пребывание в Штаде затянулось для Евпраксии до мая следующего года. Согласившись остаться на зиму, никогда об этом не пожалела. Под присмотром подруги, окружённая лаской и заботой, повседневным вниманием, регулярно питаясь и помогая Фёкле по дому, быстро отдохнула и расцвела, точно роза, принесённая в тёплый дом с холодного ветра. Познакомилась с отпрысками Мальги. Старший, Ханс-Хеннинг, в самом деле походил на отца, Людигеро-Удо, и в свои двадцать лет, будучи женатым и имея крошечного сына, занимался хозяйством мало, предоставив управление Нордмаркой матери; больше муштровал ополченцев и гвардию, охранял земли от набегов сторонников короля и в затишьях между схватками пьянствовал и блудил. А к Опраксе отнёсся с полным безразличием, потому что как человек и как женщина та не представляла для него интереса. Средний, Манфред, повторял отчасти черты Генриха Длинного – был худой, высокий и рыжеватый; посвящённый в рыцари, не стремился участвовать в битвах и турнирах, сочинял стихи и подумывал о карьере богослова. Младший, Гвидо, только-только превращался из отрока в юношу и стеснялся своих прыщей; увлекался домашними голубями и прекрасно играл на дудочке. А единственная дочка Кристиана очень привязалась к «тете Барбаре», как Опракса разрешила себя называть. Девочке исполнилось десять лет, и она родилась через восемь месяцев после отбытия своего папаши в Крестовый поход, так что никогда его не видала. Будучи семейной любимицей, Кристиана умудрилась вырасти не капризной и не ленивой, с удовольствием постигала науки с нанятыми для неё домашними педагогами и неплохо пела. Без конца теребила гостью, заставляя рассказывать о диковинных странах – Венгрии, Италии и Руси. Жаловалась часто: «Маменька о Киеве вспоминать не любит и не обучила меня русскому языку. Говорит, что в жизни мне не пригодится. Ну и что? Я ведь наполовину русская. И совсем отрываться от корней не хочу». Испросив разрешения у Мальги, «тётя Барбара» начала прививать номинальной племяннице навыки родной речи. Та училась живо, и уже к весне распевала:
Солнышко-вёдрышко,
Выгляни, красное,
Из-за гор-горы!
Выгляни, солнышко,
До вешней поры!
Видело ль ты, вёдрышко,
Красну весну?
Встретило ли, красное,
Ты свою сестру?
А когда в апреле Евпраксия засобиралась домой, больше всех огорчилась именно Кристиана. Фёкла не особенно удерживала подругу: интерес к новому лицу, радость первой встречи очень быстро прошли, общие дела не возникли, и, возможно, гостья ей поднадоела. Так, спросила формально: «Может быть, задержишься на чуток?» – и, услышав отказ вместе с благодарностью, наседать не стала. Повторила только, что возок и сопровождение выделит по первому её слову. Но зато племянница страстно умоляла остаться, плакала, сердилась, даже набивалась в попутчицы. Ксюша уговаривала её не переживать: «Подрасти немного, а потом я тебя просватаю за какого-нибудь русского боярина или княжича. И приедешь на Русь – значит, повидаемся». – «Обещаешь, тётечка?» – «Обещаю, милая. Как покойная тётя Ода меня просватала, так и я тебя».
Уезжала Евпраксия вскоре после Пасхи. Маркграфиня дала ей в сопровождение пятерых гвардейцев, кучера и служанку; только пошутила: «Вот верблюдов нет, ты уж не серчай: те, что с нами приехали, передохли давно, новых не заводила». – «Ничего, обойдусь как-нибудь без них».
Обнялись на крыльце дворца, прослезившись, облобызались. Понимали, что прощаются навсегда. Евпраксия сказала: «Ну, прости, подруга, коль обременила невольно». Фёкла попеняла: «Ах, о чём ты? Эти были славные дни. Некое возвращение в юность». – «Да, в которую, по большому счету, возвратиться нельзя». Обнялась и поцеловалась с Кристианой, пожелала ей счастья и удач, поднялась в повозку, помахала рукой на прощание и задёрнула полог, чтоб не видели её слёз.
К середине мая были в Киеве. По дороге никаких неприятностей не случилось, только задержались в Гнезно на три лишних дня, где Опраксу неожиданно тепло приняла дочка Святополка – Сбыслава, польская королева, выданная замуж за короля Болеслава Кривоустого; подарила кучу драгоценностей и дала в сопровождение ещё десять конников. Словом, бывшая императрица въехала в стольный русский град прямо-таки по-царски.
Сразу окунулась в местные заботы: спешное восстановление келий и церквей Печерского монастыря, пострадавших от весеннего паводка. Наводнение было очень сильным, разлились не только Днепр и Десна, но и Припять, затопили весь киевский Подол, несколько прибрежных деревень, в том числе и Берестово, и святую обитель игумена Феоктиста. Под водой погибли несколько человек, в том числе и сестра Манефа, не успевшая выбраться на крышу вместе с остальными – по своей слепоте. Ксюша огорчилась безмерно и не раз потом навещала свежую могилку подруги.
И ещё одну монахиню Бог забрал в Киеве без Опраксы – бывшую келейницу Серафиму. Катерина, рассказывая об этом, говорила твёрдо:
– Харитина-Харя подсыпала Серафиме в трапезу потихоньку мышьяк, небольшими дозами, та худела и таяла, как свеча, потеряла волосы, пожелтела, высохла и спустя полгода преставилась.
– Да почём ты знаешь, коли яд подсыпали тайно? – спрашивала Евпраксия.
– Потому как вначале уговаривали меня, чтобы я травила. Я для вида дала согласие и взяла склянку с мышьяком, но, конечно же, никогда ни капли не подмешала. Думала, что этим Серафиму спасу. Только, вероятно, подсыпал кто-нибудь ещё, так как Харя мне не доверяет.
Евпраксия сосредоточенно думала. Наконец задала вопрос:
– Склянка при тебе?
– Да, храню.
– Согласишься выступить прилюдно, если я затею княжий суд, обвиняя Харитину в убивстве?
Катя испугалась:
– Свят, свят, свят! Да зачем же это? Нет, не надо. Серафимушку назад не вернуть, а тягаться с сёстрами во Христе грешно.
– Я хочу покарать злодейку.
– Ничего в суде не докажешь.
– Как, а эта склянка?
– Скажет, не ея.
– А твои слова, а твоё свидетельство?
– Скажет, что я лгу. И вообще, коли разобраться, надобно не Харю судить – то есть не ея одну. Понимаешь, о ком я? Но уж ту привлечь вовсе не дадут. Зацепиться не за что.
– Может, съездить к Володе в Переяславль? Посоветоваться с ним?
Младшая сестра пожала плечами:
– Зря потратишь время. Мономаху не до наших затей. Он недавно женился на юной половчанке, развлекает и лелеет сударушку из последних сил, говорили многие. Нет, оставь, родная. Охолонись.
Старшая бубнила:
– Что ж, оставить Серафимушку неотмщённой?
– А куда деваться? Надобно терпеть смирно.
– Мы смиримся, а они безнаказанно новую жертву выберут. Например, тебя. Или же меня.
– Не наговори! Я и так глотаю каждый кусок с опаской.
– Ну, вот видишь.
– Всё одно: лучше так, чем ославить матушку на весь Божий мир.
– Хорошо, а давай не по светской линии, а, наоборот, по духовной. Напишу челобитную митрополиту.
Катя замахала руками:
– Час от часу не легче! Ты в своих иеропиях позабыла про то, где живёшь. Тут Святая Русь! На Руси правды не добьёшься – сам же и погибнешь. А митрополит хоть и грек, но не станет выносить сора из избы. Дело-то замнут, только мы останемся в дураках. То есть в дурах.
– Ох, не знаю, не знаю, милая. Коль всего бояться, тоже пропадёшь.
И как в воду глядела: Янка с Харитиной обернули смерть Серафимы по-своему – обвинили в ней саму Катерину! При других монашках обыскали келью черницы и нашли склянку с мышьяком. Несмотря на протесты Хромоножки, заперли её в тёмной и составили грамоту на имя митрополита. А митрополит вызвал всех к себе на разбор, был довольно крут и весьма разгневан. Не учли охальницы, что Никифор тайно не любил Янку. Началось это давно, больше десяти лет назад: после смерти митрополита Иоанна II Янка, испросив согласия у отца, князя Всеволода, ездила в Константинополь за новым первосвятителем; и Никифор тоже претендовал стать главой русской церкви, но приезжая убедила Патриарха, что благословить надо старца Иоанна, схимника и скопца; привезла на Русь, но скопец оказался столь болезненным, что его прозвали в народе «живым покойником»; он и вправду умер через год, и тогда Патриарх рукоположил всё-таки Никифора. А ещё митрополит с подозрением относился к козням преподобной против Евпраксии и благословил переход последней к Феоктисту в Печерскую обитель. Словом, ни игуменье, ни келейнице лёгкая победа явно не грозила.
Разбирательство продолжалось несколько часов. Выслушав обе стороны, грек спросил у поклёпщиц:
– А скажите мне, сёстры во Христе, как по-вашему, для чего Катерине надо было травить Серафиму? По какому умыслу совершила это?
Янка отвечала ничтоже сумняшеся:
– А по вредности. Корень их, половецкий, чересчур вредоносный. И мамаша, великая княгиня Анна, и ея обе дочери. Даром что монашки.
Но Никифор не согласился:
– Несерьёзно, матушка. Вредность вредностью, а убивство убивством. Гляньте на сестру: да у ней у самой еле-еле душа в теле. Кроткая да смирная. Нет, не верю вам.
– Как, а склянка с ядом? – вырвалось у Хари.
Катерина не выдержала и сказала:
– Ты же мне сама склянку и дала. Дабы сыпала мышьяк Серафиме в пищу!
– Врёт она! – взвизгнула келейница. – Не было такого!
Обе стороны затеяли перепалку, зашумели, загомонили, начали бросать обвинения по второму кругу. Но первосвятитель резко оборвал эту свару:
– Прекратить! Прекратить немедля! – даже посохом золочёным стукнул в пол. А когда женщины утихли, задал Хромоножке вопрос: – Значит, баешь, Харитина дала отраву?
Младшая княжна осенила себя крестом:
– Истинно: клянусь! Принесла мне в келью и говорит: если откажусь, то меня погубят вместе с Серафимой.
– А за что, за что?
– Знамо дело: из-за Евпраксии. Ненависть к Опраксе их душит.
Янка сорвалась, крикнула с надрывом:
– Бред! Не верьте! Катеринка больна, тронулась умом!
– Погоди же, матушка, – вновь прервал её грек. И опять обратился к монашке: – А скажи, сестра, ты взялась бы стать игуменьей Андреевской обители?
Испугавшись, Хромоножка захлопала глазами:
– Я?! Да как же ж? А куда Янку?
Та стояла бледная, неподвижная, воплощённая ненависть ко всему и всем. А митрополит проворчал негромко:
– Мы о ней позаботимся, не волнуйся. Ты сама пошла бы в игуменьи?
– Это неожиданно... Я в смятении, право слово!.. – Посопела и брякнула: – Может, и пошла бы...
– Вот и превосходно. Принимай дела. И пускай Евпраксия – то есть сестра Варвара – сделается келейницей при тебе. Вместе вы потянете, мне сдаётся.
Катерина в благодарность поцеловала руку первосвятителю.
Янка произнесла нервно:
– Ну а мне с Харитиной куда прикажешь?
Он ответил:
– А тебе с Харитиной советую перебраться в Печерскую обитель. С Феоктистом я договорюсь. Там вреда от вас будет меньше. – И взмахнул перстами: – Можете идти обе. Ну а ты, Катя, задержись. – И, оставшись наедине, посоветовал вполголоса: – Осторожней будь. До того, как они из монастыря не уедут. Опасайся козней. И Опраксу предупреди.
– Ты меня пугаешь, владыка.
– Просто предупреждаю. Будьте начеку.
Из митрополичьих покоев, что располагались за Успенским собором Печерского монастыря, Хромоножка поковыляла к Варваре – в женские кельи. Разыскала сестру и передала разговор с Никифором. Та, услышав её рассказ, прямо оцепенела:
– Господи, помилуй! Да зачем же он? Янка ведь теперь нас наверняка со свету сживёт!
– Нет, теперь побоится. Ведь тогда на нея подозрение падёт сразу.
– Янкина одержимость выше страха. А как дочери великого князя ей ничто не грозит. – Поразмыслив, добавила: – Я, пожалуй, сегодня же заберу от них Васку. Собиралась ведь давно, а теперь уж самое на то время.
– Что ж, поехали вместе.
Дочка Паулины встретила приёмную мать, как всегда, ликующе, с поцелуями и объятиями, но потом заупрямилась, не хотела покидать школу и подружек. Евпраксия неожиданно строго заявила:
– Никаких возражений, слышишь? Собирайся без разговоров. Никуда твои подружки не денутся. Переждёшь во дворце у бабушки, за семью замками в Вышгороде, а когда змеи подколодные уползут отсюда, привезу назад.
– Скоро ль это будет? – недовольно надула губы девочка.
– Полагаю, скоро.
Летний Вышгород был нетороплив и беспечен. Паводок нанёс ему незначительный ущерб, ни один человек не сгинул, а подтопленные стены починили быстро. От Десны и Днепра веяло прохладой. На зелёном лугу вдалеке паслись рыжие коровы, представляя собой идиллическое зрелище, – вроде и не было всего в получасе езды отсюда суетной столицы с низменными страстями. И княгиня Анна, восседая в кресле у распахнутого настежь окна, от природы невозмутимая да ещё разморённая июльской жарой, олицетворяла свой город – тихий, томный. Протянула руки навстречу Ксюше и Васке:
– Тэвочки мои! Наконец-то навестил старый бедный бабюшка. Я одна скучал. Очень тосковал. Но сейчас доволен. Вместе хорошей.
Выслушав доклад дочери о последних событиях в Киеве, сдвинула фальшивые брови (настоящие были выбриты, а чуть выше них чёрной красной нарисованы новые) и произнесла озабоченно:
– Это очень плёх. Катя наш иметь много неприятность. Надо защитить.
– Коль митрополит пожелал, чтобы я сделалась келейницей, стану помогать ей, как только можно.
– Ты одна не смочь. Янка – злой, Янка – вредный. Не язык, а жало.
– У митрополита поищем опоры. Князя известим. Он ко мне относится по-доброму.
– Да, на Бог надейся, но и сам не плёшай.
Переночевала у матери, а наутро только сели завтракать, как тиун-управляющий доложил о прибытии конника из Киева, человека от Святополка. Тот взошёл в палату, рухнул на колени и, ударив лбом доски пола, проговорил:
– Матушка-княгинюшка, не вели казнить, а вели слово молвить.
Та перекрестилась:
– Что такой? Новость плёх?
– Оченно плохая, даже словеса застревают в горле.
– Умер кто? Мономах? Сам великий князь?
– Катерина.
Ложка выпала из рук Бвпраксии, из груди вырвался отчаянный вопль. Анна покраснела в мгновение и, как будто находясь на грани апоплексического удара, слабо пошевелила губами:
– Как? Зачем? Правду говорить?
– Истинную правду. У себя в обители подскользнулась и упала в колодец.
– Свят, свят, свят! – прошептала Ксюша. – Значит, сбросили.
Старая княгиня заслонила лицо пухлыми ладошками и, рыдая, произнесла:
– Тэвочки моя... Бедный, бедный Катя!.. Я как знал, я как чувствовал, что теперь будет очень плёх!..
Но Опракса плакать не могла. Бледная, холодная, точно изваяние сидела. И, прикрыв глаза, повторяла с упорством:
– Кончилось терпение... Я ея убью!..
Несколько месяцев спустя,
Киев, 1108, лето – осень
Никого посвящать в свой ужасный план Евпраксия не стала. Даже Мономаха, прискакавшего на похороны сестры из Переяславля. Отпевали Хромоножку в церкви Андреевского монастыря при не очень большом стечении народа – в основном монахинь и знатных горожан. Святополк постоял недолго, покрестился, свечку поставил за упокой и уехал, не дождавшись погребения тела; выглядел озабоченным и рассеянным. Но зато Владимир оставался на церемонии до конца и поддерживал мачеху под локоть (за другую руку её вела Ксюша), говорил успокоительные слова, пожимал кисть в перчатке. На погосте, у разверстой могилы, произнёс заупокойную речь на правах старшего:
– Бог не наградил Катерину свет Всеволодовну красотой и здоровьем. С детства припадала на правую ножку и не выросла как положено. А зато имела ангельскую душу. Никогда не сетовала на свою увеч-ность, не кляла судьбу, а безропотно сносила тяготы земной юдоли. Не озлобилась, а, наоборот, относилась к людям с теплотою, душевно. Нрав имела кроткий и лёгкий. И ступила на стезю монашескую. Но молилась не истово, не давала страшных зароков, а опять же смысл нашла земного существования в помощи убогим и сирым, в воспитании девочек монастырской школы, в тёплой, нежной дружбе с сестрой Евпраксией – ныне сестрой Варварой. И такой Катерина всем нам запомнится. И при всей нашей скорби ныне мы не будем плакать. Ибо знаем, что она пребывает в райских кущах, так как праведницей жила, так как мученическую смерть приняла, и Господь, я уверен, взял ея к Себе, в сонм Своих угодников. Пусть же тело сие покоится с миром, а душа пребывает в Царствии Небесном в безмятежности и блаженстве. Спи спокойно, Катенька. Мы твой светлый образ не забудем вовек!
Янка чуть поодаль стояла – с каменным лицом, в чёрном балахоне и чёрном клобуке, совершенная мумия. После похорон Мономах заглянул ей в глаза и проговорил еле слышно:
– Радуешься, злыдня? Ничего, Бог – Он видит всё! И воздаст по заслугам каждому. Даже тем, кто для виду ходит с крестом, а в душе – без оного!
Преподобная фыркнула:
– Ох, глупой ты, Володя, и доверчивый. Доверяешь слухам.
– Я себе доверяю, сердцу-вещуну. А тебя с твоими кознями ненавижу.
– Ненависть – негодное чувство.
– Кто бы говорил! Заруби на своём носу, сестрица: если хоть один волос упадёт с головы матери-княгини, или же Опраксы, или Васки, дело будешь иметь со мною.
Та скривила губы:
– Что, убьёшь?
– Может, и убью.
– Не посмеешь. Больно богобоязнен.
– Не своими ж руками! Ведь не ты же сама помогла Катюше соскользнуть в колодец. Исполнителей найти можно – только намекни... Вмиг сообразят – где-нибудь придушат в тёмном уголке. Или ножичком пырнут невзначай... Всякое случается. А потом ищи ветра в поле. Ты-то, Янка, знаешь...
Побледнев, женщина сказала:
– Как ты смеешь, братец, упрекать меня в разной дичи, забывая, что мы с тобой одной крови – императорской, греческой, – и встаёшь на защиту половецкой погани?
Мономаха от этих слов передёрнуло. Процедил сквозь зубы:
– Замолчи, мерзавка. Ты забыла, что у меня жена – половчанка? Прикуси язык. Я предупредил – больше не спущу.
На поминках в Вышгороде, на которые Янка, разумеется, не поехала, он присел на лавку рядом с Опраксой, обнял её по-братски и вздохнул печально:
– Не уберегли, значит, нашу Катеньку. Горе нам, горе, Ксюша! Ведь она была лучшая из нас.
Евпраксия, опасаясь, что выдаст планы отмщения, предпочла сменить опасную тему и спросила брата, как живётся его наследнику Юрию Долгорукому в Суздальских краях с молодой женой. Тот повеселел и ответил:
– Слава Богу, неплохо. Подарили мне внука нынешней весною. Назван в честь Андрея Первозванного. А другое имя получил половецкое – Китан. Пишут, славный мальчик.
На губах сестры тоже появилась улыбка:
– Стало быть, и мой внучатый племянник.
– Разрастается племя Ярославово!
– Племя Володимера Красно Солнышко.
– Племя Рюрика! – При прощании же опять возвратился к прежнему: – Говорил я с первосвятителем. Он тебя в игуменьи двигать не желает, чтоб не воскрешать подзабытые слухи про твоё латинянское прошлое. Стало быть, пока на Андреевской обители оставляет Янку. Я ея вельми припугнул, но не ведаю, возымеет ли действие. Опасайся каверз. Хочешь, переедешь ко мне вместе с Ваской?
– Нет, благодарю. Я желаю быть ближе к маменьке.
– Может, Васку одну забрать?
– Ох, ни в коем случае! Солнышко моё и отраду! Нет, не дам.
– Ну, смотри, как знаешь. Главное, запомни: я тебе и ей предоставлю всегда и защиту, и кров.
– Да хранит тебя Небо, братец!
Во дворе монастыря Опракса посадила привезённый из Германии жёлудь. Вскоре он пророс и пустил листочки. Поливала его заботливо, приспособила небольшую лавочку, на которой сидела и, склонившись, разглядывала каждую зелёную жилку. С умилением думала: «Будто Лёвушка или Катя оживают теперь. Возрождаются и протягивают руки-ветки к солнцу, к нам, оставленным ими. Нет, не прав Герман: смерти нет. Потому что за могилой – не пустота, не отсутствие бытия, а иное бытие, в новых, неожиданных ипостасях. Генрих Длинный, вероятно, поселился в Мурхен Лёва или Катя – в маленьком дубке... Я, возможно, обернусь облачком или жаворонком в небе. Буду петь беспечно, радуя живых. Это ли не счастье? » Улыбалась тихо и при этом невольно плакала. Утирала слёзы и улыбалась.
Вновь пришла в келью к Нестору, попросила прощения за прошлые дерзости и сказала, что готова переписывать его «Повесть временных лет» молча и безропотно, просто чтоб занять руки и голову и казаться нужной. Он подумал, подумал, выпятив губу, и простил. Распорядился переписать свиток о её прадеде, окрестившем Русь. Евпраксия принялась за работу с удовольствием. Ей особенно понравился кусок о самом крещении: «Наутро же изиде Володимер на Днепр, и сошлось там людей без числа. Взошли в воду и стояху там они до шеи, другие до персий, младые же по перси от берега, другие держаще младенци, старшие бродяху, попы же стоящие молитвы творяху. И бяше си видети радость на небеси и на земли, толико душ спасаемых; а дьявол стеня глагляще: «Увы мне, яко отсюда прогоним есмь!» С замиранием сердца Ксюша думала о себе как о маленьком ростке на огромном дереве, имя которому – Рюриковичи. Ствол его – Владимир Святой и сын его Ярослав, а затем пошли ветви, в том числе и Всеволод, а затем Мономах, Юрий Долгорукий и его сын Андрей, а потом и другие дети, вероятно. Пусть она – боковое ответвление, неудачное, пересохшее, но причастность к общему стволу, роду, клану, грела душу; нет, её муки не напрасны, в чём-то помогли они в одолении зла добром, чтобы меньше было дьявольщины на земле, чтобы больше стало чистоты и покоя.
Вместе с тем план отмщения полностью созрел в её голове. В Киеве на базарной площади – Бабином Торжке – у башмачника купила тонкое короткое шило (им обычно протыкают подошву, чтобы пропустить в отверстие дратву) и теперь всегда носила его с собой. Деревянная ручка становилась тёплой и влажной от ладони Ксюши. Бывшая императрица поджидала случая, чтобы подойти и вонзить острие Янке в сердце. А потом будь что будет.
Знала, что её осудят за это. И митрополит, и князь, и княгиня-мать. Знала, что, скорее всего, предстоит ей ссылка в дальний монастырь. И наверняка больше никогда она не увидит Васку. Но оставить бедную Катю неотмщённой не могла тоже. Вопреки всему, даже здравому смыслу.
Часто приходила в Софийский собор, во Владимирский неф, где располагалась Великокняжеская усыпальница с саркофагами деда и бабушки – Ярослава Мудрого и Ирины-Ингигерды, батюшки – Всеволода Ярославича, брата – Ростислава Всеволодовича. Опускалась на колени, гладила рукой проконесский мрамор с вырезанными крестами и солярными знаками[23]23
солярные знаки – символические изображения Солнца.
[Закрыть]. Говорила вполголоса:
– Тятенька родимый, ты прости меня. Это я, твоя дочка непутёвая, глупая, греховная... Погубила свою судьбу и моих любимых. По моей вине ослепили Манефу, умерли Горбатка и Паулина, мой сыночек Лёвушка, отравили келейника Феодосия, сбросили в колодец Катю Хромоножку... Обвинила мужа на соборе в Пьяченце и тем самым обрекла его на анафему... Горе мне! А теперь замыслила сестроубивство... Понимаю, что не должна, понимаю, что богомерзко, но наставь, научи – как мне поступить? Разве можно смириться с тем, что она, Янка-греховодница, ходит по земле безнаказанно? Ведь митрополит ничего не сделал, князь сказал, что «не пойман – не вор»... А душа болит! Не могу простить. Сил моих не хватает на христианское всепрощение. Покараю ея, а затем сама приму сколь угодно тяжкую кару Господню. – Утирала слёзы и вопрошала: – Или отступиться? Кровью не сквернить руки? – Ничего не решив, покидала собор в смятении.
Наступила осень, а удобный для отмщения случай не представлялся. С Янкой виделась только раз – на крещении новорождённой дочери Святополка, но игуменья стояла в храме в плотном кольце своих инокинь-приспешниц, так что подобраться к ней было невозможно. Постепенно горечь от утраты Екатерины делалась не такой пронзительной, а сомнения в правильности выбранного плана с каждым днём нарастали, но Опракса упорно продолжала не расставаться с шилом. Так, на всякий случай. Если не убить, то себя защитить, коли нападут.
И однажды, накануне Покрова Пресвятой Богородицы, принесли ей грамотку из Андреевской обители. Раскатав пергамент, Евпраксия прочла:
«Низкий поклон сестре Варваре, многие тебе лета! Пишет келейница Харитина, по желанию матушки игуменьи. Находясь при смерти и соборовавшись, приглашают они к себе, чтоб с тобою проститься, отпустить друг другу обиды и отправиться в мир иной с лёгким сердцем. Ждёт тебя ныне пополудни».
Не поверив ни единому слову, Ксюша побежала к игумену Феоктисту. Тот прочёл записку и сказал спокойно:
– Что ж, иди, простись, дело благородное.
– Разве ж я о том! Не слыхал, владыка, в самом деле она больна?
Он задумался:
– Нет, не слыхивал. Более того, видел Янку третьего дня у митрополита.
– Что, здоровую?
– Совершенно в силе.
– А, вот видишь! Ложная цидулька-то.
– Полагаешь, что обманывает тебя?
– Я не сомневаюсь.
– Ну, тогда не ходи, поостерегись.
– Да, а вдруг правда при смерти? Всякое бывает.
– Ну, тогда не знаю, что и присоветовать.
– Я решила пойти. Но предупреждаю, что возьму оружие. Для возможной собственной защиты.
Настоятель оторопел:
– Это что ещё за оружие? Ты чего городишь?
Евпраксия вытащила из-под накидки шило:
– Это вот.
Феоктист, смягчившись, расплылся:
– Это можно. Это ничего, им убить непросто, а пугнуть – пожалуй.
– Коли что случится, знай уж наперёд: занесла на другого руку в виде обороны.
Преподобный перекрестился:
– Сохрани Господь. Может, обойдётся.
Накануне ухода долго простояла под образами, осеняя себя крестами без счета. Всматривалась в лик Пресвятой Богородицы, освещаемый оранжевым пламенем лампадки. Пламя слегка подрагивало порою, и казалось, будто Дева Мария ей кивает. И Христос-младенец, воздевая руку с поднятыми средним и указательным пальцами, вроде совершает благословение. Ксюша произнесла: «Господи, спаси!» – и склонилась в земном поклоне. А потом быстро поднялась, оглядела келью – полный ли порядок? – мысленно прощаясь, словно уезжала надолго, и поспешно вышла, завернувшись в шерстяную накидку.
В Киев шла пешком. Вдоль Днепра на север, мимо Берестова и Владимирской горки, а затем налево, по Андреевскому спуску наверх, к Янчину монастырю. Небо было серое, тучи плавали низко, и казалось, природа хмурится, наблюдает с неодобрением за творящимися событиями, но не застит путь, не швыряет ветер и дождь в лицо, разрешает действовать на своё усмотрение.
Харя при её появлении вышла из покоев, начала моргать часто-часто и трындеть вполголоса:
– Ох, какое счастье, что ты пришла! Мы уже не чаяли. Посчитали – не снизойдёшь, не уважишь, не посетишь.
– Как сестрице-то – плохо, нет?
– Хуже не бывает. Обморок случился третьего дни, полетела с лестницы кубарем вниз, стукнулась головушкой. В чувство привели, слава Богу, но с тех пор лежит, временами впадает в небытие и не ест, не пьёт.
– Лекарь посмотрел?
– Что он понимает! Из поляков – нехристь. Кровь пустил, и всё. Только денег взял за пустые хлопоты.
– Говоришь, что соборовалась?
– Да, решила. Ежели чего – Богу душу отдать благословлённой. И с тобой, значит, попрощамшись.
– Ладно, я не против. – Впрочем, до конца Харитине не поверила.
В полутёмной келье Янка лежала на обычной деревянной кровати без балдахина, под простым бурым одеялом из верблюжьей шерсти. Видеть её без клобука было непривычно. У игуменьи оказались жидкие пепельные волосы: сразу не поймёшь – то ли от природы такие, то ли поседевшие. Заострившийся нос выглядел крупнее обычного. Щёки провалились. Посмотрев на вошедшую грустными глазами, настоятельница сказала тихим голосом:
– Дождалась-таки... Проходи, Варвара, сядь у изголовья. Харитина, выйди и оставь нас наедине.
Поклонившись, келейница выскользнула за дверь.
Евпраксия опустилась на табуретку и впервые почувствовала жалость к сестре. Та была такая беспомощная, одинокая, неприкаянная, неуверенная в себе. У Опраксы даже ослабли пальцы, что сжимали деревянную рукоятку шила под накидкой. И спросила не без нотки участия:
– Как ты, матушка?
Та ответила с горьким вздохом:
– Умираю – видишь? И желаю с тобой проститься. У меня из родных – только ты да брат, Мономах Володя. Но за ним посылать – далеко и хлопотно; недосуг ему. А с тобой же проще.
Сводная сестра возразила:
Может, не умрёшь, погоди. Оклемаешься – встанешь.
– Нет, я чувствую. Силы угасают. Жить не хочется. Посему желаю попросить прощения за доставленные тебе в прошлом неприятности... Помню, увидав тебя в люльке в первый раз, сразу же подумала с болью в сердце: «Ах, как хороша! Ангел, а не крошка! И теперь отец будет уделять ей больше любви и ласки, чем другим своим детям, в том числе и мне». Так оно и вышло... К Хромоножке не ревновала, нет, – что с неё, убогой, возьмёшь? А тебя терпеть не могла. За твою неземную красоту, за приветливость, ангельский характер. За твоё раннее замужество... А когда ты вернулась из Германии, поякшавшись с христопродавцами, ненависть с презрением вспыхнули опять... И никак не могла с собой сладить...
– Это дьявол тебя настраивал.
– Уж не знаю кто. Но в моей душе ты носила прозвище одно – сука-волочайка.
– Знаю, знаю.
– Сможешь ли простить?
– Постараюсь. – Ксюша помолчала. – За твоё отношение ко мне я прощу, конечно. Бог велел прощать. И не я, но Он взвесит на весах все твои дела и поступки. Гибель Серафимы и Кати. Отравление келейника Феодосия. Ослепление несчастной Манефы. Странную болезнь Васки... Пусть решает Он. Бог тебе судья.
Янчино лицо исказилось от боли:
– Ты несправедлива, сестра. Чересчур злопамятна.
– Да, пока на память не жалуюсь. И забыть все твои злодейства – означает предать близких мне людей.
– Стало быть, не веришь в моё покаяние?
– Верю, почему. Ты страшишься геенны огненной и поэтому замаливаешь грехи.
– И не стыдно препираться у смертного одра?
– Я не препираюсь. Просто воздаю тебе должное.
Приподнявшись на локте, старшая воскликнула:
– По какому праву? Или про тебя сказано: «Мне отмщенье, и аз воздам»? Что-то сомневаюсь!
Евпраксия вскочила:
– Уж не притворяешься ли ты умирающей? – и опять под накидкой стиснула ручку шила.
Янка села:
– Я – пожалуй. Истинно другое: в этой келье кто-то нынче наверняка умрёт.
– Уж не я ли? – и Опракса попятилась к двери. И отпрянула, потому что сбоку возникла Харитина. У неё в руке была рыболовная сетка. – Не посмеете, – глухо проговорила гостья, отступая в угол. – Преподобный Феоктист видел вашу грамотку и предупреждён: коли не вернусь в Печеры до вечера, стало быть, попала в вашу западню.
Но угроза пропала втуне: Харя бросила на неё сетку. Впрочем, неудачно: Ксюша уклонилась и в ячейках запутала только правую руку – с выхваченным шилом.
– Бей ея, души! – крикнула игуменья, в бешенстве стуча кулаками по одеялу.
Харитина накинулась на приговорённую к смерти и вцепилась ей в горло. У Опраксы перехватило дыхание и поплыли перед глазами круги. Захрипела, задёргалась, сбрасывая с десницы намотанную сеть. Наконец кисть освободилась, и с размаху бывшая жена германского императора что есть силы вонзила шило в левое бедро нападавшей. Та от неожиданности взвыла, расцепила пальцы и рухнула на колени.








