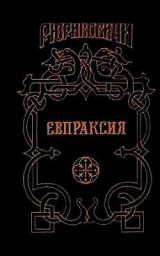
Текст книги "Евпраксия"
Автор книги: Михаил Казовский
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 26 страниц)
Восемь лет спустя,
Киев, 1106 год, осень
Получив известие о кончине Генриха, Ксюша заболела нервной лихорадкой и лежала пластом в кровати две недели. Не хотела никого видеть, только плакала и молилась. Мать увещевала её:
– Так нехорошо, тэвочки моя, ты себя убивать и со свету сживать, делать очень плёх. На кого меня оставлять? Князь великий Всеволод умирать, Ростислав-сынок утонуть, Катя в монастырь, ты одна у мене доченьки-подруженьки. Разве нам с тобой вместе худ?
– Ах, не ведаю, маменька, не ведаю, – отвечала княжна. – Будто свет померк. Пустота в душе. Жить не хочется.
– Нет, не говорить таких слов. Только Бог решать – жить, не жить. Если жить – должен потерпеть.
Катя Хромоножка приводила к ней жизнерадостную Эстер, получившую в православии имя Вассы. Васка щебетала:
– Я спервоначалу пужалась в монастыре – все такие строгия да сурьёзныя, страх! Апосля ничего, подружилася с Мартемьяшкой Чурилой и Парашкой Лодочницей, нам втроём забавней. Вместе в хоре поем на клиросе.
Катя подтвердила:
– Сёстры отзываются хорошо. Говорят, девочка способная, память цепкая, все науки постигает на раз. И поёт справно. Спой, голубушка, что-нибудь Опраксе.
– С превеликой радостью. Только что?
– А пожалуй что Богородичен тропарь – в нём такие слова пронзительные, я всегда от них трепещу.
– Так изволь, спою.
И затягивала тоненьким голоском, по-цыплячьи вытянув шею из воротника платья и прикрыв глаза:
– «Чем Тебя наречём, о Благодатная? Небом, так как озарила нас Солнцем Истины. Раем, ибо прорастила древо Жизни. Девой, – по Рождестве была нетленна. Чистой Матерью, потому что держала во святых Твоих объятиях Сына, всех Бога. Моли же Его спасти души наши!»
Ксюша слушала поначалу как-то отрешённо, даже с недоверием, но проникновенное, звонкое пение дочки Паулины постепенно растопило лёд в её душе, сильно-сильно растрогало, слёзы потекли по щекам – но уже не горькие, а умильные, очистительные, и подобие улыбки промелькнуло на губах бывшей императрицы. Притянула Васку к себе, обняла и поцеловала, а потом спросила у Хромоножки:
– Может, мне постричься во Христовы невесты, как считаешь?
Катя, вдохновлённая уже тем, что сестра не думает больше о смерти, а интересуется жизнью, хоть и в монастыре, покивала радостно:
– Ну конечно, постричься! Самое разумное. Станем вместе на молитвы ходить и прислуживать в храме. Отдалимся от суетного мира.
– Я боюсь, Янка не допустит.
– Ты ея обойди.
– Это как же?
– Бросься в ножки к митрополиту. Он поймёт и поможет. Их высокопреосвященство, будучи из греков, в наши русские дрязги не встревает. И приблизил к себе только Феоктиста, настоятеля Печерского. Остальных держит в отдалении.
Евпраксия нерешительно согласилась:
– Может быть, и брошусь. Мне теперь либо в монастырь, либо в петлю.
– Ох, да что ты! – осенила себя крестом младшая сестра. – Как не стыдно речи вести такие? Да ещё при дитятке!
Девочка откликнулась:
– Лучше в монастырь. Мы и видеться тогда сможем чаще.
– Надобно подумать ещё. Шаг-то непростой и бесповоротный. Как его маменька воспримет? Не хотелось бы ея слишком огорчать.
Хромоножка заметила:
– Маменька посетует и потом смирится. А тебе будет много легче. Знаю по себе: как решилась постриг принять, сразу на душе просветлело; я в миру-то мучилась от своей убогости – что меня замуж не берут, что детишек никогда не рожу, и так далее; а в Христовых невестах это всё ушло, в воду кануло и быльём поросло. Начала думать о возвышенном. А с другой-то стороны, мы не на Афоне, где заведены строгие порядки и монастыри общежитские – надо ночевать обязательно в кельях, трапезничать вместе и своё тело истязать скупостью в еде. В наших-то обителях всё попроще.
Ксюша возразила:
– Нет уж, коль решусь, буду по-афонски или по-католически – в Кведлинбурге-то привыкла, и меня это не страшит.
– Ну, решай, как знаешь. Мы тебя завсегда поддержим.
Евпраксия порывисто обняла обеих:
– Милые вы мои! Как же хорошо, что вы рядом. Я без вас точно бы преставилась!
У митрополита в хоромах появление бывшей германской государыни вызвало немалое удивление, странное движение, приглушённый говор. Провели гостью в тёплую палату, взяли шубу, положили на лавку, попросили не сердиться и подождать. Та сидела и трепетала внутренне. Как-то примет её Никифор? Говорят, он терпеть не может католиков, Западную церковь, а Опракса более двенадцати лет пребывала в её лоне. И потом, тот скандал в Пьяченце, шумный развод с Генрихом, некрасивые слухи... Добрались до Руси давно. Уж недаром прозвище дали: «сука-волочайка»! И митрополит, разумеется, тоже знает. Так захочет ли проявить снисходительность? Если не захочет, то пиши пропало, Янка не захочет тем более, на порог монастыря не пустит. «Дабы не сквернить наших стен»! Тоже мне святоша! Строит из себя внучку византийского императора... Нет, понятно, внучка-то она внучка, только есть немалое подозрение, что Мария Мономах, мать Владимира Мономаха и Янки, не законная дочка императора Константина Мономаха, не порфирородная, а побочная, от его рабыни Склерины! Так что не известно ещё, кто из них знатнее – Янка или Ксюша; Ксюша хоть от матери-половчанки, но законной дочери хана Осеня, в жилах нет ни капли холопской крови!
Дверь открылась, и вошёл митрополит. Посмотрел приязненно и сказал по-гречески:
– Здравствуй, дочь моя. Что же побудило тебя появиться в сих священных чертогах?
Евпраксия, потупившись, попросила:
– Разрешите, владыка, ручку облобызать?
– Лучше крест.
– О, благодарю... – И с немалым чувством приложилась губами к золотому массивному кресту, что висел на груди у первосвятителя.
– Значит, признаёшь символ христианства? – отозвался Никифор и устроился в деревянном кресле напротив. – Сядь и отвечай.
– Как иначе, отче?
– Говорили, что будто бы супруг твой, Генрих, в ереси замешан, от Креста отрёкся и тебя к этому склонял. Правда ли сие?
Глаз не смея поднять на митрополита и ломая от волнения пальцы, Ксюша подтвердила:
– Да, склонял, врать не стану. И хотя была предана мужу всей моей душой, отказалась. Что, в конце концов, и явилось причиной нашего разрыва.
– И теперь не желала б к нему вернуться? Если бы позвал?
Русская ответила:
– Он не позовёт. Генрих умер.
Грек проговорил грозно:
– Но ведь ты писала к нему? Через иудеев киевских?
Та похолодела. «Господи, он знает! – ужаснулась Опракса. – Донесли! Донесли! Неужели Лейба?» – и произнесла тихо:
– Проявила слабость... Что-то шевельнулось в груди, проблеск света и неясной надежды – после отречения императора... Он ведь сам отправлял мне письмо – много лет назад, в Штирию, и потом прислал даже порученца, чтобы убедить меня приехать назад. Уверял, будто бы покаялся и ересь свою заклеймил... Только я ему не поверила... А потом подумала... Ах, простите, ваше высокопреосвященство! – И она опустилась на колени. – Разрешите замолить все мои грехи. Мысль одну лелею – удалиться от мира суетного и принять постриг. Так благословите же, отче!
Иерарх молчал. Не сказав ни «да», ни «нет», снова задал вопрос:
– Отчего ты пришла ко мне, а не прямо к Янке? Думала, она не простит, а меня удастся разжалобить?
Евпраксия почувствовала себя уничтоженной. Маленькой нашкодившей девочкой перед ликом сурового учителя. И, как девочка, разрыдалась – горестно, беззвучно, – повторяя опухшими губами:
– Извините, отче... извините меня, пожалуйста...
Он сказал примирительно:
– Хватит, хватит, сядь. Дело не во мне и не в Янке. Ты готова ли сама к постригу? Походи в послушницах, а потом решай. Для чего спешить?
– Нет, хотела бы как можно скорее. Жить в миру не имею сил. Всё кругом постыло, мерзко и бессмысленно. Лишь служение Господу вижу для себя целью. Дабы вымолить у Спасителя прощение – и покойному императору, и себе, грешной.
У Никифора прищурился правый глаз:
– Императору? Продолжаешь печься?
Уронив руки, пригорюнившись, Ксюша заявила неожиданно твёрдо:
– Я его бывшая жена. А теперь вдова. Я его любила. И надеюсь соединиться на небесах.
Грек не зло поёрничал:
– Или в преисподней?
– Или в преисподней... Лишь бы только встретиться.
Иерарх вздохнул:
– Не о том заботишься... Ладно, Бог с тобой. Я не против твоего пострига. Можешь передать Янке. Но последнее слово всё равно за ней, ибо настоятельница – она. – И поднялся, говоря тем самым, что беседа завершена.
Русская поклонилась в пояс, а первопрестольник её перекрестил. И, насупившись, удалился молча, вроде недовольный своим мягкосердечием.
Ксюша прошептала:
– Ничего, неважно... Главное, что благословил... Если и не к Янке, так в другую уйду обитель. На одном Андреевском монастыре свет клином не сошёлся...
Там же день спустя
Янке было в ту пору около пятидесяти лет. Младшая сестра Владимира Мономаха, с детства отличалась она въедливым характером и высокомерием. Всех считала ниже и глупее себя. На лице девочки читалось: «Дед мой – Константин Мономах, я не вам чета, вы не стоите моего мизинца!» Стала сиротой на тринадцатом году жизни и возненавидела мачеху – половчанку Анну, старше Янки только на два года и ровесницу Владимиру. «Мразь, дикарка! – думала о ней падчерица. – Как она посмела затесаться в нашу семью, приобщиться к Рюриковичам? Чтоб ей пусто было!»
Вскоре отроковицу стали волновать новые заботы: ведь отец сговорил её за правителя Византии – императора Константина Дуку – и отправил с пышным свадебным поездом в Царь-град. Но судьба не улыбнулась девице: ехала и плыла она около двух месяцев, а за это время греки совершили у себя государственный переворот, Константина свергли и насильно постригли в монахи. Так что он жениться уже не мог. Опозоренной Янке ничего не оставалось, как вернуться обратно. Больше замуж её не брали, и она, основав на деньги отца Андреевский женский монастырь, стала его игуменьей.
Впрочем, духовное призвание не мешало ей ненавидеть по-прежнему Анну и её детей. И особенно – Евпраксию, уродившуюся писаной красавицей. Ведь саму Янку Бог не наградил ни пригожестью, ни изяществом. «Эта замарашка неожиданно стала германской самодержицей?! – рассуждала игуменья. – Господи, помилуй! Все мужчины одинаковы: что отец, прельстившийся глупой, но смазливой куманкой, что германец Генрих...» Слава Богу, вскоре немец понял свою ошибку и прогнал Опраксу. А она, распутница, обвинила его же в ереси! Сука-волочайка! Ни стыда, ни совести!
И когда келейница Серафима доложила матушке, что пришла её младшая сестра, Янка недовольно спросила:
– Катя Хромоножка? Что ещё ей надо?
– Нет, не Хромоножка – Опракса.
Настоятельницу от этого имени даже передёрнуло:
– Как она посмела? Не желаю видеть.
– Говорит, с благословения самого митрополита.
Догадавшись, что её объехали на кривой козе, Янка сжала кулаки:
– Ах она паскуда! Прорвалась к Никифору... и своими чарами... грек не устоял... Ну, понятно! – и ругалась довольно непристойно несколько минут.
Переждав очередную тираду, Серафима хладнокровно осведомилась:
– Что же ей сказать?
– Прогони ракалию в шею.
– Неудобно, матушка. Будет жаловаться их высокопреосвященству.
– Ну и пусть. Мне не больно страшно. Ничего не сделает, только пожурит.
– Для чего же затевать распрю на пустом месте? Можно тут решить.
– Не учи меня! Я не допускаю к себе падших женщин! Выстави ея. Слышишь, выстави!
Уходя, келейница проворчала:
– А Господь наш Иисус Христос допускал...
Янка вспыхнула:
– Что такое? Что ты там бубнишь?
Посмотрев на неё из-под седоватых бровей, Серафима ответила:
– Ничего, вырвалось нечаянно.
– Нет, скажи.
– Говорю – нечаянно.
– Повтори немедля!
Та, поколебавшись, решилась:
– Иисус Христос допускал к себе падших женщин. И учил: их раскаяние во сто крат дороже, чем моление праведниц.
Настоятельница спросила:
– Не рехнулась ли ты, сестра? Упрекаешь меня в отступлении от истинной веры?
– Я не упрекаю. Я напоминаю.
– Прочь иди. Мне казалось, что ты умнее. И тебя околдовала эта паскудница?.. – Но когда келейница собиралась уже выйти за порог, бросила надменно: – Хорошо, так и быть, пригласи ея. Пусть изложит просьбу.
Евпраксия и вправду напоминала кающуюся Магдалину: бледное осунувшееся лицо и круги под глазами, чёрная накидка и опущенные долу глаза. Настоятельница отметила про себя – не без доли злорадства: «Подурнела-то как! Постарела даже. Тридцать семь не дашь. Сорок семь – пожалуй...»
– Здравия желаю, сестра, – поклонилась Ксюша.
– Здравствуй, здравствуй, коли не шутишь. Что сказать желала? Для чего ходила к митрополиту?
Та ответила кротко:
– Била ему челом. Чтоб на постриг благословил.
Янка рассмеялась ехидно:
– Ты – в монашки? И хватает совести?
Покраснев, Опракса произнесла:
– Бог ко всей пастве милостив. В том числе и к заблудшим тварям. Отчего же я, даже не заблудшая, а бездольная просто, не могу надеяться на спасение?
Но игуменья отразила её наскок:
– Раньше о спасении надо было думать. Не надеяться на всемилостивого Всевышнего. Бог не только милует, но и воздаёт по заслугам. И таким, как ты, нет прощения.
– Да каким «таким»?
– Снюхавшимся с дьяволом. Христопродавцам. И еретикам.
Посетительница воскликнула:
– Как ты можешь судить об этом, если даже не знаешь всей моей гистории?
Янка хмыкнула:
– Мне твою гисторию слушать недосуг. Есть дела важнее.
– Значит, митрополиту, первосвятителю, был досуг, а тебе, получается, нет? Значит, слово его для тебя – звук пустой? Память о батюшке нашем, Всеволоде Ярославове, внуке Володимера Святого, давшем благословение отеческое на моё венчание с Генрихом, так – пустое?
Старшая сестра отвернулась к окну и сказала холодно:
– Не стращай, не стращай, голубушка. Уважаю и память о родителе, и Никифорову жалость к тебе. Почему бы нет? Но имею и своё мнение. Голова на плечах не отсохла, чай! И отвечу так: коль желаешь – ладно, благословлю на постриг. Но потом, в обители, роздыху не дам. Света белого у меня не взвидишь. Каяться заставлю денно и нощно. Сразу предупреждаю, дабы не роптала.
Евпраксия ответила просто:
– Не взропщу. И любую повинность сочту за благо.
– Что ж, тогда ступай. Кто твой духовник?
– Так отец Евлампий из Вышгорода – что и маменькин.
– Исповедуйся ему, пусть грехи отпустит. И наставит, как вести себя дальше перед постригом. На великомученицу Варвару приходи.
– Слушаю, сестра.
– Я теперь тебе не сестра, но матушка.
– Матушка игуменья.
– То-то же, ступай. И молись, несчастная!
А когда Опракса, поклонившись, удалилась из кельи, Янка усмехнулась ей вслед: «Дурочка – она и есть дурочка. Понимает, что не люблю, только всё равно лезет. В голове мякина! Хочешь – получай. Я три шкуры с тебя спущу. Генрих-еретик ангелом покажется!» Посмотрела в оконце, взгляд перевела в Красный угол и перекрестилась. И спросила сама себя: «Чтой-то я разгневалась будто? Сердце тук-тук-тук. Из-за этой девки?! Недостойной во всех отношениях? Полно, полно, нужно успокоиться. И быть выше мелких чувств. Я не только Рюриковна, но и Мономаховна. Не пристало мне злиться по пустякам». Кликнула келейницу и сказала:
– Я дала согласие на ея постриг. Ты была права: надо проявлять милость к падшим.
Серафима, перекрестившись, вздохнула:
– Слава Богу! Мы должны учиться у тебя добродетели, матушка.
Настоятельница заглянула монашке в лицо: уж не ёрничает ли, мерзавка, уж не издевается ли? И не поняла. И махнула пренебрежительно рукой: мол, иди, иди, расскажи сестрицам, как умею я преодолевать личное и покорно исполнять Заповеди Господа.
До насильственной смерти Опраксы оставалось всего лишь два с половиной года.
Восемь лет до этого,
Венгрия, 1098 год, весна
Герман, архиепископ Кёльнский, уговаривая её величество Адельгейду, урождённую Евпраксию, возвратиться к мужу, Генриху IV, и почти достигнув в этом деле успеха, не учёл одного момента. Хельмут, кучер, убежал из-под стражи не просто так. Раскачав пару досок на трухлявой крыше сарая, где его держали, и благополучно выбравшись на свободу сквозь проделанную дыру, сразу не помчался прыгать с крепостной стены в реку, а направился под покровом ночи к дому коменданта. Влез на дерево, а с него перебрался на карниз второго этажа. И, рискуя поломать шею в случае падения, двинулся по узкому уступу, незаметно подглядывая в незашторенные окна. Наконец нашёл нужное окно – в комнате увидел свою хозяйку, наклонившуюся над кроваткой с Эстер. И чуть слышно постучал в ячеистое стекло. Женщина испуганно оглянулась. Он махнул ей рукой, и она, бросившись к окну, распахнула раму.
– Господи, неужто? – улыбнулась Опракса. – Залезай скорей. Как сумел сбежать?
– Бог помог. Я за вами. Ваша светлость в состоянии улизнуть отсюда?
– Что? Сейчас? – озадачилась та.
– А иного случая может и не представиться.
– Ты меня смутил... А Эстер? Подвергать её опасности я бы не отважилась.
– Да, девчушку-то придётся оставить.
– Ни за что, ни за что, слушать не желаю! Мне и так нет прощения за смерть Паулины. Позаботиться о её кровиночке – мой священный долг. – Усадила кучера в кресло, угостила принесёнными ей от коменданта фруктами и бисквитами. А потом продолжила: – И ещё одно обстоятельство: я опять подумываю, не вернуться ли к его величеству...
Хельмут оторопел и застыл с непрожёванным персиком во рту. Проглотил и спросил:
– Вы готовы его простить?
Ксюша покраснела:
– Да, наверное... До конца не решила...
– Сами ж говорили: «дьявол во плоти»!
– Говорила, да... Но ты понимаешь...
– Ох, побойтесь Бога! Я, конечно, человек маленький, не имею права наставлять господ, но скажу по-нашему, по-житейски. У меня была жена Хельга. Я и обратил на неё внимание из-за имени. Я вот – Хельмут, а она – Хельга. Интересно, правда? И сама из себя – ничего такая, фигуристая. Поженились, в общем, стали вместе жить. Так она мне наставляла рога на каждом шагу. Ненасытная была – просто страх. Уж чего я с ней ни делал – и упрашивал, и грозил, даже колотил – никакого сладу. Чуть я за порог – а она уже с кем-нибудь милуется. И тогда я сказал: разведусь – и точка. Потому как за прелюбодейство разводят, сами знаете. Церковь наша святая за супружескую измену карает строго. После этих слов Хельга в ножки – бух! – умоляет не разводиться. Говорит – исправлюсь, буду себя блюсти и не посмотрю ни на одного постороннего мужика. Поклянись, говорю, на святом Распятии! Поклялась. Я её простил...
– Ну вот видишь!
– Так, а после что ж из этого получилось? Я повёз королеву-мать в Тормов, на моление, а моя благоверная – вновь за старое. Стала клятвопреступницей. И Господь её наказал: тот, с которым она сошлась, стукнул её, хмельной, по башке – и убил насмерть.
– Свят, свят, свят! Ужасы какие!
– То-то и оно. Ну, того дурака герцог Штирский приговорил к пожизненной каторге на своих каменоломнях. Но не в этом суть. Рассказал я вам для того, чтобы стало ясно: несмотря на клятвы, люди не меняются. Вот и Генрих ваш, опасаюсь, вашу светлость обманет. Может, и не сразу, но потом всё равно. Если дьявол в тебе засел – от него не отвяжешься.
Евпраксия не знала, что ответить. И тогда Хельмут предложил:
– Вы желали встретиться с королём Венгрии, дабы вам помог возвратиться домой. Коли мне удастся выбраться отсюда, я могу попробовать передать грамотку от вас. Вы пока погодите ворочаться в Германию. Обождите с недельку. Если сгину я или Калман помогать не будет, станете решать.
Евпраксия взяла его за плечо и сказала с чувством:
– Добрый человек! Сделай, как задумал. Я сейчас напишу самодержцу Венгрии челобитную. Отдадимся на суд Божий. Как захочет Бог, так и поступлю.
– Мудрые слова!
Спрятав свиток за пазуху, Хельмут попрощался и, поцеловав руку госпоже, выскользнул в окно.
Оказавшись на крепостной стене, кучер напоролся на часовых и, спасаясь бегством, прыгнул прямо в воды реки Раба, что впадает в Дунай. К счастью, это место оказалось глубоким, и возничий не разбил себе голову о подводные камни. Выбрался на берег и, поскольку ночь была лунной, хорошо понимая, куда идёт, двинулся по течению, чтоб достичь другой крепости, Эстергом, где, как утверждал в своё время Миклош, также регулярно бывает король. После трёх часов беспрерывной ходьбы немец понял, что ушёл от Дьёра на приличное расстояние, и заночевал у какого-то озерца, под перевёрнутой лодкой. Утром, просушив письмо Адельгейды, он отправился дальше, промышляя по огородам, чтобы утолить голод. Путь его вдоль Дуная занял целый день, и, к закату ближе, башни Эстергома появились на горизонте. Тут-то Хельмут и столкнулся с вооружённым отрядом. Он со страху снова посчитал, что попал к разбойникам. Те его окружили, но не причинили вреда, потому что оказались королевскими егерями и ловчими. Говорили исключительно по-венгерски и понять возничего не могли. Для порядка кучера связали и отконвоировали в крепость, где и сдали с рук на руки охране. Тут нашли человека, лекаря, знавшего немецкий; арестованный объяснил, кто он и чего добивается.
– Грамота? От императрицы? Опозорившей Генриха в Пьяченце? – выпучил глаза медик. – Не могу поверить! – Но понёсся рассказывать о своём открытии коменданту Эстергома.
День спустя в крепость Обуду, где тогда находился Калман, ускакал гонец с грамотой от Ксюши. А беднягу Хельмута всё-таки пока держали под стражей – до дальнейших распоряжений монарха.








