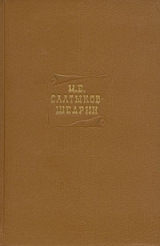
Текст книги "Том 11. Благонамеренные речи"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 49 (всего у книги 50 страниц)
…были только махальные. – Сведения с театра военных действий шли в столицу посредством «ручного телеграфа», употреблявшегося на флоте: расставленные в пределах прямой видимости махальныепередавали депеши условными жестами.
…загадочность газетных реляций. То держится Севастополь, то сдан… – В начале Севастопольской обороны в западноевропейских газетах появились сообщения о взятии Севастополя. Их опровергала русская печать (см. « СПб. вед.»,1854, №№ 218–220, 30 сентября – 3 октября). Противоречивы были и другие сообщения о ходе военных действий (см. «Материалы для истории Крымской войны и обороны Севастополя». Ред. Н. Дубровин, вып. III, СПб. 1872, стр. 204–210).
Швальня– портняжная.
…кто остался победителем при Черной… – Подразумевается неудавшееся наступление русских при речке Чернойпод Севастополем 16 августа 1855 года.
…наборы почти не перемежались. – В армию было призвано около миллиона человек (И. В. Бестужев. Крымская война, М. 1956, стр. 160).
Происходила великая драма, местом действия которой было рекрутское присутствие<…> объектом – податное сословие… – Воинскую – рекрутскую– повинность отбывали тогда лишь представители сословий, плативших в казну подушную подать(или соответствующую ей), то есть практически крестьяне и мещане.
«Начальник края». – В «Своде законов Росс. имп.» губернаторы именовались « начальниками губерний» (т. II, СПб. 1857, ч. 1, ст. 357 и далее).
Пришел наконец и манифест. – Манифест, объявлявший призыв в народное ополчение, был подписан царем 29 января 1855 года, в ополчение вступило свыше 364 000 человек (И. В. Бестужев. Крымская война, М. 1956, стр. 162).
Чиновники «посторонних ведомств»– то есть всех ведомств, не входивших в систему министерства внутренних дел. Здесь, в первую очередь, имеются в виду губернские учреждения, осуществлявшие хозяйственное обеспечение рекрутских наборов – казенная палата и палата государственных имуществ. Учреждения эти подчинялись непосредственно министерствам финансов и государственных имуществ; власть губернатора по отношению к ним ограничивалась лишь правом надзора («Свод законов Росс. имп.», т. II, СПб. 1857, ч. 1, ст. 558, 1098, 1321). Обвинение в следовании принципу разделения властей и в административном сепаратизме– намек губернатора на попытку чиновников этих палат использовать особое положение своих ведомств для лишения его доли барышей от организации ополчения. Ср. также стр. 628 в т. 7 наст. изд. Упоминание « про старших», о которых «не в той мере помнят, в какой по закону помнить надлежит», – намек на предписанное законом создание для рекрутских наборов губернских комитетов в составе председателя казенной палаты, управляющего палатой государственных имуществ и предводителя дворянства под председательством губернатора («Свод законов Росс, имп.», т. II, ч. 1, СПб. 1857, ст. 352, 486).
И придут нецыи… – Hецые– некие ( церковнослав.). Далее – текст обычной вывески над входом в цирюльню.
Пионер– в салтыковской сатире одно из определений молодой, более цивилизованной генерации провинциальной бюрократии, шедшей на смену темному «гоголевскому» чиновничеству николаевской эпохи.
Если б я был женщина-романист… – Ниже пародируется, по-видимому, стиль повестей Кохановской.
Тамбурмажор– главный полковой барабанщик; всегда был высокого роста и шагал перед строем.
Ess-bouquet– название дорогих французских духов.
…в особенности дорого было в этих «записках» – это полное совпадение их с тем общеопекательным тоном, который господствовал в то время в одной части петербургского бюрократического мира! – Накануне крестьянской реформы среди славянофильски настроенных кругов бюрократии была распространена тенденция к «опекательным» установлениямпо отношению к народу. Она ярко выразилась в широко ходившей в 1856 году записке Самарина «О крепостном состоянии и о переходе из него к гражданской свободе», где цитируется ряд проектов, доказывающих необходимость опеки над крестьянами «для предупреждения мотовства», «для предупреждения безрассудных браков» и прочих «безрассудств», к которым якобы склонны крестьяне (Ю. Ф. Самарин. Соч., т. II, М. 1878, стр. 53). «Опекательная тенденция» определила, в частности, направление чиновничьей деятельности В. Даля, которая была известна Салтыкову (см. стр. 537–538 в т. 2 наст. изд.). Рассуждения и «записки» Удодова (стр. 463–464) пародируют подобные «опекательные» настроения и прожекты – см., например, заключительные строки изложения его «записки», конец абзаца «И он читал мне…».
Это как-то напоминало Ипполита Маркелыча Удушьева, о котором<…> отзывался Репетилов. – Вероятно, подразумеваются строки из монолога Репетилова в грибоедовском «Горе от ума» (действ. IV, явл. 4). начинающиеся словами; «Но если гения прикажете назвать: // Удушьев Ипполит Маркелыч!!!» и кончающиеся: «…сам плачет, и мы все рыдаем». (Последнее относится уже к Толстому-«Американцу».)
Наш народ – дитя… – Изложенная далее административио-«опекательная» философия пионера Удодова роднит его с «просвещенным» бюрократом-«озорником» из «Губернских очерков» (см. стр. 259–266 и 537–538 в т. 2 наст. изд.). Обычное право– освященные традициями и обычаями нормы поведения; см. стр. 622 в т. 7 наст. изд. Фиск– государственная казна; здесь – чиновники, ведающие взиманием повинностей.
…уже в то время провидел «заатлантических друзей». – Под этим именем в русской печати фигурировала американская дипломатическая миссия, прибывшая в Петербург 25 июля 1866 года выразить «сочувствие» в связи с покушением Каракозова (см. стр. 775 в т. 10 наст. изд.).
Фома неверующий! – Выражение, восходящее к Евангелию ( Иоанн, XX, 24–29).
Привет *
Впервые – ОЗ, 1876, № 6 (вып. в свет 21 июня), стр. 459–476, под заглавием «Благонамеренные речи. Привет».
Рукописи и корректуры не сохранились.
Публикация очерка в ОЗпривлекла внимание цензора. Но донесение цензора в Путербургский цензурный комитет было составлено в умеренных тонах, и комитет остановился на мягкой мере – неофициальном сообщении об очерке «Привет» начальнику Главного управления по делам печати [544]544
В. Е. Евгеньев-Максимов. В тисках реакции, ГИЗ, М. – Л. 1926, стр. 52–53.
[Закрыть].
При подготовке очерка для изд. 1876в рассуждениях рассказчика в начале очерка (стр. 474–475 наст. тома) были произведены некоторые изменения, вызванные, возможно, необходимостью устранить цензурные замены и изъятия: слово «склав» (от нем.Sklave или франц.esclave) повсюду заменено на «раб», в конце абзаца «Мне было стыдно…» (стр. 474 наст. тома), обрывавшегося в ОЗсловами «…всем существом своим понял», появилась фраза: «что он весь, с ног до головы, – раб». По всему тексту была проведена также мелкая стилистическая правка.
В изд. 1880и изд. 1883очерк перепечатывался без изменений.
Завершающий «Благонамеренные речи» очерк «Привет» написан Салтыковым сразу по возвращении на родину после почти четырнадцатимесячного пребывания за границей, но, по-видимому, все же не в Петербурге, где писатель провел всего неделю, с 30 мая по 8 июня 1876 года, в хлопотах по множеству накопившихся дел, а в Витеневе, куда он приехал 10 июня.
Название очерка – иронично и двузначно. Это и приветписателя родине после длительной разлуки с нею, это и « привет», которым официальная Россия – жандармы и таможенная полиция – встречают на границе возвращающихся домой соотечественников, ожидающих этой встречи, как «Страшного суда».
Вводная часть очерка – одно из многих высказываний Салтыкова, передающих трагическую осложненность его патриотизма, его любви к России. Салтыков был далек от иллюзий и оптимизма по отношению к современной ему буржуазной Европе. Но в равной мере ему были чужды непонимание или идеализация огромной отсталости царской России от развитых стран Запада. Как всегда, в центре внимания Салтыкова находились сопоставления и наблюдения в сфере социальной психологии и гражданского самосознания. Настроения «рассказчика», возвращающегося из чужой стороны домой, к своим, передаются в очерке такими словами: « Мне было стыдно<…> Не страшно было, а именно стыдно<…> Что-то вроде бессильной злобы раба, который всю жизнь плясал и пел песни, и вдруг, в одну минуту, всем существом своим понял, что он весь, с ног до головы, – раб». Эти слова заставляют вспомнить другие и очень близкие им из «Пролога» Чернышевского: «Жалкая нация, нация рабов, сверху донизу – все рабы», которые Ленин назвал словами «настоящей любви к родине, любви, тоскующей вследствие отсутствия революционности в массах великорусского населения» [545]545
В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, 5-е изд., т. 26, стр. 107.
[Закрыть].
Чтобы приглушить настроения «тоски» и «стыда» перед встречей с « известностью неизвестности» существования по пословице «все мы под богом ходим», «рассказчик» погружается в «мелочи обыденной, чередовой жизни», в разговоры спутников, «благонамеренность речей» которых заключается в том, что они посвящены преимущественно « кулинарным воспоминаниям» насчет еды «у нас» и «за границей». Эти разговоры «представителей русской культурности» в очерке «Привет» – один из блестящих образцов применения Салтыковым его известного принципа: отражение политики в быте.
По теме и по содержанию очерк «Привет», заключающий цикл, теснейшим образом связан с замыслом другого большого, но лишь начатого и незаконченного цикла 1875–1876 годов – «Культурные люди», или «Книга о праздношатающихся» (т. 12 наст. изд.).
…один<…> ехал из Парижа; другой<…> из Ниццы; третий<…> из Баден-Бадена, в соответствующие города: Навозный, Соломенный и Непросыхающий. – В первом ряду названы места пребывания Салтыкова в 1875–1876 годах. Во втором – символические обозначения русской провинции (см. о городе Навозномна стр. 514 и 519 в т. 8 наст. изд., о Соломенном городе– в «Истории одного города» там же).
Пактрэгеры, дистманы– носильщики, посыльные (от нем.Packträger, Dienstmann).
Даже фамилия у него была совсем не культурная – Курицын, тогда как Василий Иваныч был Спальников, а Павел Матвеич – Постельников. – Фамилия Курицынсвязывается с кличкой «куроцап», которую Салтыков не раз присваивал чинам дореформенной уездной полиции. Фамилии Спальникови Постельников– намекают на служило-дворянское происхождение.
Сам покойный Михаила Петрович мне сказывал<…> Вот она где, наша Русь православная, была! – То есть М. П. Погодин. Он умер 8 декабря 1876 года. В русской и зарубежной историографии конца 60-х – начала 70-х годов велась широкая полемика по поводу происхождения и первоначального обитания славянских племен. Погодин утверждал, что славянские племена пришли в Восточную Европу с Запада, где память о них сохранилась в географических названиях: «…В северной и средней Германии все собственные имена славянские показывают <…> что прежде немцев в этих местах жили славяне: Стрелиц, Шверин, Росток, Кролевец, Гданск…» (М. П. Погодин. Польский вопрос. Собрание рассуждений, записок и замечаний, М. 1867, стр. 131).
Тюрбо– рыба калкан ( франц.turbot).
Соль, барбю– камбала ( франц.sole, barbue).
Антреме– приправы к жаркому ( франц.entremets).
Буйль-абесс– рыбная похлебка с чесноком и пряностями ( франц.bouilleabaisse).
Мещанин во дворянстве– «герой» одноименной комедии Мольера.
Пуле– цыпленок ( франц.poulet).
Жарден даклиматасьон– зоологический сад в Париже ( франц.jardin d’acclimation).
Пулярка– откормленный цыпленок (от франц.poularde).
Савёр– вкус ( франц.saveur).
Филе де-каннетон– филе утенка ( франц.filet de caneton).
Пердро– молодая куропатка ( франц.perdreau).
…так любовно, как будто блудного сына обрели.– Евангельская реминисценция ( Лука, XV, 11–32).
..во время осады… – В 1871 году франко-прусские войска осадили Париж, чтобы расправиться с Коммуной.
Лапен– кролик ( франц.lapin).
…лямуру или ляшозу<…> Мак-Магонша лямуру не любит<…> Кабы<…> как при Евгении… – Лямур, ляшоз– любовь, кое-что ( франц.l’amour, la chose), здесь – то же, что «клубничка», «безделица» (см. стр. 634 в т. 5 и стр. 475 в т. 9 наст. изд.). Мак-Магонша– жена президента республики Мак-Магона; Евгения– жена Наполеона III. Распущенность нравов, отличавшая правящую верхушку Второй империи (см. очерк «Еще переписка»), сменилась известной строгостью, определявшейся клерикальной ориентацией Мак-Магона. Об иностранцах, изучавших Париж с точки зрения «милой безделицы», см. на стр. 245 в т. 8 наст. изд.
Же лоннёр—имею честь ( франц.j’ai l’honneur).
…амнистию обсуждали. – 17 мая 1876 года французская палата депутатов отклонила проект закона об амнистииучастникам Парижской коммуны (« СПб. вед.»,1876, №№ 127 и 133, 9/21 и 15/27 мая). Салтыков, по-видимому, присутствовал на этом заседании. См. гл. IV «За рубежом» (т. 14 наст. изд.).
…придет Наполеон<…> – в Кайенну ушлют. – Несмотря на победу республиканцев на выборах во Франции (см. стр. 450 и 615), бонапартисты не теряли надежды на реставрацию и выдвигали принца Наполеонакак законного претендента на престол. Кайенна– город во Французской Гвиане (Южная Америка), место ссылки политических заключенных, в частности многих коммунаров.
…турки-то тоже конституции запросили! – В мае 1876 года в Стамбуле состоялись манифестации с требованиями конституции.
…его в окру́гу гонят<…> голоса́ подавать надо! – Во время избирательной кампании во Франции предвыборные «комитеты» (см. прим. к стр. 450) добивались максимального участия избирателей в голосовании с целью обеспечить большинство голосов своим партиям.
Разве с подводой выгонят… – Согласно земской «подводной» повинности каждая деревня была обязана выставлять определенное количество подвод для разъездов должностных лиц.
…в пастухи определят, вместе с Макаром телят пасти велят. – То есть подвергнут ссылке или высылке.
Неоконченное *
Все материалы данного отдела не публиковались при жизни Салтыкова, не датированы им и не использовались при написании какого-либо из очерков «Благонамеренных речей».
Благонамеренные речи. XII. Переписка *
Впервые было опубликовано Вл. Кранихфельдом в журнале «Рубикон», 1914, № 6, стр. 11–16, по не дошедшей до нас рукописи, представляющей собой более краткую редакцию настоящего отрывка [546]546
В библиографии Л. М. Добровольскийи В. М. Лавров. М. Е. Салтыков в печати, Л. 1949, стр. 94, ошибочно указано, что публикация Кранихфельда сделана по рукописи, хранящейся в Пушкинском доме.
[Закрыть]. От известных в настоящее время других текстов публикация Кранихфельда отличается рядом сокращений и обрывается словами «…вот обстановка, в которой живет «libre penseur»» (абзац «Когда он остепенится…», стр. 501 наст. тома). В статье Кранихфельда «Адвокатура в сатире Щедрина», предпосланной публикации, сообщалось: «Под названием «Переписка» в рукописях Салтыкова находятся два варианта, которых нет в печати. Как к первому, так и ко второму варианту автором сделано примечание, в котором «покорнейше просят читателя припомнить «Переписку», напечатанную в «Отечественных записках» № 12 за 1873 год».
Более полная редакция настоящего отрывка была опубликована H. H. Пенчковским в Литературно-художественном сборнике «Красной панорамы», Л. 1928, сентябрь, стр. 44–49, по другой не дошедшей до нас рукописи. Во вступительной заметке публикатора «Неопубликованный очерк М. Е. Салтыкова» сообщалось: «Статья написана на четырех страницах писчего листа, особенно неразборчиво даже для салтыковеких рукописей, с множеством вносок и вставок…»
В настоящее время известна черновая рукопись отрывка [547]547
Хранится в Отделе рукописей Пушкинского дома.
[Закрыть]. Текст ее начинается словами «Я в восторге, милая маменька. Я только теперь понял, что такое жизнь…» (ср. стр. 493 наст. тома) и заканчивается фразой «Затем следует бесконечная цепь адвокатов-гостей», следующей за словами «…непременное отягчение участи обвиняемого» (ср. конец абзаца «Разновидность «серьезного любовника»…», стр. 499 наст. тома). К заглавию сделано подстрочное примечание: «Покорнейше прошу читателей припомнить «Переписку», напечатанную в 12-м № «Отеч. зап.» за 1873 год. Авт.».
В настоящем издании текст печатается по публикации H. H. Пенчковского, сделанной по более тщательно отработанной в стилистическом отношении рукописи, которая, по всей вероятности, является наиболее поздним вариантом отрывка.
Приводим два варианта черновой рукописи.
К стр. 495–496, конец абзаца «Непосредственно за «благородными отцами»…», вместо слов «Пробовали пристроить <…> фальшивыми векселями»:
Но повторяю: «злодей» есть не что иное, как благородный отец, которому не посчастливилось в судебной практике. Дайте этому человеку хотя один конкурс – и вы увидите, как естественно совершится его переход в «благородного отца». Я сам однажды был свидетелем подобного явления: «злодей» получил конкурс, правда, не блестящий, но тем не менее важный в том смысле, что он открывал дорогу к другим конкурсам. «Злодей» уже готов был сделаться благородным отцом, но продолжительная неудача уже наложила на него свое клеймо. Не прошло месяца, как он наводнил управление фальшивыми векселями…
К стр. 496, в начале абзаца «Адвокат-«паук»…», вместо слов «Но кроме того <…> юридическим сводничеством»:
Но кто же может исчислить все услуги, которые может оказать ловкий «паук» при той почти горячечной жажде роскоши и наслаждений, которая проникла во все слои современного общества! И вот с помощью этих связей и соответствующих кушей устраиваются предприятия, громадность которых заставляет кружиться голову! И кто устраивает их! Какой-нибудь Ерофеев, который не может двух слов сказать связно, не может одной строки написать, чтоб в ней не было двух бессмыслиц! Ерофеев, который, будучи в школе, фразу «Осел и соловей» спрягал как глагол? <3 слова нрзб> Поумнел ли он, по крайней мере, с тех пор? Сделался ли развитее и образованнее? Нет, ни то, ни другое. Он и до сих пор продолжает спрягать «Осел и соловей», а все его развитие заключается в том, что он несколько раз внимательно просмотрел на Михайловском театре пьесу «Tricoche et Cacolet» [548]548
Водевиль А. Мельяка и Л. Галеви (1871 г.), шедший в Михайловском театре Петербурга в 1872 году. Подробнее см. на стр. 793 в т. 10 наст. изд.
[Закрыть].
Настоящий отрывок является началом очерка, задуманного как продолжение первого очерка «Переписка». Об этом свидетельствует содержание отрывка, в частности упоминание о Ерофееве (фигурирует в первой «Переписке»), и подстрочное примечание в публикации Кранихфельда и в черновой рукописи (см. выше). Судя по порядковой нумерации очерка, он готовился для октябрьской книжки ОЗ1874 года, но был заменен другим очерком с тем же заглавием (в отдельных изданиях – «Еще переписка»). Замысел – критика адвокатуры – частично воплощен в создававшемся в это же время цикле «В среде умеренности и аккуратности» (см. категории «бродяг» и «не помнящих родства людей» в «Господах Молчалиных»).
Конкурсный председатель– руководитель конкурса(см. прим. к стр. 38).
Дисконт– учет векселей.
…нечто подобное встречалось<…> в типе Расплюева («Свадьба Кречинского»)<…> Глова («Игроки»)… – персонажи комедий Сухово-Кобылина и Гоголя.
…незримые слезы сквозь видимый миру смех. – Реминисценция из гоголевских «Мертвых душ» (т. I, гл. VII).
…в цирке и в «Буффе»<…> это почти что кавалергард. – См. прим. к стр. 116 и 147.
Приятное семейство (К вопросу о «Благонамеренных речах») *
Впервые опубликовано в 1931 году Н. В. Яковлевым в «Новом мире», № 7, стр. 185–187, по тексту сохранившейся рукописи. В настоящем издании печатается по тому же источнику.
Когда именно Салтыков задумал и начал писать «Приятное семейство», почему работа была брошена в самом начале, сведений нет. Подзаголовок рассказа позволяет как будто бы отнести замысел к 1872–1876 годам, когда писались и печатались «Благонамеренные речи». По содержанию же комментируемый текст опирается на впечатления, полученные Салтыковым в 1865–1866 годах, во время жизни и службы в Пензе, и связан с двумя другими замыслами писателя, также возникшими на материале пензенских впечатлений: с «Очерками города Брюхова» (1865) и рассказом «Испорченные дети» (1869).
Первый замысел остался неосуществленным. Однако выразительное название несозданного, но начинавшего складываться втворческом сознании Салтыкова произведения (см. письмо к Анненкову от 2 марта 1865 года), не оставляет сомнения, что «Очерки города Брюхова» стали бы еще одним осуществлением характерного для салтыковской сатирической критики приема: в культе еды, в поклонении Мамонувскрывался бы социально-политический аспект. Нечто близкое к этому замыслу встречаем и в «Приятном семействе»: «В П***, – читаем в начатом рассказе, – вас сразу ошибает запах еды, и вы делаетесь невольно поборником какой-то особенной религии, которую можно назвать религией еды». Приезжий в П*** скоро не выдерживает натиска и всеобщности этого «культа», «сдается» и восклицает: «Мамон, я твой! я твой – навсегда!»
С Пензой же связывают комментируемый отрывок рассказа и его первые строки – о распространении «пагубных, потрясших Западную Европу идей», которые «с особенною силой действовали между воспитанниками местной гимназии» (чуть ниже она названа «П-ской гимназией»). Тут речь идет о внимании, проявленном органами политической полиции к пензенской гимназии в связи, с одной стороны, с инцидентом 1864 года, когда гимназист шестого класса Н. Кузнецов дал пощечину директору, реакционеру и обскуранту – Р. Шарбе, а с другой стороны, в связи с тем, что стрелявший в 1866 году в Александра II Каракозов был воспитанником пензенской гимназии, так же как ряд членов революционного кружка, к которому принадлежал Каракозов, в том числе и руководитель кружка – Ишутин. Эти намеки на злободневные политические события 60-х годов введены и в упомянутый рассказ «Испорченные дети» (т. 7 наст. изд.).
На связь с Пензой указывает еще одна деталь: в рассказе говорится, что город П*** «был сплошь населен отставными корнетами». В «Дневнике провинциала…» и его незаконченном продолжении «В больнице для умалишенных» «отставные корнеты» раскрываются как « пензенские корнеты».
Какое место Салтыков предполагал отвести рассказу – если бы закончил его – в общей композиции «Благонамеренных речей», неясно. Судя по названию, рассказ предназначался для критики «семейственного союза».
…выписывали вина прямо от Рауля и от Депре, а консервы от Елисеева. – Французские вина фирмы Рауляв Петербурге и Депрев Москве считались лучшими, как и гастрономические товары братьев Елисеевых, имевших магазины в обеих столицах.
…о чем ни Борелям, ни Дюссо и во сне не снилось. – Фешенебельные петербургские рестораны Бореля и Дюссославились своей французской кухней и считались «любимыми ресторанами великосветских денди» (Вл. Михневич. Петербург весь на ладони, СПб. 1874, стр. 486).
…поражает двухпудовым осетром<…> из С***… – по-видимому, из Сызрани.
Благонамеренная повесть. Вступление *
Впервые опубликовано в 1914 году В. П. Кранихфельдом в «Русск. ведомостях», № 97, 27 апреля, и в том же году – М. К. Лемке (анонимно) в «Вестнике Европы», № 5, стр. 25–34. Источник текста обеих публикаций один и тот же – беловая рукопись (с некоторой авторской правкой) из архива M. M. Стасюлевича, находившаяся ранее в Музее Революции СССР в Москве, а ныне в Пушкинском доме в Ленинграде.
Девятого марта 1875 года тяжело заболевший Салтыков, направляемый врачами на лечение в Баден-Баден, обратился к находившемуся там П. В. Анненкову с письмом. В нем помимо ряда деловых просьб высказывалась радость по поводу скорого свидания и намечались темы предстоящих бесед, в том числе о важной и остро взволновавшей Салтыкова литературной новости – начавшемся в «Русском вестнике» печатании толстовской «Анны Карениной».
«Обо всем переговорим при свидании», – писал Салтыков и продолжал: «Вероятно, Вы <…> читали роман Толстого о наилучшем устройстве быта детор<одных> частей. Меня это волнует ужасно. Ужасно думать, что еще существует возможность строить романы на однихполовых побуждениях <…> Мне кажется это подло и безнравственно».
Состоялся ли предполагавшийся обмен мнениями с Анненковым по поводу «Анны Карениной», сведений нет. Здоровье Салтыкова по приезде в Баден-Баден настолько ухудшилось, что врачи опасались за жизнь его.
Оправившись несколько от болезни, Салтыков возобновил литературную работу и написал в июне – июле 1875 года рассказ «Сон в летнюю ночь», первоначально предназначенный им для «Благонамеренных речей» (потом вошел в «Сборник», том 12 наст. изд.). На полях черновойрукописи рассказа, оставшейся у него, Салтыков сделал (когда именно – неизвестно) ряд конспективных записей, намечавших образы и ситуации задуманного нового произведения, «Книги о праздношатающихся» (другие названия – «Дни за днями за границей» и «Культурные люди»). Текст одной из записей таков: « Литератор. Повесть о влюбленном быке». Расшифровку записи и раскрытие ее связей с ближайшими творческими замыслами Салтыкова находим в письме к тому же Анненкову из Ниццы от 20 ноября/2 декабря 1875 года. Сообщая, что в «Книге о праздношатающихся», к писанию которой он приступил, будет «многое множество лиц», Салтыков назвал среди них и « литератора, который в подражание «Анне Карениной» пишет повесть «Влюбленный бык».
На основании приведенных свидетельств незаконченную «Благонамеренную повесть» нередко трактуют как пародию на «Анну Каренину»и делают отсюда соответствующие выводы. Но это неверно, хотя связь между возникновением замысла «Благонамеренной повести» и резко отрицательным восприятием Салтыковым первых главромана Толстого очевидна.
Чтобы правильно понять замысел начатой, но, по-видимому, сразу же и брошенной «Благонамеренной повести», необходимо привести в ясность ряд обстоятельств, относящихся к цитированным высказываниям Салтыкова в письмах к Анненкову, и сопоставить эти обстоятельства с хроникой его работ и творческих планов 1875 года.
Прежде всего следует установить, что отзыв Салтыкова об «Анне Карениной» как о романе, построенном « на однихполовых побуждениях», относится отнюдь не ко всему роману, далеко тогда и не законченному, а лишь к его первой части и к половине второй(гл. 1-10), появившимся в №№ 1 и 2 «Русского вестника» за 1875 год. Уже того, что было напечатано в № 3 – окончания второй части, – Салтыков в тот момент не читал и не знал: письмо к Анненкову датировано 9 марта, а № 3 «Русского вестника» вышел в 1875 году 31 марта. В названных начальных частях и главах романа он еще не превратился полностью из семейно-любовного (жанр, в котором был задуман) в философско-общественный и злободневно-публицистический. «Роман по началу, – пишет Б. М. Эйхенбаум, – кажется сделанным по европейскому образцу: чем-то вроде сочетаний традиций английского семейного романа и французского «адюльтерного» [549]549
Б. М. Эйхенбаум. Лев Толстой. Семидесятые годы, Л. 1960, стр. 152.
[Закрыть]. «Изображение страсти во всей ее прелести и во всем ничтожестве» [550]550
Из письма Н. Страхова к Л. Толстому от 1 января 1875 года. – «Толстовский музей. Т. II. Переписка Л. Н. Толстого с H. Н. Страховым», СПб. 1914, стр. 57.
[Закрыть]преобладает в первых частях и именно с этой стороны и была воспринята большинством современников начавшаяся публикация романа.
Суждение Салтыкова о началеромана определялось его принципиальной эстетической позицией – созданным им учением о новом общественномромане, построенном не на традиционном главенстве любовной интриги, а на возвышении социально-философско-политической проблематики и материала [551]551
А. С. Бушмин. Сатира Салтыкова-Щедрина, Изд-во АН СССР, М. – Л. 1959, стр. 409–435.
[Закрыть]. Вместе с тем резкость и грубость отзыва Салтыкова находят объяснение не только в силе и страстности приверженности писателя к своей общественно-эстетической концепции, но и в его болезни. Она обострила до предела присущую Салтыкову бурную и гневную раздражительность. «Надо скорее уехать из Петербурга, – писал он тому же Анненкову 26 марта 1875 года, – где постоянно нахожусь в раздраженном состоянии».
Работа над «Благонамеренной повестью» была предпринята, по-видимому, летом 1875 года в Баден-Бадене под воздействием незаглохшего еще импульса, полученного от чтения начала «Анны Карениной» в Петербурге. Продолжение романа в №№ 3 и 4 «Русского вестника» появилось в дни и недели критического состояния здоровья Салтыкова, и вряд ли он тогдаознакомился с этим продолжением. А затем в публикации романа наступил перерыв до февраля 1876 года.
Салтыков успел написать для «Благонамеренной повести» только «Вступление» и две главки (третья лишь обозначена заглавной цифрой) «Из записок солощего быка» под заглавием «Мои любовные радости и любовные страдания». «Вступление» посвящено прежде всего аргументации необходимости рассмотрения среди других форм и явлений «благонамеренного миросозерцания» также и « благонамеренного искусства». Но главное содержание «Вступления» составляет развитие взглядов Салтыкова на общественный роман, полемически заостренное против монополии «любовной интриги». В «записках солощего быка» Салтыков переводит развитие этой же темы из теоретико-публицистического ключа в художественный, гротескно-сатирический, но тут же и обрывает начатую новую разработку. Несколько позже и уже, как сказано, в связи не с «Благонамеренными речами», а с «Книгой о праздношатающихся», замышлявшейся в манере «Записок Пикквикского клуба» Диккенса, Салтыков вновь обратился к мысли подвергнуть сатирической критике традиции любовного романа в «Анне Карениной». Эту критику он намеревался осуществить теперь не в острогротескной форме «записок солощего быка», а в форме менее карикатурной и жесткой. С этой целью и была задумана фигура «литератора, который в подражание «Анне Карениной» пишет повесть «Влюбленный бык».
Идентифицировать оба означенных замысла, хотя и связанных друг е другом, нет оснований, а главное, нет оснований рассматривать начатую и брошенную «Благонамеренную повесть» и вовсе неосуществленный замысел о «подражании «Анне Карениной», как пародиюна роман Толстого. В написанном начале «Благонамеренной повести» налицо теоретический и сатирический спор Салтыкова с Толстым по поводу традиций любовного романа в «Анне Карениной», но нет никаких элементов пародии на это произведение.
Оба замысла Салтыкова остались неосуществленными. Нужно думать, что еще до возобновления печатания «Анны Карениной» Салтыков сам убедился, что его заостренное болезненной раздражительностью импульсивно-резкое восприятие только что начатой публикации нового романа Толстого было односторонне и необъективно. Салтыков отказался от обоих замыслов сатирической критики «Анны Карениной» и никогда не возвращался к ним.
Об отношении Салтыкова к Толстому и его творчеству см. в салтыковских письмах и комментариях к ним в тт. 19–20 наст. изд.
…деятельности, которой образцы представляют художники Тютрюмов и Микешин, может быть беспрепятственно усвоено название благонамеренной. – Живописец Н. Л. Тютрюмовувлекался изображением обнаженной женской натуры, приобрел известность картинами «Отдых вакханки» и «Нимфа перед купанием». Скульптор М. О. Микешин, автор монументальных памятников тысячелетию России в Новгороде, Екатерине II в Петербурге, Александру II в Ростове-на-Дону и др., воспринимался Салтыковым в качестве официозного художника.
…«для звуков сладких и молитв». – Из стихотворения Пушкина «Чернь» («Поэт и толпа»).








