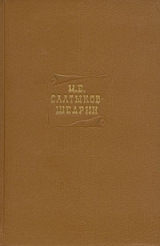
Текст книги "Том 11. Благонамеренные речи"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 50 страниц)
По крайней мере, что касается до меня, то хотя я и понимал довольно отчетливо, что Дерунов своего рода вампир, но наружное его добродушие всегда как-то подкупало меня. А еще более подкупали его практический ум и его бывалость. В первом смысле, никто не мог подать более делового совета, как в данном случае поступить (разумеется, можно было следовать или не следовать этому совету – это уже зависело от большей или меньшей нравственной брезгливости, – но нельзя было не сознавать, что при известных условиях это именно тот самый сонет, который наиболее выгоден); во втором смысле, никто не знал столько «Приключений в Абруццских горах» и никто не умел рассказать их так занятно. Даже явно неправдоподобные рассказы его о чудодейственной силе скапливаемых гривенников и пятаков не казались особенно неприятными, потому что в самой манере рассказывания уже слышалось его собственное ироническое отношение к предмету рассказов. Видно было, что при этом он имел в виду одну цель: так называемое «заговариванье зубов», но, как человек умный, он и тут различал людей и знал, кому можно «заговаривать зубы» наголо́ и кому с тонким оттенком юмора, придающего речи приятный полузагадочный характер.
Теперь, с исчезновением старозаветной обстановки, исчезла и прежняя загадочность; выжимание гроша втихомолку сменилось наглым вожделением грабежа, и хотя старинный юмор по временам еще сказывается, но имеет уже характер случайный, искусственный. Очевидно, что Дерунов уж оставил всякую оглядку, что он не будет впредь ни колоколов лить, ни пудовых свечей к образам ставить, что он совсем бросил мысль о гривенниках и пятаках и задумал грабить наголо́ и в более приличной форме. Все мелкие виды грабежа, производимые над живым материалом и потому сопровождаемые протестом в форме оханья и криков, он предоставляет сыну Николашеньке и приказчикам, сам же на будущее время исключительно займется грабежом «отвлеченным», не сопряженным с оханьями и криками, но дающим в несколько часов рубль на рубль. «И голова у тебя слободна, и совесть чиста – потому, «разговоров нет!» – так, я уверен, рассуждает он в настоящее время. Генерал, который нарочно приезжал в К., чтоб доказать Осипу Иванычу, что в его рубле даже надобности никакой нет, что он нужен только для прилику, для видимости, а что два других рубля на этот мнимый рубль придут сами собой, – успел в этом больше, чем надо. Дерунов вдруг утратил присущее всякому русскому кулаку представление о существовании Сибири, или, лучше сказать, он и теперь еще помнит об ней, но знает наверное, что Сибирь существует не для него, а для «других-прочиих».
И вот, хотя отвлеченный грабеж, по-видимому, гораздо меньше режет глаза и слух, нежели грабеж, производимый в форме операции над живым материалом, но глаза Осипа Иваныча почему-то уже не смотрят так добродушно-ясно, как сматривали во время о́но, когда он в «худой одёже» за гривенник доезжал до биржи; напротив того, он старается их скосить вбок, особливо при встрече с старым знакомым. Он как бы чувствует, что его уже не защищает больше ни «глазок-смотрок», ни «колупанье пальцем», ни та бесконечная сутолока, которой он с утра до вечера, в качестве истого хозяина– приобретателя, предавался и которая оправдывала его в его собственном мнении, а пожалуй, и в мнении других. Теперь он оголен, он ходит праздно с утра до вечера и только соображает, в какой степени выгодна новая финансовая пакость, которую предложил ему «генерал». По исстари установившемуся в нем самом понятию, все это никоим образом не осуществляет представления об «деле», как об чем-то, сопряженном с трудом. Он вполне сознает, что тут нет и тени «труда», а есть только ничем не прикрытое ёрничество, сопровождаемое наглым бросанием денег и бражничаньем без конца.
Самые отношения его к Марье Потапьевне утратили прежнюю загадочность. Нагота их разом всплыла наружу и, для своего прикрытия, потребовала такой обстановки, которая сообщает этим отношениям характер еще большей пошлости. В обществе «сквернословов» Осип Иваныч сам незаметно сделался сквернословом, и хотя еще держится в этом отношении на реальной почве, но кто же может поручиться, что дальнейшая практика не сведет и его, в ближайшем будущем, на ту почву мечтания, о которой он покуда отзывается с негодованием. Благо в жизнь вошел элемент срамословия, а что градации его будут пройдены все до конца – это неминуемо. И тогда – Марье Потапьевне мат: Осип Иваныч войдет во вкус и не станет смотреть, «утробиста» ли женщина или не «утробиста», а будет подмечать только, как она «виляет хвостом». И останется он постоянным жителем города С.-Петербурга, и наймет себе девицу Сузетту, а Марью Потапьевну ушлет в К., в жертву издевкам Анны Ивановны и семьи Николая Осиповича…
Тем не менее в одну из пятниц я отправился в Европейскую гостиницу, отправился от скуки, сам не сознавая зачем. Было довольно поздно, когда я пришел. В столовой стоял раздвинутый стол, уставленный фруктами, конфектами и крюшонами с шампанским; в кабинете у Осипа Иваныча, вокруг трех соединенных ломберных столов, сидело человек десять, которые играли в стуколку. Было страшно накурено; там и сям около играющих виднелись стаканы с шампанским. Среди плавающих облаков дыма я заметил несколько физиономий, несомненно принадлежащих тузам финансового мира, – физиономий, по носам которых можно было безошибочно заключить о восточном их происхождении. Несколько перстней с крупными брильянтами блеснуло мне в глаза. Тут же сидел и «генерал» * , человек очень угрюмого вида, когда-то бывший полководец, совершивший знаменитую переправу через реку Вьюлку [38]38
Тверской губернии, Калязинского уезда. ( Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)
[Закрыть]и победивший мятежных семендяевцев [39]39
Торговое село Семендяево, там же. ( Прим. M. E. Салтыкова-Щедрина.)
[Закрыть], но теперь, за победой и одолением, оставшийся за штатом и нашедший приют около концессионеров. Тишина царствовала невозмутимая, прерываемая только условным стуканьем пальцев и хлясканием карт. Один Осип Иваныч изредка балагурил, немилосердно мусля при этом карты. Посреди стола лежала изрядная куча скомканных бумажек.
Мое появление взбудоражило всю компанию. Осип Иваныч выразил как бы недоумение, увидев меня; когда же он назвал мою фамилию, то такое же недоумение сказалось и на других лицах.
– С нами, что ли, в стуколку играть сядете? – тем не менее любезно обратился ко мне хозяин, делая вид, что очищает место подле себя.
– Нет, я уж к Марье Потапьевне…
– Ну, к Марье Потапьевне так к Марье Потапьевне! А у ней соскучитесь, так с Иваном Иванычем займетесь. Иван Иваныч! вот, братец, гость тебе! Займи! да смотри, чтоб не соскучился! Да чаю им, да по питейной части чтоб неустойки не было! Милости просим, сударь!
Иван Иваныч Зачатиевский, куда-то исчезавший в минуту моего прихода, словно из земли вырос на зов своего патрона и стоял уже сзади меня, готовый по первому манию увлечь меня хоть в преисподнюю.
– Пожалуйте-с! Марья Потапьевна будут очень рады-с! – говорил Иван Иваныч, уводя меня под руку из кабинета.
– Помещик из наших местов… Еще родителя ихнего знавал… – объяснял, следом за мной, Дерунов, по-видимому, все еще недоумевающим игрокам и, сказав это, намуслил карты и стукнул.
В гостиной, вокруг Марьи Потапьевны, тоже собралось человек около десяти, в числе которых был даже один дипломат, сухой, длинный, желтый, со звездой на груди. В ту минуту, когда я вошел, дипломат объяснял Марье Потапьевне происхождение, значение и цель брюссельских конференций * .
– Представьте себе, chère [40]40
дорогая.
[Закрыть]Марья Потапьевна, что одна из воюющих сторон вошла в неприятельскую землю, – однозвучно цедил он сквозь зубы, отчего его речь была похожа на гуденье, – что́ мы видим теперь в подобных случаях? А то, что местное население старается всячески повредить победоносному врагу, устроивает ему изменнические засады, бежит в леса, заранее опустошая и предавая огню все, что стоит на его пути, предательски убивает солдат и офицеров, словом сказать, совершает все, что дикость и варварство могут внушить ему… тогда как теперь…
Мой приход помешал дальнейшему развитию объяснений. Но и в гостиной Марьи Потапьевны я был не более счастлив, чем в кабинете Осипа Иваныча. Она словно забыла мое лицо и одно мгновение как бы колебалась; потом, однако ж, вспомнила и подала мне руку, несколько кисло улыбнувшись. «Калегварды», которых я уже встретил во время моего первого утреннего визита, приняли меня радушнее. Казалось, им надоел дипломат (он, наверное, надоел и Марье Потапьевне), и они надеялись, что мой приход даст беседе новое направление. Многие зевали, и ежели не уходили, то только благодаря крюшонам, стоявшим в столовой, и ожидаемой перспективе ужина. Что касается до дипломата, то он взглянул на меня с недоумением, почти неприязненно.
– Помещики из наших местов, – как бы оправдывалась Марья Потапьевна, называя меня по фамилии.
– Вы, кажется, писатель? – спросил дипломат, сопровождая этот вопрос каким-то невыразимо загадочным взглядом, в котором в одинаковой степени смешались и брезгливость, и смутное опасение быть угаданным, и желание подольститься, показать, что и мы, дескать, не чужды…
Я поклонился, думая в то же время (эта мысль преследует меня везде и всегда): «А ну, как последует назначение… ведь бывали же примеры!»
– Они по смешной части! – объяснила Марья Потапьевна.
– Ah! Ah! «по смешной части»! joli [41]41
прекрасно.
[Закрыть]. Именно, именно по «смешной части»! Faites-nous rire, monsieur! [42]42
Посмешите нас, сударь!
[Закрыть]Мы так бедны смехом, что нужно, чтобы кто-нибудь расправлял наши морщины.
Он благосклонно подал мне руку и затем обратился к прерванному разговору и окончательно разъяснил Марье Потапьевне пользу брюссельских конференций.
Исполнив это, он любезно обратился к «калегвардам»:
– Ну-с, господа, как идут дела с мадам Жюдик?
– Да что, барон! Нельзя сказать, чтобы очень… добродетельна чересчур! – отозвался тот самый «калегвард», который и в первый визит мой заявил себя противником Жюдик.
– Ну, нет-с; я вам скажу, это женщина… это, как по-испански говорится, salado… salada… [43]43
пикантная.
[Закрыть]Так, кажется?
– Так-то так, барон, но к чему эта строгость… ce puritanisme, enfin! [44]44
этот пуританизм, в конце концов!
[Закрыть]
– Не знаю, не заметил… а по моему мнению, бывает воздержность, которая гораздо больше говорит, нежели самая недвусмысленная жестикуляция… Впрочем, вы, молодежь, лучшие ценители в этом деле, нежели мы, старики. Вам и книги в руки.
– Что касается до меня, то я совершенно вашего мнения, барон! – вступился «калегвард», приверженец Жюдик, – я говорю: жест актрисы никогда не должен давать всё сразу; он должен оставлять желать, должен возбуждать воображение, открывать перед ним перспективы… Schneider! Что́ такое Schneider? – это несколько усовершенствованная Alphonsine – и ничего больше! Она сразу дает всё, она не оставляет моему чувству никакого повода для самодеятельности… Je vous demande un peu, si c’est de l’art! [45]45
Спрашивается, искусство ли это!
[Закрыть]
– Так-с, так-с, совершенно с вами согласен… Vous avez saisi mon idée! [46]46
Вы уловили мою мысль!
[Закрыть]A впрочем, вы, кажется, и из корпуса вышли первым, если не ошибаюсь…
– Точно так, барон.
– Н-да… это так… Жюдик… Salado, salada… Ну-с, chère Марья Потапьевна, я вас должен оставить! – произнес дипломат, с достоинством взвиваясь во весь рост и взглядывая на часы, – одиннадцать! А меня ждет еще целый ворох депеш! Пойти на минуту к почтеннейшему Осипу Иванычу – и затем домой!
– А я думала, что вы с нами отужинаете, барон?
– Нет, chère Марья Потапьевна, я в этом отношении строго следую предписаниям гигиены: стакан воды на ночь – и ничего больше! – И, подав Марье Потапьевне руку, а прочим сделав общий поклон, он вышел из гостиной в сопровождении Ивана Иваныча, который, выпятив круглый животик и грациозно виляя им, последовал за ним. Пользуясь передвижением, которое произвело удаление дипломата, поспешил и я ускользнуть в столовую.
– Ну, теперь я вас не выпущу! – шепнул мне по дороге Иван Иваныч, – вот дайте только проводить генерала.
Дипломат проследовал в кабинет и благосклонно присел около Осипа Иваныча, который в эту самую минуту загреб целую уйму денег.
– Ну-с, господа, как поигрываете? – спросил дипломат.
– Да вот его превосходительство побеждает, – шутил Осип Иваныч, указывая на бывшего полководца.
– Да? непобедим, как и везде! и на поле сражения, и на зеленом поле! А я с вами, генерал, когда-нибудь намерен серьезно поспорить! Переправа через Вьюлку – это, бесспорно, одно из славнейших дел новейшей военной истории, но ошибочка с вашей стороны таки была!
– Толкуй больной с подлекарем! – проворчал себе под нос полководец.
– Нечего, ваше превосходительство, сердиться, – с своей стороны подшучивал Осип Иваныч, – их превосходительство это правильно заметить изволили! Была ошибочка! действительно ошибочка была!
– Я, по крайней мере, позволяю себе думать, что если бы вы в то время взяли направление чуть-чуть влево, то талдомцы [47]47
Талдом – тоже торговое село в Калязинском уезде. ( Прим. M. E. Салтыкова-Щедрина.)
[Закрыть]не успели бы прийти на помощь мятежным семендяевцам, и вы не были бы вынуждены пробивать кровавый путь, чтоб достигнуть соединения с генералом Голотыловым. Сверх того, вы успели бы обойти Никитские болота * и не потопили бы в них своей артиллерии!
– Да что говорить, ваше превосходительство, – подзадоривал Осип Иваныч, – я сам тамошний житель и верно это знаю. Сделай теперича генерал направление влево, к тому, значит, месту, где и без того готовый мост через Вьюлку выстроен, первое дело – не нужно бы совсем переправы делать, второе дело – кровопролития не было бы, а третье дело – артиллерия осталась бы цела!
– Ну, вот видите! я хоть и не тактик, а сейчас заметил… Впрочем, господа, победителя не судят! – решил дипломат и с этим словом окончательно встал, чтобы удалиться.
Осип Иваныч кинулся было за ним, но дипломат благосклонным жестом руки усадил его на место. Это не помешало, однако, Дерунову вновь встать и постоять в дверях кабинета, следя взором за Иваном Иванычем, провожавшим дорогого гостя.
– Ну, слава богу, проводили! – сказал мне Зачатиевский, возвращаясь из передней, – теперь вы – наш гость! садитесь-ка сюда, поближе к источнику! – прибавил он, усаживая меня к столу, уставленному фруктами и питиями.
Я не раз бывал у Зачатиевского во время наездов Дерунова в Петербург, но знал его вообще довольно мало. Помню, что он называл Осипа Иваныча благодетелем, но я никогда особенно не верил искренности его излияний. В сущности, благодеяния, изливаемые семейством Деруновых на Зачатиевского, были очень скудны и едва ли вознаграждали последнего за хлопоты и стеснения. Несмотря на неприхотливость Осипа Иваныча, правила гостеприимства требовали и успокоить его, то есть отдать в его распоряжение лучший угол, и приготовить лишнее блюдо к обеду. Все это делалось почти бескорыстно, потому что Дерунов отбояривался домашнею провизией, присылаемой из К-, и тем, что крестил детей у Зачатиевского, причем давал на зубок выигрышный билет с пожеланием двухсот тысяч. Но таково уже магическое действие богатства: Зачатиевский, быть может, и ругал втихомолку Дерунова, но никогда не позволил себе отказать ему в какой-либо услуге, хотя бы для этого он вынужден был бегать несколько дней сряду высуня язык.
Впрочем, сама природа, казалось, создала Зачатиевского для услуги. Он был среднего роста и весь круглый. Круглый живот, круглая спина, округлые ляжки, круглые, как сосиски, пальцы – все это с первого раза делало впечатление, что вот-вот этот человек сейчас засеменит ногами и побежит, куда приказано. Круглое, одутловатое и несколько суженное кверху лицо не свидетельствовало о значительных умственных способностях, но постоянно выражало возбужденность и беззаветную готовность что-то выслушать и сейчас же исполнить. И на лице у него все было кругло: полные щеки, нос картофелиной, губы сердечком, маленький лоб горбиком, глаза кругленькие и светящиеся, словно можжевеловые ягодки у хлебного жаворонка, и поверх их круглые очки, которые он беспрестанно снимал и вытирал. Даже лысина на его голове имела вид пятачка, получившего постепенно значительное распространение. Проворен он был изумительно, и я думаю, что в этом случае ему в весьма большой степени помогала бочковатость его существа. Он устремлялся вперед и при этом учтиво вилял всем телом, что особенно приятно поражало начальствующих лиц.
Несмотря, однако ж, на услужливость, действительной доброты в нем не было. Собственно говоря, он был услужлив помимо своей воли, потому только, что тело его очень удобно для этого было приспособлено. Но, оказывая услуги, вскакивая и устремляясь, словно на пружинах, он внутренно роптал и завидовал. В этой зависти, впрочем, скорее сказывалось завидущее пономарское естество, которое всю жизнь как будто куда-то человека подманивает и всю жизнь оставляет его на бобах. На деле он довольствовался очень малым, но глазами захапал бы, кажется, целый мир. Вообще это был очень своеобразный малый, в котором полное отсутствие воли постоянно препятствовало установлению сознательных отношений к людям.
– Так вот мы здесь, у источника, и побеседуем! – сказал он, садясь возле меня, – нам с вами тамделать нечего, а вот около крюшончиков… Постойте! я сейчас велю новый принести… с земляникой!
– Да нужно ли, Иван Иваныч?
– Что вы! что вы! да Осип Иваныч обидится! Не те уж мы нынче, что прежде были! – прибавил он, уже стоя, мне на ухо.
И прежде нежели я успел остановить его, он быстрыми шагами юркнул в переднюю.
– А не то, может быть, вы закусить бы предпочли? – продолжал он, возвратившись, – и закуска в передней совсем готовая стоит. У нас все так устроено, чтоб по первому манию… Угодно?
Но в эту минуту лакей уже внес новый крюшон, и вопрос насчет путешествия в переднюю для закусыванья остался открытым.
– Да, не те мынынче! – возобновил он прерванную материю, нервно передвигая на носу очки, – гривеннички-то да пятачки оставили, а желаем разом…
– Да, большую перемену и я в Осипе Иваныче замечаю.
– В каретах мы нынче ездим – да-с! за карету десять рубликов в сутки-с; за нумер пятьдесят рубликов в сутки-с; прислуге, чтобы проворнее была, три рублика в сутки; да обеды, да ужины, да закуски-с; целый день у нас труба нетолченая-с; одни «калегварды» что за сутки слопают-с; греки, армяне-с; опять генерал-с; вот хоть бы сегодня вечерок-с… одного шампанского сколько вылакают!
При этом перечислении меня так и подмывало спросить: «Ну, а вы? что вы получаете?» Само собою разумеется, что я, однако ж, воздержался от этого вопроса.
– Здесь в один вечер тысячи летят, – продолжал, как бы угадывая мою мысль, Зачатиевский, – а старому приятелю, можно сказать, слуге – грибков да маслица-с. А беготни сколько! с утра до вечера словно в котле кипишь! Поверите ли, даже службой неглижировать стал.
– Вольно же вам!
– Нельзя, сударь, нрав у меня легкий, – онзнает это и пользуется. Опять же земляк, кум, детей от купели воспринимал – надо и это во внимание взять. Ведь он, батюшка, оболтyc оболтусом, порядков-то здешних не знает: ни подать, ни принять – ну, и руководствуешь. По его, как собрались гости, он на всех готов одну селедку выставить да полштоф очищенного! Ну, а я и воздерживай. Эти крюшончики да фрукты – ктообо всем подумал? Я-с! А кому почет-то?
– Иван Иваныч! распорядись, братец! – раздался из кабинета голос Дерунова, – с гостем со своим занялся, а нас бросил!
Зачатиевский засеменил ногами по направлению к передней, и вслед за тем прошли в кабинет два лакея с подносами, обремененными налитыми стаканами.
– Ваше превосходительство! повелите! Новенького! – раздавалось в кабинете.
– Не велеть ли закуску подавать? – обратился ко мне Иван Иваныч, смотря на часы, – первый в половине!
– Не знаю; по-моему, спать пора.
– У нас ведь до четырех часов материя-то эта длится… Н-да-с, так вы, значит, удивлены? А уже мне-то какой сюрприз был, так и вообразить трудно! Для вас-то, бывало, он все-таки принарядится, хоть сюртучишко наденет, а ведь при мне… Верите ли, – шепнул он мне на ухо, – даже при семейных моих, при жене-с…
– Но чем же вы объясняете эту перемену?
– Да как вам сказать? первое дело, кровь на старости лет заиграла, а главное, я вам доложу, все-таки жадность.
– Он и мне что-то об концессии говорил.
– Да-с, вот этот генерал… вон он, полководец! Он первый его обрящил. Нарочно в К. ездил, чтоб залучить. Я, знаете, так полагаю, что думали они, вся эта компания, на простачка напасть, ан вышло, что сами к простачку в передел попали. Грека-то видите * , что возле генерала сидит? – он собственно воротило и есть, а генерал не сам по себе, а на содержании у грека живет. Вот они и затеяли эту самую механику, думали: мужик жадный, ходко на прикормку пойдет! – Ан Осип-то Иваныч жаднее всякого жадного вышел, ходит около прикормки да посматривает: «Не трог, говорит, другие сперва потеребят, а я увижу, что на пользу, тогда уже заодно подплыву, да вместе с прикормкой всех разом и заглону!» И так этот грек его теперь ненавидит, так ненавидит!
– Ну, а Осип Иваныч что?
– Смеется – ему что́! – Помилуйте! разве возможная вещь в торговом деле ненависть питать! Тут, сударь, именно смеяться надо, чтобы завсегда в человеке свободный дух был. Он генерала-то смешками кругом пальца обвел; сунул ему, этта, в руку пакет, с виду толстый-претолстый: как, мол? – ну, тот и смалодушествовал. А в пакете-то ассигнации всё трехрублевые. Таким манером он за каких-нибудь триста рублей сразу человека за собой закрепил. Объясняться генерал-то потом приезжал.
– И что же?
– Велел закуску подать – и только. Коли, говорит, от тебя, ваше превосходительство, и впредь заслуга будет, и впредь не оставлю, а теперь, говорит, закусим да в кабинет пойдем, там по душе потолкуем. Заперлись они это, пошушукали там, только на сей раз остался наш генерал уж доволен. Веселый вышел, да не успел, знаете, уйти, как следом этот самый грек является. «Купите, говорит, мои акции – одни хозяином дела останетесь!» – «А я, говорит (это наш-то), Христофор Златоустыч, признаться сказать, погорячился маленько: полчаса тому назад его превосходительству, доверенному от вас лицу, все свои акции запродал – да дешево, говорит, как!»
– Скажите! и все-таки продолжают видеться?
– И дело даже продолжают вместе делать! Только грек серьезнее стал на Осипа Иваныча смотреть. И посейчас каждый день беседуют. Грек этот, знаете, больше насчет выдумки, а наш – насчет понятия. Тот выдумает, а наш поймет. Тот пока с духом собирается, а наш, смотри, уже и дело сделал. И представьте себе, ведь во всем ему счастие такое! Вот хоть бы стуколка эта – редкий раз пройдет, чтобы он у них карманы не обчистил! Намеднись даже сам говорит мне: «Помилуй, говорит, да мне здесь дешевле, нежели в нашей уездной мурье жить, потому, сколько ни есть карманов, все они теперь мои стали!»
– Ну, это до поры до времени!
– Нет, сударь, это сущую правду он сказал: поколе он жив, все карманы его будут! А которого, он видит, ему сразу не одолеть, он и сам от него на время отойдет, да издали и поглядывает, ровно бы посторонний человек. Уже так-то вороват, так-то вороват!
Опять возглас из кабинета: «Иван Иваныч! Заснул, что ли, братец!» – и опять торопливое движение со стороны Зачатиевского.
– Первый час в исходе, закуску не прикажете ли подавать? – докладывает он Осипу Иванычу.
– А тебе, видно, спать к жене загорелось! Отпустить, что ли, его, господа честная компания! – предложил Дерунов.
– Отпустить! Отпустить!
– Ну, что с тобой делать! волоки закуску!
Иван Иваныч распорядился и опять подсел ко мне.
– Вот вы сказали давеча, – начал я, – что у Дерунова кровь на старости лет заиграла. Я ведь и сам об этом в К. мельком слышал: неужели это правда?
– Верно-с!
– А отец протоиерей к – ский еще «приятнейшим сыном церкви» его величает!
– Будешь величать! Сторублевку-то на полу не поднимешь!
– Но Яков Осипыч, как он это терпит?
– А он с утра до вечера в тумане: помнит ли даже, что и женат-то! Нынче ему насчет вина уж не велено препятствия делать.
– Ну, а Анна Ивановна?
– А Глафирина Николая Петровича знаете?
– Так что ж?
– Ну, он самый и есть… мужчина! У нас, батюшка, нынче все дела полюбовным манером кончаются. Это прежде онлют был, а нынче смекнул, что без огласки да потихоньку не в пример лучше.
– А знаете ли что! Ведь я это семейство до сих пор за образец патриархальности нравов почитал. Та́к это у них тихо да просто… Ну, опять и медалей у него на шее сколько! Думаю: стало быть, много у этого человека добродетелей, коли начальство его отличает!
– Да вы спросите, кто медали-то ему выхлопотал! – ведь я же-с! – Вы меня спросите, что эти медали-то стоят! Может, за каждою не один месяц, высуня язык, бегал… а он с грибками да с маслицем! Конечно, я за большим не гонюсь… Слава богу! сам от царя жалованье получаю… ну, частная работишка тоже есть… Сыт, одет… А все-таки, как подумаешь: этакой аспид, а на даровщину все норовит! Да еще и притесняет! Чуть позамешкаешься – уж он и тово… голос подает: распорядись… Разве я слуга… помилуйте!
Сказавши это, он даже от меня отвернулся и столь плотно уселся в кресло, что я так и ждал: вот-вот Дерунов кликнет из кабинета, и Зачатиевский останется глух к этому кличу.
– Конечно, ежели рассудить, то и за обедом, и за ужином мне завсегда лучший кусок! – продолжал он, несколько смягчаясь, – в этом онмне не отказывает! – Да ведь и то сказать: отказывай, брат, или не отказывай, а я и сам возьму, что мне принадлежит! Не хотите ли, – обратился он ко мне, едва ли не с затаенным намерением показать свою власть над «кусками», – покуда они там еще режутся, а мы предварительную! Икра, я вам скажу, какая! семга… царская!
– Понуждай, Иван Иваныч! понуждай, братец! – раздался голос Осипа Иваныча.
Но Зачатиевский на этот раз не ринулся с места и ограничился ответом: «сейчас!», потому что закуска была почти уже сервирована.
– А все она-с, – сказал он, вновь обращаясь к разоблачениям тайн деруновской семьи, – она сюда его и привезла. Мало ей к – ских приказчиков, захотелось на здешних «кале-гвардов» посмотреть!
– Однако Осип Иваныч, кажется, не ревнует?
– Хитер, сударь, он – вишь их какую ораву нагнал; ну, ей и неспособно. А впрочем, кто ж к нему в душу влезет! может, и тут у него расчет есть!
– Ну, какой же тут расчет!
– Не говорите, сударь! Такого подлеца, как этот самый Осип Иванов, днем с огнем поискать! Живого и мертвого готов ободрать. У нас в К. такую механику завел, что хоть брось торговать. Одно обидно: все видели, у всех на знати, как он на постоялом, лет тридцать тому назад, извозчиков овсом обмеривал!
– Счастье, Иван Иваныч, счастье!
– Не счастье-с, а вся причина в том, что он проезжего купца обворовал. Останавливался у него на постоялом купец, да и занемог. Туда-сюда, за попом, за лекарем, ан он и душу богу отдал. И оказалось у этого купца денег всего двадцать пять рублей, а Осип Иваныч пообождал немного, да и стал потихоньку да полегоньку, шире да глубже, да так, сударь, это дело умненько повел, что и сейчас у нас в К. никто не разберет, когда именно он разбогател.
– Иван Иваныч! батюшка! да ведь это уголовщина!
– А вы думали ка́к? вы, может быть, думали, что миллионер из беспортошника так, сам собой, и делается?
– Да, я слыхал и про такие случаи… Вот, например, был один мальчишка, спичками торговал, а потом четырехэтажный дом выстроил.
– И я от матушки-покойницы слыхивал, что она меня не родила, а под капустным листом нашла.
Говоря это, Зачатиевский нервно подергивал свои очки, и я убежден положительно, что в эту минуту он искренно, от всего сердца ненавидел Дерунова.
– Эти «столпы», я вам доложу… – начал он и вдруг осекся.
В кабинете послышалось движение отставляемых стульев. Иван Иваныч вскочил и стал в позу почтительнейшего метрдотеля, даже губы у него как-то вспухли и замаслились. С обеих сторон, и из кабинета, и из гостиной, показались процессии гостей и ринулись на закуску.
– Вот он каков! – шепнул мне на ухо Зачатиевский, – даже не хотел подождать, покуда я доложу! А осетрины-то в соку между тем нет! да и стерлядь копченая…
– Где стерлядь копченая? Что ж копченая стерлядь? – ринулся он в толпу лакеев, покуда я в передней отыскивал свое пальто.








