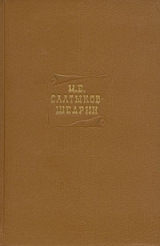
Текст книги "Том 11. Благонамеренные речи"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 50 страниц)
– Леску у Гололобова десятин с полсотни, должно быть, осталось – вот Хрисашка около него и похаживает. Лесок нешто, на худой конец, по нынешнему времени, тысяч пяток надо взять, но только Хрисашка теперича так его опутал, так опутал, что ни в жизнь ему больше двух тысяч не получить. Даже всех прочих покупателев от него отогнал!
– Кто же этот Хрисашка? давно он в здешних местах?
– Хрисанф Петрович господин Полушкин-с? – Да у Бакланихи, у Дарьи Ивановны, приказчиком был – неужто ж не помните! Он еще при муже именьем-то управлял, а после, как муж-то помер, сластить ее стал. Только до денег очень жаден. Сначала тихонько поворовывал, а после и нахалом брать зачал. А обравши, бросил ее. Нынче усадьбу у Коробейникова, у Петра Ивановича, па Вопле на реке, купил, живет себе помещиком да лесами торгует.
– Хрисаша! помню! помню! какой прежде скромный был!
– Был скромный, а теперь выше лесу стоячего ходит. Медаль, сказывает, во сне видел. Всю здешнюю сторону под свою державу подвел, ни один помещик дыхнуть без его воли не может. У нас, у Николы на Вопле, амвон себе в церкви устроил, где прежде дворяне-то стаивали, алым сукном обил – стои́т да охорашивается!
– Вот как!
– Уж такая-то выжига сделался – наскрозь на четыре аршина в землю видит! Хватает, словно у него не две, а четыре руки. Лесами торгует – раз, двенадцать кабаков держит – два, да при каждом кабаке у него лавочка – три. И везде обманывает. А все-таки, помяните мое слово, не бывать тому, чтоб он сам собой от сытости не лопнул! И ему тоже голову свернут!
– Проворуется, значит?
– Не то что проворуется, а нынче этих прожженных, словно воронья, развелось. Кусков-то про всех не хватает, так изо рту друг у дружки рвут. Сколько их в здешнем месте за последние года лопнуло, сколько через них, канальев, народу по миру пошло, так, кажется, кто сам не видел – не поверит!
– А у нас, брат, толкуют, что в русском человеке предприимчивости мало! А как тебя послушать, так, пожалуй, ее даже больше, чем следует!
– Уж на что вороватее. Завелось, например, нынче арендателев много: земли снимают, мельницы, скотные дворы – словом, всю помещичью угоду в свои руки забрали. Спроси ты у него, кто он таков? Придет он к тебе: в кармане у него грош, на лице звания нет, а тысячным делом орудовать берется. Одно только и держит на уме: «Возьму, разорю и убегу!» И точно, в два-три года всё до нитки спустит: скотину выпродаст, стройку сгноит, поля выпашет, даже кирпич какой есть – и тот выломает и вывезет. А под конец и сам в трубу вылетит!
– Так, значит, насчет собственности-то и у вас не особенно крепко? Ну, по крайней мере, хоть насчет чистоты нравов… надеюсь, что в этом отношении…
– Это насчет снохачей, что ли?
– Какие тут снохачи… снохачи – это, братец, исключение… Я не об исключениях тебе говорю, а вообще…
– А вообще – так у нас французская болезнь * есть. Нынче ее во всякой деревне довольно завелось.
– Как же это так, однако ж! Ни к собственности уважения, ни к нравственности! Согласись, что этак, наконец, жить нельзя!
– Да кабы не палка – и то давно бы оно врозь пошло.
– Позволь! ты говоришь: «Кабы не палка!» Но ведь нельзя же век свой с палкой жить! Представь себе, что палки нет… ведь можно себе это представить?
– Никак этого представить нельзя!
– Ну, да представь, однако! Все только палка да палка – это даже безнравственно! Должноже когда-нибудь это кончиться! Что ж будет, если палку, наконец, сократят?
– А то и будет, что все врозь пойдет!
– Послушай! Да какой же еще больше розни, чем та, которая, по твоим же словам, теперь идет! Ни собственности, ни нравственности… французская болезнь… чего хуже!
– Это так точно!
– Так что же палка-то твоя делает? отчего ж она никого не исправляет?
– Ну, всё же поберегаются!
– Поберегаются… Хрисашка, например! И ведь поди, чай, этот самый Хрисашка, если не только что украсть у него, а даже если при нем насчет собственности что-нибудь неладно сказать, – поди, чай, как завопит!
– Само собой, завопит!
– А он, как ты сам говоришь, чуть не походя ворует. Вот и теперь, пожалуй, Гололобову в карман руку запускает!
– Запущает – это верно. Трещит Григорий Александрыч да еще его же, подлеца, беспременно водкой поит!
– А коли ты знаешь, что он подлец, зачем же ты подлецу кланяешься? зачем картуз перед ним снимаешь?
Софрон Матвеич при этом вопросе на минуту словно опешил, но тотчас же, впрочем, опять оправился.
– Позвольте-с! Как же я ему не поклонюсь, – ответил он мне уже совершенно резонно, – коли он у нас теперь в округе первый человек?
– Нет, ты не виляй! ты ответь, что́ все это значит?
– А то и значит, что «не пойман – не вор»!
Итак, изречение: «не пойман – не вор», как замена гражданского кодекса, и французская болезнь, как замена кодекса нравственного… ужели это и есть та таинственная подоплека, то искомое «новое слово», по поводу которых в свое время было писано и читано столько умильных речей * ? Где же основы и краеугольные камни? Ужели они сосланы на огород и стоят там в виде пугал… для «дураков»?
Григорий Александрыч обездоливает крестьян; Хрисашка обездоливает Григория Александрыча; пропоец, из-за рюмки водки, обездоливает целую деревню; мещанин-мясник, из-за грошового барыша, обездоливает целую Палестину… Никому ничего не жаль, никто не заглядывает вперед, всякий ищет, как бы сорвать сейчас, сию минуту, и потом… потом и самому, пожалуй, вылететь в трубу.
Если б мне сказал это человек легкомысленный – я не поверил бы. Но Софрон Матвеич не только человек, вполне знакомый со всеми особенностями здешних обычаев и нравов, но и сам в некотором роде столп. Он консерватор, потому что у него есть кубышка, и в то же время либерал, потому что ни под каким видом не хочет допустить, чтоб эту кубышку могли у него отнять. Каких еще столпов надо!
Но все-таки должно сознаться, что и в рассказах Софрона Матвеича есть слабая сторона. Если довериться ему безусловно со всеми выводами, какие он делает, то непонятно было бы, каким образом люди живут. А между тем люди не только живут, но и преуспевают. Ясно, что Софрон Матвеич слишком исключительно моралист, и в то же время не менее ясно и то, что мораль его имеет довольно узкую исходную точку. Он сам аккуратен и требует такой же аккуратности от других – разве такая низменная мораль может быть навязана миру, как общеобязательный жизненный принцип?
То, в чем он видит развращение нравов, есть собственно бестолочь, происшедшая вследствие смешения понятий, уже известных, отвержденных, с понятиями искомыми, еще не имеющими на рынке определенного курса. Человек чувствует себя спутанным и, вместо того чтоб искать этих пут около себя, шарит руками в пространстве. Человек ищет, где лучше, но, не имея даже приблизительных сведений насчет того, где раки зимуют, естественным образом вынуждается беспрестанно перебегать из области дозволенного в область запретного и наоборот. Если его ограбят, он старается изловить грабителя, и буде изловит, то говорит: «Стой! законами грабить не позволяется!» Если он сам ограбит, то старается схоронить концы в воду, и если ему это удастся, то говорит: «Какие такие ты законы для дураков нашел! для дураков один закон: учить надо!» * И все кругом смеются: в первом случае смеются тому, что дурака поймали, во втором – тому, что дурака выучили. Что может тут сделать мораль, когда ее отправные пункты давным-давно всеми внутренно осмеяны и оставлены, в виде реторической шумихи, в назидание… дуракам! Но даже и для дураков они страшны лишь потолику, поколику за ними стоит острог…
Должно быть, иначе уж нельзя жить, коли люди так живут и впредь так жить надеются. Ворчит Софрон Матвеич (хоть он же вместе с тем сознается, что «не пойман – не вор»), а Хрисашки свое дело делают. Видно, они уж раскинули умом, что не так черен черт, как его малюют. А в деле воровства – это главное. Поначалу, воровать действительно страшно: все кажется, что чужой рубль жжется; а потом, как увидит человек, что чужой рубль имеет лишь то свойство, что легче всего другого обращается в свой собственный рубль, станет и походя поворовывать. Точно так же и насчет чистоты нравов; только сначала есть опасение, как бы бока не намяли, а потом, как убедится человек, что и против этого есть меры и что за сим, кроме сладости, ничего тут нет, – станет и почаще в чужое гнездо заглядывать. «Заведи свою жену! заведи свой рубль!» – говорит негодующий Софрон Матвеич; а Хрисашка ему в ответ: «А зачем мне заводить, коли ты для меня и жену, и рубль припас!»
Некоторые видят в подобных фактах войну и протест. Это, дескать, война незваных против званых, это глухой протест обделенных против общественной несправедливости. А по-моему, так тут и войны никакой нет. Если б в область запретного врывались одни обделенные, тогда еще можно было бы, хоть с натяжкою, сказать: «Да, это протест!» Но ведь сплошь н рядом званые-то еще ходчее в эту область заглядывают. Стало быть, не только незваным, но и званым туго пришлось. Да и как, наконец, определить, кто обделен, кто не обделен? Конечно, сытому воровать стыднее, нежели голодному, и Софрон Матвеич, я знаю, первый упрекнет сытого: «Не стыдно ли тебе, скажет: добро бы у тебя своего куска не было!» А Хрисашка ему в ответ: «А ты мой аппетит знаешь? мерил ты мой аппетит?»
Я не говорю, что Хрисашка представляет собой образец добродетели; я знаю, что он кругом виноват, а напротив того, критик его, Софрон Матвеич (впрочем, снимающий перед Хрисашкой картуз), кругом прав. Но я знаю также, что Софрон Матвеич влачит свое серенькое существование с грехом пополам, между тем как Хрисашка блестит паче камня самоцветного и, конечно, не всуе видит во сне медаль. Софрон Матвеич придет в церковь, станет скромненько в уголок, и поп не назовет его ни истинным сыном церкви, ни ангельского жития ревнителем и не вынесет просвиры. А Хрисашка взойдет в церковь, так словно светлее в ней сделается; взойдет и полезет прямо на свой собственный, крытый алым сукном амвон. И поп скажет ему притчу, начнет с «яко солнцу просиявающу» и кончит: «тако да воссияешь ты добродетелями вовек», а в заключение сам вручит ему просвиру. По выходе же из церкви Софрону Матвеичу поклонится разве редкий аматёр * добродетелей (да и то, может быть, в том расчете, что у него все-таки кубышка водится), а Хрисашке всепоклонятся, да не просто поклонятся, а со страхом и трепетом; ибо в руках у Хрисашки хлеб всех, всей этой чающей и не могущей наесться досыта братии, а в руках у Софрона Матвеича – только собственная его кубышка.
«Я в трубу не вылечу, а Хрисашка – вот помяните мое слово! – не долго нагуляет!» – говорил мне Софрон Матвеич. Прекрасно; но для Хрисашки это все-таки довод не убедительный. Разве ты когда-нибудь жил, Софрон Матвеич? Разве ты испытал, какое значение имеют слова: «пожить в свое удовольствие»? Нет, ты не жил, а только уберегался от жизни да поученья себе читал. Захочется тебе иной раз во все лопатки ударить (я знаю, и у тебя эти порывы-то бывали!) – ан ты: «Нет, погоди – вот ужо!» Ужо да ужо – так ты и прокис, и кончил на том, что ухватился обеими руками за кубышку да брюзжишь на Хрисашку, а сам ему же кланяешься! А у Хрисашки кубышки и в заводе нет, ему не над чем дрожать, потому что у него деньга вольная. Всякая деньга – его деньга: и та, которая у тебя в кармане тщетно хоронится от его прозорливости, и та, которая скрывается в груди, в мышцах, в спине вот у этого прохожего, который с пилой да с заступом на плече пробирается путем-дорогой на промысел. Или опять насчет чистоты нравов – разве ты настоящей сладости-то вкусил? Приглянется тебе, бывало (еще при крепостном праве это было), Дунька, Старостина жена, а ты: «Нет, погоди! неравно староста обидится!» Погоди да погоди, и дожил до того, что теперь нечего тебе другого и сказать, кроме: «Хорошо дома; приеду к Маремьяне Маревне, постелемся на печи да и захрапим во всю ивановскую!» А у Хрисашки и тут все вольное: и своя жена вольная, и чужая жена вольная – как подойдет! Безнравствен Хрисашка, прелюбодей он и вор – что говорить! И в трубу вылетит, и в острог попадет – это верно. Но и в остроге ему будет чем свою жизнь помянуть да порассказать «прочиим каторжныим», как поп его истинным сыном церкви величал да просвирами жаловал, а ты и на теплой печи, с Маремьяной Маревной лежа, ничего, кроме распостылого острога, не обретешь!
Ты говоришь: «Поп завидущ; захочу, десять рублей пошлю – он и не такую притчу мне взбодрит!» Знаю я это. Но вспомни, что ведь ты добродетельный, а Хрисашка вор и прелюбодей. Если об тебе и за десять копеек поп скажет, что ты ангельского жития ревнитель – он немного солжет, а каково об Хрисашке-то это слышать! Хрисашка, сияющий добродетелями! Хрисашка, аки благопотребный дождь, упояющий ниву, жаждущу, како освежитися! Слыхана ли такая вещь! А разве ты не слыхал?
Да взгляни же ты наконец на Хрисашку, как он невозмутим, спокоен, самодоволен! С каким неизреченным состраданием взирает он с своего амвона на тебя, героя собственной кубышки, поборника невоспрещенного законом храпенья на собственной печке возле собственной Маремьяны Маревны! Именно с состраданием, даже не с иронией. Не тебя жалеет он, а твою кубышку, держа которую ты так сладко похрапываешь на собственной печи, в свободные от копления часы! «Эх, думается ему, кабы эту самую кубышку да в настоящие руки… задали бы ей копоти!» Всмотрись же в Хрисашку пристальнее и крепче прижми к груди кубышку, потому что с таким озорником всяко случиться может: вздумается – и отнимет!
Да, Хрисашка еще слишком добр, что он только поглядывает на твою кубышку, а не отнимает ее. Если б он захотел, он взял бы у тебя всё: и кубышку, и Маремьяну Маревну на придачу. Хрисашка! воспрянь – чего ты робеешь! Воспрянь – и плюнь в самую лохань этому идеологу кубышки! Воспрянь – и бери у него все: и жену его, и вола его, и осла его * – и пусть хоть однажды в жизни он будет приведен в необходимость представить себе, что у него своегоили ничего, или очень мало!
Итак, всякий хочет жить – вот общий закон. Если при этом встречаются на пути краеугольные камни, то стараются умненько их обойти. Но с места их все-таки не сворачивают, потому что подобного рода камень может еще и службу сослужить. А именно: он может загородить дорогу другим и тем значительно сократить размеры жизненной конкуренции. Стало быть: умелый пусть пользуется, неумелый – пусть колотится лбом о краеугольные камни. Вот и всё.
Между тем как я предавался этим размышлениям, лошади как-то сами собой остановились. Выглянувши из тарантаса, я увидел, что мы стоим у так называемого постоялого двора, на дверях которого красуется надпись: «распивочно и навынос». Ямщик разнуздывает лошадей, которые трясут головами и громыхают бубенчиками.
– Лошадей хочу попоить! – обращается к нам ямщик.
– Чего «лошадей попоить»! вижу я, куда у тебя глаза-то скосило! – ворчит Софрон Матвеич.
– Что ж, на свои деньги и сам выпить могу!
– То-то «сам»… до места-то, видно, нельзя подождать! на пароход опоздаем!
– На пароход еще за сутки приедем. Ты, чай, и выпил, и закусил дома с «барином», а я на пустых-то щах только зубы себе нахлопал!
Дверь кабака визжит, и ямщик скрывается за нею.
– А много пьют? – спрашиваю я.
– Так довольно, так довольно, что если, кажется, еще немного, совсем наша сторона как дикая сделается. Многие даже заговариваться стали.
– То есть как же это – заговариваться?
– Совсем не те слова говорит, какие хочет. Хочет сказать, к примеру, сено, а говорит – телега. Иного и совсем не поймешь. Не знает даже, что́ у него под ногами: земля ли, крыша ли, река ли. Да вон, смотрите, через поле молодец бежит… ишь поспешает! Это сюда, в кабак.
И действительно, через несколько секунд с нашим тарантасом поравнялся рослый мужик, имевший крайне озабоченный вид. Лицо у него было бледное, глаза мутные, волоса взъерошенные, губы сочились и что-то без умолку лепетали. В каждой руке у него было по подкове, которыми он звякал одна об другую.
– Давно не пивал, почтенный? – обратился к нему Софрон Матвеич.
– Завтра пивал!.. Реговоно табе… талды… Веней пина? Зарррок! – бормотал мужик, остановившись и словно испуганный человеческою речью.
– Вот и разговаривай с ним, как этакой-то к тебе в работники наймется! А что, почтенный, тебе бы и в кабак-то ходить не для че! Ты только встряхнись – без вина пьян будешь!
Мужик стоял, блуждая глазами по сторонам и как бы нечто соображая.
– Подковы-то украл, поди! чужие небось!
– Ч-ч-чии! веней пина… реговоно… талды!
– Ну, ну! ступай своей дорогой!
– Веней! – крикнул мужик не своим голосом, делая всем корпусом движение в нашу сторону.
– Ступай, ступай! нехорошо! видишь – барин!
Мужик плюет («какие грубияны!» вертится у меня в голове) и обращается к кабаку. Опять визжит дверь, принимая и свои объятия нового потребителя.
– Хороши наши палестины? – подсмеивается Софрон Матвеич.
– Чудак ты, однако ж! Говоришь так, как будто уж все заговариваются!
– Все не все, а что многие в вине занятие находят – это верно. Да вот увидите. Версты с четыре проедем, тут в деревне через Воплю перевоз будет, а при перевозе, как и следует, кабак. Паромишко ледащий, телега с нуждой уставится, не то что экипаж, вот они и пользуются. Как есть, у кабака вся деревня ждет. Чуть покажемся – все высыплют. На руках тарантас на паром спустят, весь переезд задние колеса на весу держать будут – всё за двугривенный. Получат двугривенный – сейчас в кабак. И идет у них с утра до вечера веселье, даже вчуже завидно!
– Однако, славно ты земляков-то своих рекомендуешь!
– Распостылые они мне – вот что! всякая пакость – все через них идет! Попы нос задирают, чиновники тиранят, Хрисашки грабят – всё не через кого, а через них! Ощирина Павла Потапыча знавали?
– Это владыкинского? молодого?
– Какой он молодой – сорок лет с лишком будет! Приехал он сюда, жил смирно, к помещикам не ездил, хозяйством не занимался, землю своим же бывшим крестьянам почесть за ничто сдавал – а выжили!
– Как так?
– Да так и выжили: зачем в церковь редко ходит! Поп, вишь, к нему повадился гостить; сегодня пришел, завтра пришел – ну, Павлу Потапычу это и не понравилось. Сгрубил, что ли, он попу, только поп обиделся, да,’ не будь прост, и науськал на него мужиков. И в бога, говорит, не верит, и в церковь не ходит – фармазон * . Пошла, это, слава, проведали помещики, а спустя время и исправник приехал. Какой такой вы пример мужикам подаете?.. Ну, посмотрел-посмотрел Павел Потапыч, плюнул и уехал. Да нынче по весне приказ с Москвы прислал: обрыть всю землю канавой, а крестьян – чтобы ни ногой! А они его землей только и жили!
– Ну, это-то уж лишнее! крестьяне ведь по невежеству!
– Знамо, что не по вежеству! А поколь у них невежество будет, стало быть, подражать им надо? Ну, хорошо, будем так говорить: «Надо их учить, надо школы для них заводить». А поколь как? А поколь он тебя стоялому жеребцу за косушку продаст, да когда тебя к чертовой матери, неведомо за что, ссылать будут, он над тобой же глумиться станет! Нет, нынче постоянные-то люди сторониться начали! Больше всё из столиц пишут: «Школы, мол, устроивать надо!» * а сами что-то и носу не показывают! Только тот и остался здесь, который с мужика последнюю рубашку снять рассчитывает, или тот, кому – вот как Григорыо Александрычу – свет клином сошелся, некуда, кроме здешнего места, бежать!
Совершивши выпивку, ямщик сделался заметно развязнее. Посвистывал, помахивал кнутом, передергивал коренную, крутил пристяжную в кольцо и беспрестанно оборачивался на нас. Да и дорога пошла повеселее, все озимями и яровою пашней; пространства, усеянные пеньками, встречались реже, горизонт сделался шире и чище; по сторонам виднелись церкви, помещичьи усадьбы, деревни. Поравнявшись с одной усадьбой, ямщик взмахнул кнутом, гикнул, во весь опор промчался мимо ворот господского дома и каким-то неестественным голосом крикнул:
– Ах, сахарница ты наша… любе-е-зная!
– Кого это он так величает? – спросил я Софрона Матвеича.
– Вдова тут, Меропа Петровна Кучерявина, живет: видно, ее ублажает. А что, Иван, сладка?
– Уж так сладка! так сладка! Мероша! Мерончик!
– Да ты-то из чего себе кишки надрываешь? чай, по усам текло, а в рот не попало?
Ямщик весело взглянул Софрону Матвеичу в лицо.
– Знаешь, что́ я тебе, Софрон Матвеич, скажу? – молвил он.
– Сказывай, только не ври.
– Зачем врать! Намеднись везу я ее в этом самом тарантасе… Только везу я, и пришла мне в голову блажь. Дай, думаю, попробую. «А знаешь ли, говорю, Меропа Петровна, что́ я вам скажу?» – «Сказывай», говорит. – «Скажу я тебе, говорю, что хоша я и мужик, а в ином разе против двух генералов выстою!»
– Так-таки и сказал?
– Вот те Христос! Сказал, знаешь, а сам боюсь. Однако ничего, молчит. Только проехали и еще версты с две, я опять: «Право, говорю, выстою!» – а сам полегоньку с козел в тарантас… словно как ненароком. И вдруг, братец ты мой, как свиснет она меня по рылу кулаком… инда звезды в глаза вступили!
– Строга, значит?
– Не то что строга, а не по порядку, стало быть, дело повел…
– Кто такая эта Кучерявина? – обращаюсь я к Софрону Матвеичу.
– А был тут помещик… вроде как полоумненький. Женился он на ней, ну, и выманила она у него векселей, да из дому и выгнала. Умер ли, жив ли он теперь – неизвестно, только она вдовой числится. И кто только в этой усадьбе не отдыхал – и стар и млад! Теперь на попа сказывают…
– Да ты постой, дай досказать-то! – снова вступился ямщик. – Обидно мне стало, и боже мой, как обидно! Еду я и смотреть на нее не хочу. Постой, думаю, я те уважу! я те в канаву вывалю! «А знаешь ли, говорю, Меропа Петровна, что я тебя могу в канаву сейчас вывалить!» – «Не смеешь», – говорит. «Смелости, говорю, теперь во мне очень довольно, а ты мне вот что скажи: чем я хуже попа?» – «Ну, ну, ври больше!» – говорит. «Нет, не ври, а верное дело, что я ничем твоего попа не хуже… даже звание у нас с ним одно! И я из простых, и он из простых, и я сапоги дегтем смазываю, и он сапоги дегтем смазывает…» И начал я, значит, ее урезонивать. Еду и всё резоны говорю: «Сякая ты, мол, такая, за что человека обидела!» И не заметил, как к городу, к самой околице подъехали…
– А в городу-то кутузка, слышь, есть…
– Стой… да ты не загадывай вперед… экой ты, братец, непостоянной! Едем мы, это, городом, а я тоже парень бывалый, про кутузку-то слыхивал. Подъехали к постоялому, я ее, значит, за ручку, высаживаю, жду… И вдруг, братец ты мой, какую перемену слышу! «А что, говорит, Иван, я здесь только ночь переночую, а завтра опять к себе в усадьбу – доставил бы ты меня!»
– Вот так важно!
– И что́ после того у нас с ней было! что́ только было! Только сказывать не велела!
– То-то ты и помалчиваешь!
– Тебе-то! Тебе я все одно что отцу духовному! Только ты уж помалчивай, Христа ради!
В это время дорога сделала крутой загиб, и кучерявинская усадьба снова очутилась у нас в глазах, как на ладони.
– Сахарница! – завыл опять ямщик.
– Сахарница-то сахарница, а уж выжига какая – не приведи бог! – обратился ко мне Софрон Матвеич. – Ты только погости у ней – не выскочишь! Все одно что в Москве на Дербеновке: * там у тебя бумажник оберут, а она тебя напоит да вексель подсунет!
– И сходит с рук?
– Ничего. Взыщет деньги – и полно. Хоть – и опять приезжай гостить, и опять допоит до того, что вексель подпишешь! И везде ей почет, все к ней ездят, многие даже руки целуют. Теперь, слышь, генерала Голозадова обсахаривает.
– Это кто? фамилия, что ли, такая? *
– Древняя, сказывает. Еще дедушки его кантонистами были. Вон и усадьба его, вон на горе! Недавно у нас поселился, а уж мужичок один от него повесился.
– Как так?
– Да пустосвят он и кляузник, Голозадов-то. На всех прошения пишет, и хоть нигде ему, ни в каких местах, резону нынче не дают, а он все пишет. Ну, и изымал он, этта, мужичка в потраве, и пошла у него мельница в ход. К мировому – отказ, на съезде – отказ. В Сенат, в Петербург – там прицепу выдумали, велели сызнова судить. Опять к мировому, к другому, за сорок уж верст – отказ; на съезд – отказ; в Сенат – прицепу выдумали, в третий раз судить велели. Намеднись еду: на четырех подводах народ встречу едет. «Чьи такие?» – «Генерала Голозадова, говорят, свидетелей из города везем». – «Решили ли дело-то?» – «Чего, говорят, решать: Андрей-то Герасимов удавился!»
– Однако, брат, это штука!
– Да уж где только эта кляуза заведется – пиши пропало. У нас до Голозадова насчет этого тихо было, а поселился он – того и смотри, не под суд, так в свидетели попадешь! У всякого, сударь, свое дело есть, у него у одного нет; вот он и рассчитывает: «Я, мол, на гулянках-то так его доеду, что он последнее отдаст, отвяжись только!»
– Ну, этого, по крайней мере, не уважают, ты говоришь?
– Покамест еще не уважают; а вот как один повесится, да другой повесится – не мудрено, что и уважать будут!
– А там вон, влево, чья усадьба?
– Талалыкина господина. Он у нас в те поры, как наши в Крыму воевали, предводителем был да сапоги для ополчения ставил. Сам поставщик, сам и приемщик. Ну, и недоглядел, значит, что подошвы-то у сапогов картонные!
– Тсс… видно, у вас и насчет отечества-то… не шибко-таки любят!
– Как не любить! любят, коли другого не предвидится… Только вот ежели сапоги или полушубки ставить… это уж шабаш! Самый здесь, сударь, народ насчет этого легкий!
В воздухе чуется близость большой реки. Ветер свежеет, дорога идет поймою; местами, сквозь купы кустов, показывается сверкающий изгиб Волги. Вдали, на крутом берегу реки, то вынырнет из-за холма, то опять нырнет в яму торговое село К. * , с каменными домами вдоль набережной и обширным пятиглавым собором над самою пароходною пристанью. Исколесивши вавилонами верст пять по поемному берегу, мы останавливаемся наконец у перевоза, прямо против села. Паром на другой стороне, то есть, по обыкновению, там, где его не нужно, а между тем, по случаю завтрашнего базара, на луговом берегу уже набралась целая вереница возов, ожидающих переправы. Значительное число расшив и судов покрывает реку; одни бросили якорь, другие медленно двигаются вверх по реке с помощью бечевы. На противоположной стороне, на пристани, идет суета; нагружаются и разгружаются воза с кладью; взбираются по деревянной лестнице в гору крючники с пятипудовыми тяжестями за плечьми. Воздух, в буквальном смысле этого слова, насыщен сквернословием.
– Мать-мать-мать-ма-ать! – словно горох перекатывается от одного берега до другого.
– Дедюлинские – что рот-то разинули! Мать-мать-мать-ма-а-ать!
– Вороти носовую! мать-мать-ма-ать!
Поощряемый этими возгласами, наш ямщик, в свою очередь, во всю силу легких горланит:
– Перевозчики! заснули! мать-мать-ма-ать!
– Лодку не вскричать ли? – обращается ко мне Софрон Матвеич.
– Да, на лодке скорее бы переехали.
И вот мой целомудренный спутник, поборник копилки и чистоты нравов, нимало не смущаясь, вопиет:
– Лодку подавай! Мать-мать-мать-ма-а-ть!
И вдруг вся собравшаяся на берегу ватага обозчиков, словно остервенившись, возглашает:
– Паром давай! перевоз! Мать-мать-мать-ма-а-ать!
– Сейчас! черти! что ругаетесь! Мать-мать-ма-а-ть! – слабо доносится с другого берега.
– Однако, братец, насчет сквернословия-то у вас здесь свободно! – обращаюсь я к одному из обозчиков.
– От самого Селижарова * и вплоть до Астрахани у нас эта речь идет!
– И понимаете друг друга?
– В лучшем виде!
Наконец мы убеждаемся, что паром отчаливает от другого берега. Наступает внезапное затишье, прерываемое лишь посвистыванием бурлаков на лошадей, тянущих бечеву. Страшно смотреть. Изморенные, сплеченные животные то карабкаются на крутизну, то спускаются вниз в рытвины, скользят, падают на передние ноги и вновь вскакивают под градом ударов кнута.
– Вот ты давеча уверял, – говорю я Софрону Матвеичу, – что народ от работы отбился! А это, по-твоему, не работа?
– Эти не дошли! – отвечает он с самоуверенностью истинного моралиста, – да, надо полагать, и не дойдут никогда!
– Бог труды любит! – сентенциозно вмешивается один из хозяев-обозчиков, мелочной торговец, – это им, значит, от бога назначено, чтобы завсегда в труде время проводить!
– Кому же это «им»?
– Простонародью, черняди-с, – отвечает обозчик, не моргнув глазом.
– И прочиим всем трудиться назначено, – поправляет другой обозчик, – да у иного достатки есть, так он удовольствие доставить себе может, а у них достатков нет! Поэтому они преимущественно…
Но вот приволокли и паром, а лодки не подали. Пришлось переправляться вместе с возами. Покуда паром черепашьим ходом переплывает на другую сторону, между переправляющимися идет оживленный разговор:
– Сапог в заминке (эта местность славится производством громадного количества сапогов)! совсем сапог остановился! – говорит один.
– Сердитые времена настали! – отзывается другой. – Сочти, сколько теперь народу без хлеба осталось!
– Что, видно, в чувство пришли! – иронически замечает Софрон Матвеич.
– Будешь чувствовать, почтенный, как есть нечего.
– Зачем же прежде не чувствовали?
– Чувствовали и прежде, да ничего такого не было… Линия, значит, тогда была одна, а теперь – другая!
– Да что́ же такое случилось, что здешний сапог остановился? – любопытствую я.
– Аршавский сапог в ход пошел – вот что!
– Как будто это причина? Почему же варшавский сапог перебил дорогу вашему * , а не ваш варшавскому?
– Пошел аршавский сапог в ход – вот и вся причина!
– Ловки уж очень они стали! – объясняет Софрон Матвеич, – прежде хоть кардону не жалели, а нынче и кардону жаль стало: думали, вовсе без подошвы сойдет! Ан и не угадали!
– Много ты смыслишь! – вмешивается из толпы недовольный голос.
– Ты и больше моего смыслишь, да не все сказываешь!
– Нечего сказывать-то! Известно, от начальства поддержки не видим – вот и бедствуем!
По-твоему, значит, всех надо заставить в ваших сапогах ходить?
– Зачем заставлять! Тебе, к примеру, и в лаптях ходить – в самую препорцию будет! А надо аршавский сапог запретить – вот что́!
– Какие же такие права ты для этой выдумки отыскал?
– А такие права, что мы сапожники старинные, извечные. И отцы, и деды наши исстари землю покинули, и никакого у них, кроме сапога, занятия не было. Стало быть, с голоду нам теперича, по-твоему, помирать?
– А вы бы не фальшивили. По чести бы делали.
– И все-таки скажу тебе: говоришь ты, ровно балалайка бренчишь, а ничего в нашем деле не смыслишь. У нас колесо-то с каких пор заведено? Ты знаешь ли?
– Здешний житель – как не знать! Да не слишним ли шибко завертелось оно у вас, колесо-то это? Вам только бы сбыть товар, а про то, что другому, за свои деньги, тоже в сапогах ходить хочется, вы и забыли совсем! Сказал бы я тебе одно слово, да боюсь, не обидно ли оно для тебя будет!








