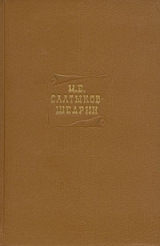
Текст книги "Том 11. Благонамеренные речи"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 50 страниц)
– А капитал, милый друг мой, маменька? – мысленно спрашивает Сенечка.
– А капитал, друг мой, Сенечка! я тебе при жизни из рук в руки передам… Только успокой ты мою старость! Дай ты мне, при моих немощах, угодникам послужить! Лета мои пришли преклонные, и здоровье уж не то, что прежде бывало…
Пасмурная и огорченная явилась Марья Петровна ко всенощной. В образной никого из домашних не было; отец Павлин, уже совершенно облаченный, уныло расхаживал взад и вперед по комнате, по временам останавливаясь перед иконостасом и почесывая в бороде; пономарь раздувал кадило и, по-видимому, был совершенно доволен собой, когда от горящих в нем угольев внезапно вспыхивало пламя; дьячок шуршал замасленными листами требника и что-то бормотал про себя. Из залы долетал хохот Феденьки и Пашеньки.
– С дорогими гостями, – приветствовал отец Павлин, – начинать прикажете?
– Начинай, батюшка, начинай! Да что ж это Сенечки нет? Девки! позовите Семена Иваныча!
По обыкновению, и в этом случае Сенечка служил, так сказать, очистительною жертвою за братьев. За всенощной он должен был молиться. Но на этот раз ему как-то не молилось; машинально водил он рукою по груди и задумчиво вглядывался в облака дыма, изобильно выходившие из батюшкинова кадила. Тщетно заливался дьячок, выводя руладу за руладой, тщетно вторил ему пономарь, заканчивая каждый кант каким-то тонким дребезжаньем, очень похожим на дребезжанье, которым заканчивает свой свист чижик; тщетно сам отец Павлин вразумительно и ясно произносил возгласы: Сенечка не внимал ничему и весь был погружен в мечтания, мечтания глупые, но тем не менее отнюдь не имевшие молитвенного характера. Марья Петровна, любившая, чтоб Сенечка за нее молился, тотчас же заметила это.
– Помилуй, мой друг, – сказала она ему, – что ты это рукою-то словно на балалайке играешь! Или за мать-то помолиться уж лень?
Вообще весь вечер прошел как-то неудачно для Сенечки, потому что Марья Петровна, раздраженная послеобеденным разговором, то и дело придиралась к нему. Неизвестно, с чего вздумал вдруг Сенечка вступить за чаем в диспут с батюшкой и стал доказывать ему преимущество католической веры перед православною (совсем он ничего подобного и не думал, да вот пришла же вдруг такая несчастная мысль в голову!), и доказывал именно тем, что в католической вере просфоры пекутся пресные, а не кислые. Батюшка, с своей стороны, разревновался и стал обличать Сенечку в ереси.
– Позвольте, – говорил он, – ведь таким манером и лютерцев оправдывать можно!
– Я не об лютеранах говорю…
– Нет, позвольте! я спрашиваю вас: оправдываете ли вы лютерцев?
– Да ведь мы…
– Нет, прошу ответ дать: заслуживают ли лютерцы, по вашему мнению, быть оправданными? – повторял батюшка и, повторяя, хохотал каким-то закатистым, веселым хохотом и выказывал при этом ряд белых, здоровых зубов.
– И охота тебе, батька, с ним спорить! – вмешалась Марья Петровна, – разве не видишь, что он с ума сбрендил! Смотри ты у меня, Семен Иваныч! ты, пожалуй, и дворню-то мне всю развратишь!
Тем этот достославный спор и кончился; Сенечка думал удивить маменьку разнообразием познаний и полетом фантазии, но, вместо того, осрамился прежде, нежели успел что-нибудь высказать. После того он несколько раз порывался ввернуть еще что-нибудь насчет эмансипации (блаженное время! ее тогда не было!), но Марья Петровна раз навсегда так дико взглянула на него, что он едва-едва не проглотил язык.
Оставалась одна надежда на подарок, который Сенечка приготовил маменьке для дня ангела, но и та обманула его. Проснулся он очень рано, да и вообще дурно спал ночью. Во-первых, его осаждала прискорбная мысль, что все усилия, какие он ни делал, чтоб заслужить маменькино расположение, остались тщетными; во-вторых, Петенька всю ночь метался на постели и испускал какое-то совсем неслыханное мычание; наконец, кровать его была до такой степени наполнена блохами, что он чувствовал себя как бы окутанным крапивою и несколько раз не только вскакивал, но даже произносил какие-то непонятные слова, как будто бы приведен был сильными мерами в восторженное состояние.
Узнавши, что маменька только что встала, что к обедне еще не начинали благовестить и что братцы еще почивают, Сенечка осторожно вынул из чемодана щегольской белый муар-антиковый зонтик и отправился к маменьке. Но каково же было его удивление, когда он застал ее за письменным столом в созерцании целых трех зонтиков! Он сейчас же догадался, что это были подарки Митеньки, Феденьки и Пашеньки, которые накануне еще распорядились о вручении их имениннице, как только «душенька-маменька» откроет глаза. Сенечка до того смутился, что даже вытаращил глаза и уронил зонтик.
– Здравствуй, друг мой!.. да что ж ты на меня, вытараща глаза, смотришь! или на мне грибы со вчерашнего дня выросли! – приветствовала его Марья Петровна.
– Я, маменька… позвольте мне, милый друг мой, маменька, поздравить вас с днем ангела и пожелать провести оный среди любящего вас семейства в совершенном спокойствии, которого вы вполне достойны…
– Благодарствуй, благодарствуй! да что это ты словно уронил что-то?
– Это, милая маменька, я желал принести вам слабую дань моей благодарности за те ласки и попечения, которыми вы меня, добрый друг, маменька, постоянно осыпаете!
– Да что вы, взбесились, что ли? все по зонтику привезли! – напустилась на него Марья Петровна при виде новой прибавки к коллекции зонтиков, уже лежавшей на столе, – смеяться, что ли, ты надо мной вздумал?
– Я, милая маменька, всею душою…
– Сговориться вы, что ли, между собой не можете, или и в самом деле вы друг другу не братья, а звери, что никакой между вами откровенности нет?
– Я, милая маменька…
– Это все ты, тихоня, мутишь! Вижу я тебя, насквозь тебя вижу! ты думаешь, на глупенькую напал? ты думаешь, что вот так сейчас и проведешь! так нет, ошибаешься, друг любезный, я все твои прожекты и вдоль и поперек знаю… все вижу, все вижу, любезный друг!
– Я, маменька, никаких прожектов не имею…
– Ты… ты… ты всей смуте заводчик! Если б не доброта моя, давно бы тебя в суздаль-монастырь упечь надо! не посмотрела бы, что ты генерал, а так бы вышколила, что позабыл бы, да и другим бы заказал в семействе смутьянничать! На-тко, прошу покорно, в одном городе живут, вместе почти всю дорогу ехали и не могли друг дружке открыться, какой кто матери презент везет!
– Маменька! чем же я виноват, что Феденька не хочет мне почтения делать?
– Да что ты, обалдел, что ли? Какое тебе почтение! Ведь ты ему, чай, брат!
– Я, маменька, старший брат, и Феденька обязан мне почтение оказывать!
Бог знает, чем бы разыгралась эта история, если б в эту минуту не заблаговестили к обедне. Марья Петровна так и осталась с раскрытым ртом, только махнула рукой на Сенечку. Но зато после обедни она, можно сказать, испилила его всего. Не только братьям рассказала, что Сенечка требует, чтоб ему было оказываемо почтение, но даже всех соседей просила полюбоваться четырьмя зонтиками, подаренными ей в один день, и всю вину складывала на Сенечку, который, как старший брат, обязан был уговориться с младшими, какой презент маменьке сделать. Вследствие этого Феденька целый день трунил над Сенечкой, называл его «вашим превосходительством», привставал на стуле при его появлении и даже один раз бросился со всех ног, чтоб пододвинуть ему кресло, но в рассеянности тотчас же выдернул его из-под него. Все это было очень остроумно и возбуждало всеобщий смех, к которому оставался равнодушен только Митенька. И таким образом прошел целый мучительный день, в продолжение которого Сенечка мог в сотый раз убедиться, что подаваемые за обедом дупеля и бекасы составляют навсегда недостижимый для него идеал.
А Марья Петровна была довольна и счастлива. Все-то она в жизни устроила, всех-то детей в люди вывела, всех-то на дорогу поставила. Сенечка вот уж генерал – того гляди, губернию получит! Митенька – поди-ка, какой случай имеет! Феденька сам по себе, а Пашенька за хорошим человеком замужем! Один Петенька сокрушает Марью Петровну, да ведь надо же кому-нибудь и бога молить!
С своей стороны, Сенечка рассуждает так: «Коего черта я здесь ищу! ну, коего черта! начальники меня любят, подчиненные боятся… того гляди, губернатором буду да женюсь на купчихе Бесселендеевой – ну, что мне еще надо!» Но какой-то враждебный голос так и преследует, так и нашептывает: «А ну, как она Дятлово да Нагорное-то подлецу Федьке отдаст!» – и опять начинаются мучительные мечтания, опять напрягается умственное око и представляет болезненному воображению целый ряд мнимых картин, героем которых является он, Сенечка, единственный наследник и обладатель всех материнских имений и сокровищ.
Пашенька на другой же день именин уехала, но Сенечка все еще остается, все чего-то ждет, хотя ему до смерти надо в Петербург, где ожидают его начальники и подчиненные. Он ждет, не уедут ли Митенька с Феденькой, чтоб одному на просторе остаться с маменькой и объяснить ей, как он ее обожает. Но проходит пять дней, и ожидания его напрасны. Мало того что братья не уезжают, но он видит, как мать беспрестанно с ними о чем-то шушукается, и как только он входит, переменяет разговор и начинает беседовать о погоде. «Это они об духовном завещании шепчутся! – думает Сенечка и в то же время невольно прибавляет, – да для какого же черта я здесь живу!»
Митенька первый сжалился над ним и предложил вместе ехать в Петербург. Феденька так и остался полным властелином материнского сердца.
Едет Сенечка на перекладной, едет и дремлет. Снится ему, что маменька костенеющими руками благословляет его и говорит: «Сенечка, друг мой! вижу, вижу, что я была несправедлива против тебя, но так как ты генерал, то оставляю тебе… мое материнское благословение!» Сенечка вздрагивает, кричит на ямщика: «пошел!» и мчится далее и далее, до следующей станции.
Еще переписка *
«Наконец, chère petite mère [223]223
дорогая мамочка.
[Закрыть], для меня началась упоительная жизнь полка.
Я принят прекрасно и совсем не жалею, что не попал в гвардию. Это еще не уйдет, а покамест, право, мне нечего завидовать тому, что мои товарищи по училищу сокращают свою жизнь, дегюстируя коньяки и ликеры в закусочной Одинцова. Правда, что К***, в котором расположен наш полковой штаб, городок довольно мизерный, но, по крайней мере, я имею здесь простор и приволье и узнаю на практике ту поэтическую бивачную жизнь, которая производит героев. А главное, я вижу здесь настоящих женщин, des femmes à passions [224]224
женщин со страстями.
[Закрыть], a не каких-нибудь Эрнестинок, которые за умеренную плату показывают приходящим «l’amour – ce n’est que ça!» * [225]225
Любовь – это только это!
[Закрыть]
Я целые дни в движенье. Утром – ученье; после ученья – отдых в кругу товарищей, завтрак в кабачке, игра на бильярде и проч.; обед – у полкового командира; после обеда – прогулка верхом с полковыми дамами; вечером – в гостях, всего чаще опять у полкового командира. По временам дежурство в карауле: каска, мундир на все пуговицы, кожаная подушка, жесткий диван и какой-то особенный солдатский запах… Но даже и это имеет свою прелесть, не говоря уже о том, что подобная суровая обстановка есть лучшая школа для человека, которого назначение быть героем. Домой я захожу на самое короткое время, чтоб полежать, потянуться, переодеться и поругаться с Федькой, которого, entre nous soit dit [226]226
между нами говоря.
[Закрыть], за непотребство и кражу моих папирос, я уже три раза отсылал в полицию для «наказания на теле» (сюда еще не проникла «вольность» * , и потому здешний исправник очень обязательно наказывает на теле, если знает, что его просит об этом un homme comme il faut) [227]227
порядочный человек.
[Закрыть].
Разумеется, первою моею мыслью по приезде к К. была мысль о женщине, cet être indicible et mystérieux [228]228
существе таинственном и неизъяснимом.
[Закрыть], к которому мужчина фаталистически осужден стремиться. Ты знаешь, что две вещи: l’honneur et le culte de la beauté [229]229
честь и культ красоты.
[Закрыть]– всегда были краеугольными камнями моего воспитания. Поэтому ты без труда поймешь, как должно было заботить меня это дело. Но и в этом отношении все, по-видимому, благоприятствует мне.
Почти все наши старшие офицеры женаты; стало быть, если б даже не было помещиц (а их, по слухам, достаточно, и притом большая часть принадлежит к числу таких, которым, как у нас в школе говаривали, ничто человеческое не чуждо), то можно будет ограничиться и своими дамами. Nous en avons de tous les types [230]230
Они у нас имеются всех видов.
[Закрыть], чему, конечно, не мало способствовала кочевая жизнь полка. Наш полк перебывал всюду и везде ремонтировался хорошенькими женщинами * . Роскошные малороссиянки, с белыми как кипень зубами, обаятельные брюнетки-польки, мечтательные золотокудрые немки, знойные молдаванки, enfin tout ce que les diverses nationalités peuvent offrir d’exquis et de recherché en fait de femmes [231]231
словом, все самое отборное и изысканное по части женщин, что могут представить разные национальности.
[Закрыть]. У одного дивизионера жена даже персиянка (говорят, с пунцовыми волосами), но, к сожалению, он ее никому не показывает, а по слухам, даже бьет нагайкой… le cher homme! [232]232
прелесть какая!
[Закрыть]Конечно, в манерах наших женщин (не всех, однако ж; даже и в этом смысле есть замечательные исключения) нельзя искать той женственной прелести, ce fini, ce vaporeux [233]233
той утонченности, той воздушности.
[Закрыть], которые так поразительно действуют в женщинах высшего общества (tu en sais quelque chose, pauvre petite mère, toi, qui, à trente six ans, as failli tourner la tête au philosophe de Chizzlhurst [234]234
ты, в тридцать шесть лет чуть не вскружившая голову чизльгёрстскому философу * , ты в этом знаешь толк, милая мамочка.
[Закрыть]), но зато у них есть непринужденность жеста и очень большая свобода слова, что, согласись, имеет тоже очень большую цену. Эта свобода, в соединении с адским равнодушием мужей (представь себе, некоторые из них так-таки прямо и называют своих жен «езжалыми бабами»!), делает их общество настолько пикантным, что поневоле забываешь столицу и ее увлечения…
Наш командир, полковник барон фон Шпек, принял меня совершенно по-товарищески. Это добрый, пожилой и очень простодушный немец, который изо всех сил хлопочет, чтоб его считали за русского, а потому принуждает себя пить квас, есть щи и кашу, а прелестную жену свою называет не иначе как «мой баб».
– Мы, ру́сски, бе́з церемо́ни! – сказал он мне с первого же раза, – в три часа у нас щи-каша – милости прошу! – я вас мой баб представлять буду!
Разумеется, я не заставил повторять приглашение и ровно в три часа был уже представлен прелестной командирше.
Я, не преувеличивая, могу сказать, что это одна из очаровательнейших женщин, каких я когда-либо видел в своей жизни. Прежде всего, ей тридцать – тридцать пять лет, и она блондинка, почти с таким же темно-золотистым отливом, как у тебя, petite mère. Ты знаешь, я никогда не был охотник ни до очень молоденьких женщин, ни до женщин с черными волосами и темными глазами. Молоденькие бабенки глупы и надоедливы. Они поминутно лезут целоваться, сами не понимая зачем. Что же касается до брюнеток, то хотя и говорят, будто они страстны, но, по моему мнению, c’est une réputation usurpée [235]235
это – не заслуженная репутация.
[Закрыть]. В сущности, они только деспотичны и резки – вот что́ многими принимается за страстность. Я, еще будучи в училище, изучил этот вопрос à fond. Une brune est toujours froide et dénuée de ressources [236]236
основательно. Брюнетка всегда холодна и однообразна.
[Закрыть]. Я не говорю уже о формах, которые у брюнетки никогда не достигают такой полноты и роскоши развития, такой, если можно так выразиться, лучезарности, как у блондинки. Брюнетка пикантна – и ничего больше. Это не женщина наслаждения. Даже каштановая женщина, в смысле наслаждения, представляет перед брюнеткой неоспоримые преимущества. Dans sa façon d’aimer une femme marron a déjà quelque chose de blond [237]237
По манере любить шатенка уже близка блондинке.
[Закрыть]. Но блондинка, настоящая блондинка – это масло…
Итак, она блондинка; глаза у нее большие, серые и очень хорошо поставленные. Она не хуже любой Camille de Lyon * [238]238
Камиллы де Лион.
[Закрыть]умеет подрисовать себе веки, и потому глаза ее кажутся, в одно и то же время, и блестящими, и влажными. Нос прелестный, с тонкими, удивительно очерченными ноздрями. Рот с несколько вздернутой верхней губой, что придает всей физиономии вызывающее выражение. Подбородок круглый, мягкий, слегка пушистый, с ямочкой посередине… on dirait, un nid d’amour [239]239
словно гнездышко амура.
[Закрыть]. Уши маленькие, сухие, почти прозрачные. Общий тон лица нежно-золотистый, как у спелой сливы. Ничего розового, вульгарного, напоминающего дурно сваренного поросенка. Формы – роскошь, не доходящая, однако ж, до пресыщения; ножка… но про ножку достаточно сказать, что она сама ею кокетничает!
Прибавь к этому бездну женственности и того неуловимого кокетства, которое всякую светскую красавицу окружает словно облаком аромата (она была в гвардии, прежде нежели попала сюда) – и ты получишь приблизительное понятие о том сокровище, которое я был так счастлив найти в одном из самых мизерных уголков нашего любезного отечества.
С первого же взгляда на эту женщину я почувствовал в сердце неотразимое желание покорить ее.
Недаром любовь правит миром, chère maman! [240]240
дорогая маменька!
[Закрыть]Недаром она проникает и в раззолоченные палаты владык мира, и в скромную хижину земледельца! Все живущее спешит покориться жестоким и в то же время сладким законам ее. Даже дикий зверь и тот, под влиянием ее, забывает аппетит и сон! Вы видите бегущего по лесу волка: пасть его открыта, язык высунут, глаза мутны; он рвет землю когтями, бросается на своих собратов, грызет их… à propos de quoi, je vous demande un peu? [241]241
и из-за чего, я вас спрашиваю?
[Закрыть]ужели только потому, что он видит перед собой эту отвратительную волчицу, которая бежит впереди стада с оскаленными зубами? – Да-с, потому-с! ибо такова сила любовных чар, таково могущество любви! Другой причины нет… и не может быть!
Quel mystère, chère maman! [242]242
Какая тайна, дорогая маменька!
[Закрыть]
Читайте великих мастеров искусства: Paul de Kock, Ponson du Terrail, Feydeau… [243]243
Поль де Кок, Понсон дю Террайль, Фейдо.
[Закрыть]что вы найдете у них? Любовь, любовь и любовь! Et «La belle Hélène» donc! [244]244
И, наконец, «Прекрасная Елена»!
[Закрыть]
Впрочем, по-видимому, мое предприятие не обойдется без препятствий. Я уже наметил двух конкурентов, борьба с которыми обещает не мало трудностей. Один из них – председатель местной земской управы Травников; другой – полковой казначей, ротмистр Цыбуля.
Травников – либерал. Он выжил два года в Париже, где познакомился с Бастиа́, который, de vive voix [245]245
изустно.
[Закрыть], передал ему тайны своей науки. Это сделало его до того обаятельным между здешними гласными, что когда он, воротившись из Парижа, поселился в своем имении, то его единогласно выбрали председателем управы. Теперь он пропагандирует Бастиа́ между полковыми дамами. Наружностью своей и манерами он напоминает выцветшего трактирного маркёра. En somme, c’est un pauvre sire [246]246
В общем, это жалкий господин.
[Закрыть], и было бы даже удивительно, что Полина (c’est le petit nom de la dame en question [247]247
таково имя дамы, о которой идет речь.
[Закрыть]) интересуется им, если б он не был богат. Но это слово объясняет многое.
Ротмистр Цыбуля – неуклюжий малоросс, который говорит «фост» вместо «хвост». Но он тринадцати вершков роста и притом так крепок и силен, что, я уверен, мог бы свободно пройти сквозь строй через тысячу человек…
По-видимому, однако ж, и моя смиренная рожица произвела недурное впечатление. По крайней мере, после обеда, когда Травников и Цыбуля ушли к полковнику в кабинет, она окинула меня взглядом и сказала:
– Какой вы молодой!
На что я поспешил ответить, что молодое сердце хотя и не может похвалиться опытностью, но зато умеет горячо любить и быть преданным. И ответ мой был выслушан благосклонно…
Я вперед предвижу, что́ будет. Сначала меня будут называть «сынком» и на этом основании позволят мне целовать ручки. Потом мне дадут, в награду за какую-нибудь детскую услугу, поцеловать плечико, и когда заметят, что это производит на меня эффект, то скажут: «Какие, однако ж, у тебя смешные глаза!» Потом тррах! – et tout sera dit! [248]248
и делу конец!
[Закрыть]
Таков неумолимый закон любвей!
Я воротился домой очарованный и весь вечер предавался возвышенным мыслям. Ночь была тихая, теплая. Я сидел у растворенного окна, смотрел на полную луну и мечтал. Сначала мои мысли были обращены к ней, но мало-помалу они приняли серьезное направление. Мне живо представилось, что мы идем походом и что где-то, из-за леса, показался неприятель. Я, по обыкновению, гарцую на коне, впереди полка, и даю сигнал к атаке. Тррах!.. ружейные выстрелы, крики, стоны, «руби!», «коли!», itt, ma foi! [249]249
И, честное слово!
[Закрыть]через пять минут от неприятеля осталась одна окрошка!
Вот первые впечатления моей новой жизни. Я буду писать тебе часто, но надеюсь, что «Butor» [250]250
Грубиян.
[Закрыть]не узнает о нашей переписке. Пиши и ты ко мне как можно чаще, потому что твои советы теперь для меня, более нежели когда-нибудь, драгоценны. Целую тебя.
Сергий Проказнин.
P. S. Против квартиры моей стоит большой каменный дом. Сегодня утром, подойдя к окну, я увидел на балконе этого дома очень недурную и еще молодую женщину. Не говоря худого слова, я взял бинокль и навел его на нее. Она не только не оскорбилась этим, но даже слегка усмехнулась и поиграла в мою сторону глазками. От Федьки я узнал, что это вдова купца Лиходеева и что она ежегодно отправляет значительное число барок с хлебом. Говорят также (все тот же Федька, у которого на этот счет изумительное чутье), что тут уж примазался здешний исправник. И действительно, в ту минуту, как я закрываю это письмо, его дрожки подъехали к крыльцу лиходеевского дома».
«Vous êtes un noble coeur, Serge! [251]251
Ты благороден, Серж!
[Закрыть]ты понял меня! Ты понял, что мне нужна переписка с тобой, чтоб отдохнуть от той безвыходной прозы, которая отныне должна составлять все содержание моей бедной, неудавшейся жизни!
Ах, какая это жизнь! Вежетировать * изо дня в день в деревне, видеть налитую водкой физиономию Butor’a, слышать, как он, запершись с Филаткой в кабинете, выкрикивает кавалерийские сигналы, ежеминутно быть под страхом, что ему вдруг вздумается сделать нашествие на мой будуар… Это ужасно, ужасно, ужасно!
Представь себе, что́ я узнала! До сих пор я думала, что должна была оставить Париж, потому что Butor отказался прислать мне деньги; теперь мне известно, что он подавал об этом официальную записку, и в этой записке… просил о высылке меня из Парижа по этапу!! L’animal! [252]252
Скотина!
[Закрыть]
Et moi qui croyais autrefois à l’idéal, au sublime, à l’infini… que sais-je! [253]253
А я-то верила в идеалы, в возвышенное, в бесконечное… и прочую ерунду!
[Закрыть]Я, которая думала, что вся моя жизнь будет непрерывным гимном божеству! И что ж! достаточно было прикосновения грубой руки одного человека, чтоб разбудить меня от моих золотых грез. И этот человек… c’est le Butor! Le sublime – et l’horrible, le ciel – et l’enfer, l’ange – et le démon… [254]254
Возвышенное – и ужасное, небо – и ад, ангел – и демон.
[Закрыть]какой поразительный урок!
Я не знаю, что сталось бы со мной, если б я не нашла утешения в религии. Религия – это наше сокровище, мой друг! Без религии мы путники, колеблемые ветром сомнений, как говорит le père Basile [255]255
отец Василий.
[Закрыть], очень миленький молодой попик, который недавно определен в наш приход и которого наш Butor уж успел окрестить именем Васьки-шалыгана. Я собственным горьким опытом убедилась в истине этих слов – и знаешь ли где? Там… в Париже! Сознаюсь, я в то время жила… comme une payenne! [256]256
как язычница!
[Закрыть]Я ничего не понимала… c’était un rêve! [257]257
это был сон!
[Закрыть]И вдруг мне объявляют, что если я завтра не выеду из Парижа, то меня посадят в Clichy * ! C’était comme un trait de lumière! [258]258
Клиши! Это был луч света!
[Закрыть]Я сейчас же приказала уложить мои вещи… и с этой минуты – ни малейшего ропота, ни единого горького слова! Я вдруг преобразилась, почувствовала, что мне легко. Paul de Cassagnac, Villemessent * , Détroyat, Tarbé, Dugué de la Fauconnerie [259]259
Поль де Кассаньяк, Вильмессан, Детруйа, Тарбе, Дюге де ля Фоконнери.
[Закрыть] [260]260
Журналисты мазурицкого оттенка. ( Прим. M. E. Салтыкова-Щедрина.)
[Закрыть]– все прибежали, все хотели утешить меня, но я наотрез сказала: «N-i – n-i, c’est fini! Que la volonté de Dieu soit faite» [261]261
ни-ни, кончено! Да будет воля божья.
[Закрыть]. И когда, на другой день, я садилась в вагон, Villemessent, прощаясь со мной, сказал: «Vous êtes une sainte! c’est Villemessent qui vous le dit!» [262]262
вы – святая! это говорит вам Вильмессан!
[Закрыть]
Но как он терзает меня… le Butor! как он изобретателен в своих оскорблениях! как он умеет повернуть нож в не зажившей еще ране!
На днях – это было в день моего рождения (hélas! твоей pauvre mère исполнилось сорок лет, mon enfant! [263]263
увы!.. бедной матери… дитя мое!
[Закрыть]) – он является прямо в мой будуар.
– Честь имею поздравить!
Я молчу.
– Сорок годков изволили получить! Самая, значит, пора!
Я делаю чуть заметный знак нетерпения.
– По Бальзаку, это именно настоящая пора любви. Удивительно, говорят, как у этих сорокалетних баб оно знойно выходит…
– Только не для вас! – холодно ответила я и, окинув его презрительным взглядом, поспешила запереться у себя в спальной.
Я не знаю, какой эффект произвел на него мой ответ (Маша, моя горничная, уверяет, что у него даже губы побелели от злости), но я очень отчетливо слышала, как он несколько раз сряду произнес мне вдогонку:
– Заставлю-с! заставлю-с! заставлю-с!
И таким образом – почти ежедневно. Я каждое утро слышу его неровные шаги, направляющиеся к моей комнате, и жду оскорбления. Однажды – это был памятный для меня день, Serge! – он пришел ко мне, держа в руках листок «Городских и иногородных афиш» (c’est la seule nourriture intellectuelle qu’il se permet, l’innocent! [264]264
это единственная умственная пища, которую он себе позволяет, простофиля!
[Закрыть]).
– Ну-с вот и чизльгёрстский философ околел! * – сказал он, посылая мне в упор свою пьяную улыбку.
– Как? кто? Он? – только могла я произнести.
– Да-с! он-с. Седанский герой-с; ваш… Il a nommé la chose… le monstre! [265]265
И у него повернулся язык… чудовище!
[Закрыть]Он не пощадил ничего… даже этого славного воспоминания моей жизни!
Je le confesse [266]266
Каюсь.
[Закрыть], я была неделикатна. Я вцепилась ногтями в его лицо, но, впрочем, сию же минуту опамятовалась и убежала от него. Я целый час была как сумасшедшая! Я думала, что он нарочно обманывает, дразнит меня! Но вслед за тем – конечно, из жестокого желания не оставить во мне никакого сомнения – он прислал мне с Машей листок… Это была правда! Он умер! Сперва Морни, потом Персиньи… наконец ОН!! Целый рой сновидений пронесся предо мной… le rêve doré de mon passé! [267]267
золотой сон моего прошлого!
[Закрыть]Я, как безумная, бегала по зале и все напевала: « Ah! j’ai un pied qui r’mue» [268]268
Ах! у меня ноги пускаются в пляс.
[Закрыть] мотив кадрили, которая тогдарешила мою участь. * Я помню, на мне было платье совсем как из воздуха: des bouillonées, des bouillonées et puis encore des bouillonées, toujours des bouillonées… En un mot, tout-à-fait frou-frou… [269]269
буфы, буфы и опять буфы, повсюду буфы… Одним словом, сплошная воздушность.
[Закрыть]ОН подошел ко мне и сказал: «Quelle gorge adorable» [270]270
какая восхитительная грудь!
[Закрыть]– и только! Но при этом он посмотрел на меня, как только онодин умел смотреть… Это продолжалось не более одной минуты, но участь моя была навсегда решена… Но зачем растравлять воспоминанием еще дымящуюся рану!.. Одним словом, я до того увлеклась моими воспоминаниями, что даже не заметила, что Butor стоит в дверях и во все горло хохочет. У него все лицо распухло от глубоких царапин, которые сделали мои ногти; il était ignoble, dégoûtant, immonde… [271]271
он был мерзок, отвратителен, гнусен.
[Закрыть]
Вот моя жизнь! И представь себе, что иногда… бывают дни, когда этот человек объявляет о каких-то своих правах на меня… le butor!
После всего этого ты можешь себе представить, какое блаженство для меня твои письма. И что придает им еще больше прелести – это тайна и даже опасность, с которыми сопряжено их получение. Я получаю их через Машу и иногда по целым часам бываю вынуждена держать их под корсажем, прежде нежели прочитать. Тогда я воображаю себя в пансионе, где я впервые научилась скрывать письма (и представь себе, это были письма Butor’a, который еще в пансионе «соследил» меня, как он выражался на своем грубом жаргоне), и жду, пока Butor не уляжется после обеда спать. Это пытка, мой друг, это почти истязание, mais c’est égal, c’est plein de poésie! [272]272
но все равно это полно поэзии!
[Закрыть]Иногда он, как нарочно, медлит, и тогда я готова наделать глупостей от нетерпения… Но вот раздался сигнальный храп – и я уж за делом. Я запираюсь у себя в комнате и читаю, и перечитываю твои письма… noble enfant de mon coeur! [273]273
благородное дитя моего сердца!
[Закрыть]
Я понимаю тебя и твои молодые стремления, мой друг! Я, твоя бедная мать, эта сорокалетняя женщина, cette femme de Balzac, comme dit le Butor! [274]274
бальзаковская женщина, как говорит Butor.
[Закрыть]И я была молода, и я увлекалась… ты знаешь, ктоменя любил! Теперь онв могиле… все в могиле, мой друг! Morny, Persigny… Lui!! [275]275
Морни, Персиньи… Он!
[Закрыть]Один Базен остался, и тот сидит на каком-то острове * [276]276
Писано до получения известия о бегстве Базена. ( Прим. M. E. Салтыкова-Щедрина.)
[Закрыть], откуда он будет очень глуп, ежели не бежит. Но я не забыла, я помню. Я всепомню и потому всемогу понимать…
Я отсюда вижу тебя и твою Полину… toi, plein de sève et de vigueur, elle – rayonnante de ce doux parfum d’abnégation amoureuse qui est l’auréole et en même temps l’absolution de la pauvre femme… coupable! Tu es beau, elle est belle; [277]277
ты, полный здоровья и силы, она – благоухающая сладостным ароматом любовной самоотверженности, составляющей ореол и оправдание бедной… грешной женщины! Ты красив, она – тоже!
[Закрыть]вы оба молоды, сильны, оба горите избытком жизни, оба чувствуете, как страсть катится по вашим жилам, давит вас… Но отчего же признание дрожит на ваших губах – и не может сказаться?.. Отчего глаза ваши ищут встретить друг друга – и, встретившись, опускаются? Вы встревожены, вас волнует какая-то горькая мысль… Она – с трепетом вглядывается в будущее и падает ниц перед идеею вечности… Ты – пугаешь себя ревнивыми воспоминаниями… Травников, Цыбуля, даже сам фон Шпек!.. Ты никого не забыл! После– ты все забудешь, все простишь. После– ты скажешь себе: «И Травников, и Цыбуля – все это естественные последствия фон Шпека!» После– но не теперь! Теперьты еще помнишь, хотя уже и жаждешь забыть.
А покуда я надеюсь, что ты выслушаешь воркотню старухи матери, решающейся высказать несколько советов, которые, наверное, не будут для тебя бесполезны.
Любовь, мой друг, – это святыня, к которой нужно приближаться с осторожностью, почти с благоговением, и вот почему мне не совсем нравится слово «тррах», которое ты употребил в письме своем. Может быть, все так и произойдет, как ты писал, но уже по тому одному, что оно именно таки произойдет, то есть сначаланазовут тебя «сынком», потомдадут ручку, etc. [278]278
и так далее.
[Закрыть]– ты всего менее вправе употреблять ce malencontreux [279]279
это неуместное.
[Закрыть]«тррах». Ça sent la caserne, mon cher, ça pue l’écurie, le fumier [280]280
Это отдает казармой, дорогой мой, пахнет конюшней, навозом.
[Закрыть]. Салон светской женщины (ты именно такою описываешь мне Полину) – не манеж и не одно из тех жалких убежищ, в которых вы, молодые люди, к несчастию, получаете первые понятия о любви… Это место очень приличное, где требуются совсем другие приемы, нежели… ты понимаешь где?
Помни, мой друг, что любовь – всё для женщины, или, лучше сказать, что вся женщина есть любовь. Что, стало быть, оскорбить ее любовь – значит оскорбить ее всё.Этого одного достаточно, чтобы понять, почему успех, в большей части случаев, достается совсем не тому, кто с громом и трубами идет точно на приступ, а тому, кто умеет ждать. Во-первых, все эти самонадеянные люди почти всегда нескромны и хвастливы, что совсем не входит в расчеты замужней женщины, которая желает сохранить les dehors [281]281
приличия.
[Закрыть]. Во-вторых, женщины самолюбивы, и им всегда приятно дать щелчок человеку, у которого на уме «тррах». В-третьих – и это главное, – женщины вовсе не так алчут грубых наслаждений, как вы, мужчины, обыкновенно об этом думаете.
Женщина – это существо особенное, c’est un être indicible et mystérieux, как ты сам очень мило определил ее в твоем письме (как странно звучит твое «тррах» рядом с этим милым определением!). Разумеется, я говорю здесь не об институтках, а о настоящих женщинах, о тех, которые испытаны жизнью и к числу которых, по-видимому, принадлежит и Полина. Такие женщины любят медлить. Elles aiment à savourer les préludes de l’amour [282]282
Они любят наслаждаться прелюдиями любви.
[Закрыть]. Эти таинственные, бесконечные излияния, в которых все отрывочно, недоконченно, неуловимо, но в которых каждое слово, каждый звук, каждая улыбка, каждый вздох имеют глубокое значение. Женщина любит неслышно погружаться в душистый пар недоговоренных слов, затаенных вздохов, взглядов, брошенных украдкой. Она любит заменять слово «любовь» словом «дружба»… Это доставляет ей минуты того сладкого головокружения, которое у самого падения отнимает все, что в нем есть грубого, сырого. Ce n’est pas une chute grossière qu’elle ambitionne, c’est une joliechute [283]283
Они мечтают не о грубом падении, а о красивом.
[Закрыть].








