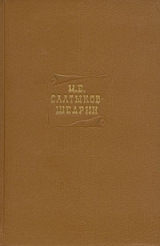
Текст книги "Том 11. Благонамеренные речи"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 50 страниц)
– Но ты забыл, душа моя, что присоединение Эльзаса и Лотарингии есть результат войны, что шансы войны подвержены множеству случайностей! ты забыл, что случайности эти одинаковы для всех и что таким образом и Чебоксары могут подвергнуться процессу просветления… Опомнись!
– Не случайности, а пути провидения! Слышишь! Я не признаю случайностей! Я знаю только провидение!
– Но Чебоксары?..
Это был крик моего сердца, мучительный крик, не встретивший, впрочем, отзыва. И я, и Плешивцев – мы оба умолкли, как бы подавленные одним и тем же вопросом: «Но Чебоксары?!!» Только Тебеньков по-прежнему смотрел на нас ясными, колючими глазами и втихомолку посмеивался. Наконец он заговорил.
– Господа! – сказал он, – к удивлению моему, я с каждым днем все больше и больше убеждаюсь, что как ни беспощадна полемика, которую ведет против меня наш общий друг Плешивцев, но, в сущности, мы ни по одному вопросу ни в чем существенном не расходимся. Он требует для человека почвы, и я требую для человека почвы. Он признает, что есть известные основы, без которых общество не может существовать, и я признаю, что есть известные основы, без которых общество не может существовать. Он уважает религию, и я уважаю религию. Он консерватор, и я консерватор. Разница между нами заключается в том, что я употребляю некоторые выражения, которые не по душе Плешивцеву, а он употребляет некоторые выражения, которые не по душе мне. Но смею думать, что это только диалектические особенности, ибо, ежели резюмировать наши убеждения в кратчайшей форме, отрешив их от диалектических приемов, а особенно ежели взять во внимание те практические применения, которые эти убеждения получают, проходя сквозь горнило департамента, в котором мы оба служим, то, право, окажется, что вся наша полемика есть не что иное, как большое диалектическое недоразумение. Мы оба требуем от масс подчинения, а во имя чего мы этого требуем – во имя ли принципов «порядка» или во имя «жизни духа» – право, это еще не суть важно. Blanc bonnet, bonnet blanc [442]442
Что в лоб, что по лбу.
[Закрыть]– вот и всё. Следовательно, нам нужно только отказаться от некоторых мудреных и малоупотребительных выражений – и все недоразумения исчезнут. Не правда ли, Плешивцев? Скажи по совести, ведь мы можем подать друг другу руки?
Сказавши это, Тебеньков протянул Плешивцеву руку, но последний не принял ее.
– Ну, нет! Это стара штука! – сказал он, – это спор старый! Он еще при Петре начался! Тут не одними мудреными словами пахнет! Тут есть кой-что поглубже!
– Очень жаль, что наружное разномыслие наше должно продолжаться без срока, хотя, повторяю, разномыслие это чисто наружное и отнюдь не мешает полному внутреннему нашему единомыслию. Да, мой друг! что ни говори, а все эти «подоплеки», все эти «жизни духа» – все это диалектические приемы того же устава благочиния, во имя которого ратую и я. Тебе по сердцу «просветление», мне – «административное воздействие», но и в том и в другом случае, в конце концов, все-таки прозревается военная экзекуция. Тебе нравится московский период государства российского, мне нравится петербургский период государства российского, но оба и несомненно мы имеем в виду одну и ту же государственность. Не правда ли?
Ответа на этот вопрос не последовало.
– Итак, будем продолжать. Ты говоришь: «Эльзас-лотарингцы обязываются примириться с тем положением, в которое поставили их результаты войны, и не имеют права ссылаться на старое отечество, когда сила обстоятельств подарила их отечеством новым». Я говорю: «Эльзас-лотарингцы обязываются примириться с тем положением, в которое поставили их результаты войны, и не имеют права ссылаться на старое отечество, когда сила обстоятельств подарила их отечеством новым». Воля твоя, но мы говорим совершенно одно и то же!
– Ты позабыл исходные пункты… малость!
– То есть некоторые диалектические приемы…
– Нет, не диалектические приемы, а исходные пункты! Понимаешь! Исходные пункты!
– Ну да, я их-то и называю диалектическими приемами. Потому что если б наши исходные пункты были действительно разные, то и результаты их были бы разные. Но этого нет. А следовательно, при одинаковых результатах, какая же надобность знать, откуда кто отправляется: с Плющихи ли в столичном городе Москве, или с Офицерской в столичном городе Петербурге?
Это было ясно. В сущности, откуда бы ни отправлялись мои друзья, но они, незаметно для самих себя, фаталистически всегда приезжали к одному и тому же выходу, к одному и тому же практическому результату. Но это была именно та «поганая» ясность, которая всегда так глубоко возмущала Плешивцева. Признаюсь, на этот раз она и мне показалась не совсем уместною.
– К делу, Тебеньков, к делу! – сказал я, – говори, правы ли, по твоему мнению, члены германского рейхстага, так весело насмеявшиеся над Тейтчем?
– То есть, вот видишь ли: я никогда не одобряю неделикатности, и, по мнению моему, смеяться над огорченным человеком, во всяком случае, непростительно. C’est bourgeois, c’est mesquin [443]443
Это мещанство, это мелко.
[Закрыть]. Но я не могу все-таки не сказать, что в настоящем случае смех имеет в свою пользу смягчающие обстоятельства. Помилуй! что же может быть постылее, как назойливость по поводу выеденного яйца! Люди занимаются делом, обсуждают новый закон о книгопечатании, предпринимают реорганизацию армий и флотов, * а к ним лезут с протестами против бесповоротного удара судьбы!
– Но как же все это согласить с тем… ну, с тем циркуляром… в котором любовь к отечеству…
– Ah! mais entendons-nous, mon cher! [444]444
Но согласимся, дорогой мой!
[Закрыть]Отечество любить обязательно, но необходимо все-таки объяснить себе, что́ такое это обязательно любимое отечество?
– Что́ же, по-твоему, это отечество?
– Eh bien, nous y arrivons [445]445
Вот мы и добрались до сути.
[Закрыть].
Возражая Плешивцеву, я упомянул о необходимости иметь точные сведения о географических границах. По моему мнению, вот вещь, необходимая для совершенно ясного определения пределов ведомства любви к отечеству, вот вещь, без точного знания которой мы всегда будем блуждать впотьмах.
– Так что, например, болгары, сербы… при настоящем положении границ Турецкой империи… должны считать Турецкую империю своим отечеством и должны любить ее?
– Позволь на этот раз несколько видоизменить формулу моего положения и ответить на твой вопрос так: я не знаю, должныли сербы и болгары любить Турецкую империю, но я знаю, что Турецкая империя имеет правозаставить болгар и сербов любить себя. И она делает это, то есть заставляетнастолько, насколько позволяет ей собственная состоятельность.
– Но это ужасно! стало быть, если граница России идет до Эмбы, я должен любить ее до Эмбы? а ежели эта граница идет только до Урала, то я должен любить только до Урала?
– C’est triste, mais c’est vrai [446]446
Печально, но это так.
[Закрыть].
– Но Чебоксары?! Опомнись, душа моя! Ведь географические границы – дело наживное! Ведь таким образом Ветлуга, Малмыж, Чебоксары… *
На этом наш разговор кончился. Мы пожали друг другу руки и разошлись. Но я уверен, что даже в холодной душе Тебенькова не раз после этого шевельнулся вопрос:
– Но Чебоксары?!
В погоню за идеалами *
Ежели мы, русские, вообще имеем довольно смутные понятия об идеалах, лежащих в основе нашей жизни, то особенною безалаберностью отличается наше отношение к одному из них, и самому главному – к государству. Даже люди культуры, как-то: предводители дворянства, члены земских управ и вообще представители так называемых дирижирующих классов, – и те как-то нерешительно и до чрезвычайности разнообразно отвечают на вопрос: что́ такое государство? Одни смешивают его с отечеством, другие – с законом, третьи – с казною, четвертые – громадное большинство – с начальством. Одни, чтоб отделаться от вопроса, прибегают к наглядным примерам: Швеция – государство, Великобритания – государство, Франция – государство и проч. Другие говорят: «Государство! смешно даже спрашивать, что такое государство!» Третьи таращат глаза, точно их сейчас разбудили. А если, сверх того, предложить еще вопрос: какую роль играет государство в смысле развития и преуспеяния индивидуального человеческого существования? – то ответом на это, просто-напросто, является растерянный вид, сопровождаемый несмыслениым бормотанием. Одним словом, из всего видно, что выражение «государство» даже в понятиях массы культурных людей не представляет ничего определенного, а просто принадлежит к числу слов, случайно вошедших в общий разговорный язык и силою привычки укоренившихся в нем. А так как с подобного рода словами обыкновенно обращаются очень неряшливо, то выходит, что выражение, само по себе требующее определения, делается, вследствие частого употребления, определяющим, дающим окраску целой совокупности жизненных подробностей. Из коренного слова «государство» являются производные: «государственность», «государственный», которыми предводители дворянства щеголяют в клубах и на земских собраниях без малейшего стеснения, точно так, как бы слова эти были совершенно для них понятны.
Но ежели такая смута в понятиях о государстве господствует в дирижирующих классах общества, то что же должны мы ожидать от непросвещенной черни! Увы! здесь представление об этом важном предмете уже до такой степени отсутствует, что трудно даже вообразить себе простолюдина, произносящего слово «государство». Простолюдин, конечно, знает, что над ним поставлен становой пристав и что в известные сроки он обязан уплачивать подати и повинности; но какую роль во всем этом играет государство – этого он не знает. В этом отношении перед ним вечно стоит какое-то загадочное пространство, в которое он тревожно вперяет взоры, но ничего, кроме станового и повинностей, различить не может.
Благодаря этой путанице, мы вспоминаем о государстве (и даже не о государстве в собственном смысле этого слова, а о чем-то подходящем к нему) лишь тогда, когда нас требуют в участок для расправы. Что же касается до обыденной жизненной практики, то, кроме профессоров, читающих с кафедры лекции государственного права, да школьников, обязанных слушать эти лекции, вряд ли кто-нибудь думает о той высшей правде, осуществлением которой служит государство и служению которой должна быть всецело посвящена жизнь обывателей. Всякий живет и прозябает по-своему, сам по себе, и делает свое маленькое дело совершенно независимо от государственных соображений. Сапожнику, тачающему сапоги, даже и на ум никогда не придет, что его работа (да и вообще вся его жизнь) имеет какое-нибудь отдаленное отношение к тому общему строю вещей, который носит название государства. Много-много, ежели он сознаёт связь своей жизни с местным квартальным надзирателем, да и то не с квартальным надзирателем вообще, а именно с Иваном Иванычем, который поступил на место Петра Петровича и увеличил дани вдвое. Поэтому в таких захолустьях, куда квартальные не заглядывают вовсе, обыватели доходят до того, что вспоминают о своей прикосновенности к чему-то более обширному и для них загадочному только в минуты уплаты податей и повинностей. И вспоминают, конечно, невесело. В городах и в местах более населенных эта неряшливость сказывается, конечно, в меньшей степени; но ведь и здесь, как уже упомянуто выше, руководящею нитью обывательской жизни все-таки служат взгляды и требования ближайшего начальства, а отнюдь не мысль о государстве. Да и сами квартальные надзиратели, разве они, заставляя, например, обывателей очищать дворы от навоза, сознают, что этим удовлетворяют высшей правде, осуществляемой государством? Нет; они исполняют это, во-первых, потому, что так приказывает начальство, и, во-вторых, потому, что выполнение приказаний начальства есть их ремесло. А на вопрос: что такое государство? – и они могут, точно так же, как и прочие обыватели, отвечать только вздрагиванием. Начальство же с своей стороны…
Здесь я остановлюсь. Я знаю, мне могут сказать, что я отстал от своего века, что то, что я говорю об отсутствии чувства государственности в квартальных надзирателях, относится к дореформенному времени и что, напротив того, нынешнее поколение квартальных надзирателей очень тонко понимает, чему оно служит и какой идеи является представителем. На это я могу ответить следующее: я не выдаю своих мнений за безусловно истинные и первый буду очень рад успехам господ квартальных надзирателей на поприще государственности, ежели успехи эти будут доказаны. Но, признаюсь откровенно, я боюсь, что упомянутое сейчас возражение основано на недоразумении и что характеристическою чертою настоящего времени является не столько знание интересов и нужд государства и бескорыстное служение им, сколько самоуверенная и хлесткая болтовня, сопровождаемая знанием, где раки зимуют, и надеждою на повышение. Согласитесь, что между тем и другим имеется разница довольно существенная.
А между тем путаница в понятиях производит путаницу и в практической жизни. Тут мы на каждом шагу встречаемся и с взяточничеством, и с наглейшим обиранием казны, и с полным равнодушием к уплате податей, и, наконец, с особым явлением, известным под именем сепаратизма. И всё – следствие неясности наших представлений о государстве.
Обратитесь к первому попавшемуся на глаза чиновнику-взяточнику и скажите ему, что действия его дискредитируют государство, что по милости его страдает высшая идея правды и справедливости, оберегать которую призван сенат и Государственный совет, – он посмотрит на вас такими удивленными глазами, что вы, наверное, скажете себе: «Да, этот человек берет взятки единственно потому, что он ничего не слыхал ни о государстве, ни о высшей идее правды и справедливости». И действительно, все, что он знает по этому предмету, заключается лишь в следующем: 1) что действия его противоречат такой-то статье Уложения о наказаниях и, буде достаточно изобличены, подлежат такой-то каре; 2) что прежде нежели подпасть этой каре, нужно его судить, а прежде нежели судить, нужно еще предать суду; 3) что, следовательно, взятки надо брать с осторожностью, а паче всего надеяться на милосердие начальства, от которого зависит предание суду. Спрашивается: при чем же тут государство?
То же самое замечание, и даже с бо́льшим основанием, может быть применено и к той категории преступных действий, которая известна под названием казнокрадства. Государство так часто продается за грош, и притом так простодушно продается, что даже история уже не следит за подобными деяниями и не заносит их на свои скрижали. Была горькая година * в жизни России, – година, во время которой шла речь о ее значении в сонме европейских государств и подвергалась сомнению ее военная слава. И что ж! в это самое время находились люди, которые ставили ополченцам сапоги с картонными подметками, продавали в свою пользу волов, пожертвованных на мясную порцию для нижних чинов, снабжали солдат кремневыми ружьями, в которых, вместо кремня, была вставлена выкрашенная чурочка, и т. д. И в то же время эти люди не только не имели злодейского вида, но и сами себя не считали злодеями. Они пили, ели, провозглашали тосты, устроивали фестивали и даже очень искренно молились в церквах о ниспослании победы и одоления тем самым ратникам, которых сейчас спустили по морозцу на картонных подошвах. Ужели можно предположить, что, поступая таким образом, эти люди понимали, что они обездоливают и продают то самое государство, которое их приютило, поставило под защиту своих законов и даже дало средства нажиться? Нет, предположить это – значило бы допустить в людях такую нравственную одичалость, которая сделала бы немыслимым существование человеческого общества. Скорее всего упомянутые казнокрады оттого так действовали, что не имели никакого понятия ни о ключах от храма гроба господня, ни об устьях Дуная * , которыми разрешался вопрос об ключах, ни об отношении этих вопросов к русскому государству. Они действовали совершенно простодушно, полагая, что обездоливают совсем не государство, а только казну. А о казне-матушке даже пословица такая сложилась, которая доказывает, до какой степени велико ее долготерпение. *
Затем, что касается уплаты податей и повинностей, то все плательщики на этот счет единодушны. Все уплачивают что нужно, и втайне все-таки думают, что не платить было бы не в пример лучше. Редкий понимает, что своевременное и безнедоимочное очищение окладных листов * есть дело государственной важности; большинство же исповедует то мнение, что казна и без того богата.
Наконец, если мы всмотримся ближе в причины, обусловливающие такое явление, как сепаратизм, то легко увидим, что и тут главную роль играет неясность понятий о государстве: многие смешивают понятие о государстве с понятием о родине и даже о родной колокольне; другие приходят в смущение вследствие частых изменений государственных граничных рубежей. И ежели для вразумления первых достаточно домашних мер, то вторые немало-таки причиняют беспокойств серьезным людям, заведывающим делами Европы. Достаточно указать на такие местности, как альпийское побережье Средиземного моря, Шлезвиг и, наконец, Эльзас и Лотарингию. Все эти местности кишат людьми, которые, несмотря на уверения, что понятие о государстве есть понятие безразличное, независимое ни от национальностей, ни даже от исторических * преданий, никак не могут понять, почему они обязаны с такого-то момента считать своимгосударством Францию, а не Италию, Германию, а не Данию и не Францию * . Единственное в этом отношении исключение составляет Ташкент, но и то не потому, чтобы там идеи о государстве были очень ясны, но потому, что правда, осуществлявшаяся в лице автобачей, не в пример менее доброкачественна, нежели правда, олицетворением которой явились русские уездные исправники. *
Одним словом, как-то так выходит, что мы точно с таким же правом называем себя членами государства, с каким пустосвяты называют себя людьми религии. Конечно, такое положение вещей не составляет новости (и в прежние времена, в этом отношении, не лучше было), но ново то, что оно начинает пробуждать пытливость человеческого ума. Покуда люди жили «без тоски, без думы роковой», * до тех пор и столпы стояли твердо и прямо. Становые брали взятки, подрядчики надували и обирали казну, крестьяне копили недоимки, сепаратисты говорили * : «Нет, никогда москалям не пивать таких водок, как наши малороссийские сливянка и запеканка!» и, за всем тем, никому не приходило на мысль, что от этого может страдать государство. Но вот консерваторы первые заметили, что есть в этом положении вещей что-то неладное, и, разумеется, приписали это интригам злонамеренных людей. Это было с их стороны и неосторожно, и неполитично. Консерваторы лучше других должны были понимать, что есть вещи, которые следует молчаливо оставлять предметом боязливого культа, даже и в таком случае, если б интрига (притом же существующая только в воображении) и действительно направляла против них свое жало.
Но особенную дикость понятий относительно значения слова «государство» выказывают у нас женщины. Вообще они у нас бойки только по части разговоров о том, какое чувство слаще – любовь или дружба, или о том, какую роль играл кринолин в истории женского преуспеяния. Тем не менее ежели вы спросите, например, княжну Оболдуй-Тараканову, на какую монету купец даст больше яблок – на гривенник или на целковый, то, быть может, найдутся светлые минуты, когда она и ответит на этот вопрос. Но спросите ее: «Что́ такое государство?» – и она, во-первых, струсит, а во-вторых, заподозрит в вас или демагога, или шпиона. Она не только ничего тут не понимает, но и считает лишним понимать. И в своей обыденной жизни поступает совершенно так, как бы не была связана никакими государственными узами.
А между тем, заметьте, княжна – совсем не рядовая девица из тех, которые хохочут, когда им показывают палец (имена их ты, господи, веси!). Нет, было время, когда она называла себя консерваторкой и в этом качестве делала из окна ручкой проезжему кавалергарду и выходила гулять не иначе как в сопровождении ливрейного лакея. Теперь она называет себя нигилисткой и, в согласность с этим, постукивает по тротуару каблучками, говорит о трудовой жизни и кавалергардов называет пустоплясами. Стало быть, на ней все-таки что-нибудь да отражается, и она понимает, что выражать собою нечто – приятнее и достойнее, нежели не выражать ровно ничего.
Но ежели даже такая женщина, как княжна Оболдуй-Тараканова * , не может дать себе надлежащего отчета ни в том, что́ она охраняет, ни в том, что́ отрицает, то что же можно ждать от того несметного легиона обыкновенных женщин, из которого, без всякой предвзятой мысли, но с изумительным постоянством, бросаются палки в колеса человеческой жизни? Несколько примеров, взятых из обыденной жизненной практики, лучше всего ответят на этот вопрос.
В молодости я знал одну почтенную старушку (фамилия ее была Терпугова), обладательницу значительного имения и большую охотницу до гражданских процессов, которая до смерти своей прожила в полном неведении о «государстве», несмотря на то что сам губернатор, встречаясь с нею, считал долгом целовать у нее ручку. И ни домашнее ее хозяйство, ни душевная ясность ее никогда не потерпели ни малейшего ущерба от этого пробела. Она жила, распоряжалась, кормила чиновников обедами, выдавала беременных девок замуж за мужиков в дальние деревни, содержала целую стаю приказных, которые именем ее вели тяжебные дела в судах, и никогда ей даже на мысль не приходило, что она живет и действует таким образом – в государстве.
Однажды приезжает к ней в побывку сын, молодой человек, только лет пять тому назад покинувший школьную скамью, и объявляет, что он уже получил место обер-секретаря в сенате.
– Я, маменька, хоть и молод, – похвастался он, – но начальство любит и отличает меня. Теперь я в своей экспедиции – все. Сенаторы будут дремать, а все дела буду решать – я! Согласитесь сами, что в двадцать пять лет это – штука не маленькая!
– Ну, вот и слава богу! – отвечала почтенная старушка, – теперь, стало быть, ты как захочешь, так и будешь решать! А у меня кстати с птенцовскими мужиками дело об лугах идет; двадцать лет длится – ни взад, ни вперед! То мне отдадут во владенье, то опять у меня отнимут и им отдадут. Да этак раз с десять уж. А теперь, по крайности, хоть конец будет: ка́к тебе захочется, так ты и решишь.
Как ни упоен был молодой человек собственным величием, но и у него от маменькиных слов дыхание в зобу сперло.
– Помилуйте, маменька! – воскликнул он, – ведь я не затем обер-секретарем сделан, чтобы свои дела в свою пользу решать! Ведь меня за это…
– А ты, мой друг, потихоньку! Разумеется, со всяким встречным об таких делах не след болтать, а так, слегка… как будто тебя не касающе…
– Не касающе! Да сам-то я буду же знать! Ах, маменька, маменька! я ведь не личным своим интересам, а государству служу.
– Так что ж что государству! Государство – само по себе, а свои дела – сами по себе. Об своих делах всякий должен радеть: грех великий у того на душе, который об устройстве своем не печется! Ты знаешь ли, что́ в Писании-то сказано: имущему прибавится, а у неимущего и последнее отнимется! *
– Да, но ведь это, голубушка, совсем не в том смысле сказано!
– В том ли смысле или в другом – это как хочешь, так и можешь понимать. А только я всегда, и как мать и как христианка, скажу: кто об своих делах не радеет, тот и богу не слуга.
На первый раз разговор этим кончился. Но так как за ним скрывались интересы очень существенные, то он возобновился и на другой день, и вообще повторялся в течение всех двадцати восьми дней, покуда длился отпуск Терпугова. Молодой человек нарочно приехал к старухе матери, чтобы обрадовать ее своим возвышением, и вдруг, вместо радости, чуть было не сделался причиной целого семейного переполоха! Тщетно старался он втолковать старухе, что́ такое государство и почему чувство государственности должно иметь верх над чувством индивидуализма, – почтенная женщина на все его толкования отвечала одними и теми же словами:
– Знаю я, батюшка! Десять лет сряду за убылые души плачу́ – очень хорошо знаю! Кого в солдаты, кого в ратники взяли, а кто и сам собой помер – а я плати да плати! Россия-матушка – вот тебе государство! Не маленькая я, что ты меня этим словом тычешь! Знаю, ах, как давно я его знаю!
– Но ежели вы, маменька, знаете…
– Знаю и все-таки говорю: государство там как хочет, а свои дела впереди всего! А об птенцовских лугах так тебе скажу: ежели ты их себе не присудишь, так лучше и усадьбу, хозяйство – всё зараньше нарушь! Плохо, мой друг, то хозяйство, где скота заведено пропасть, а кормить его нечем!
Кончилось тем, что восторжествовал все-таки индивидуализм, а государственность должна была уступить. Правда, что Терпугов оставлял поле битвы понемногу: сначала просто потому, что говорить о пустяках не стоило, потом – потому, что надо же старушку чем-нибудь почтить; но, наконец, разговаривая да разговаривая, и сам вошел во вкус птенцовских лугов.
– А что, в самом деле! – рассудил он, – ведь без птенцовских лугов, пожалуй, и плохо придется? Ну, сам я, положим… ну, конечно, я сам ни за что!.. А кого бы, однако ж, попросить, чтоб это дело направить? То-то старушка обрадуется!
И действительно, года через два процесс о птенцовских лугах был кончен…
Другой пример.
Несколько лет тому назад женился мой однокашник и друг, Володя Горохов. Жена его – очень милая особа, только что вышедшая из института (с шифром * ) и наивная до бесконечности. Однако медовый месяц ей понравился. К сожалению, Горохов состоит на государственной службе и, в качестве столоначальника департамента препон * , очень хорошо помнит мудрое изречение: «Делу – время, потехе – час». Это изречение имел он в виду и при женитьбе, а именно: выпросился в двадцативосьмидневный отпуск с тем, чтобы всецело посвятить это время потехе, а затем с свежею головой приняться за дело.
Сказано – сделано. На двадцать девятый день, утром, проснулась Наденька Горохова – хвать, мужа простыл и след! Живо надела она на босу ногу туфельки и в одной кофточке тихо-тихо подкралась к мужнину кабинету. О, ужас! он сидел за письменным столом совсем одетый и строчил докладную записку «О мерах к пресечению распространения идей между инородцами, населяющими Мамадышский уезд». * И перед ним, и по обоим бокам лежали развернутые объемистые дела, в которые он заглядывал с видимым нетерпением, как будто они стесняли полет его административной фантазии. Но что важнее всего, он до такой степени углубился в свою работу, что не только не почувствовалприсутствия Наденьки, но даже не слыхал приближения ее шагов.
На одно мгновение в белокурой головке Наденьки промелькнула мысль: обидеться ей или нет? Но к чести ее должно сказать, что она перемогла себя и не обиделась. Потихоньку, на цыпочках, приблизилась она к креслу, на котором сидел муж, и зажала ему глаза своими крошечными ручками. Сюрприз застал Володю немного врасплох (в эту минуту он только что начал загибать фразу: «следовательно, ежели с одной стороны злоумышленники»…), и на мгновение он даже поморщился. Но именно только на одно мгновение, потому что тотчас же вслед за этим он очень нежно отнял от глаз ручки жены, поцеловал их и тоном радостного изумления сказал:
– Как, ты уж и встала, Наденька?
– И он говорит это… бессовестный! Ушел – и думает, что я и не почувствую! А как мне, Володька, без тебя было холодно! Сейчас же бери меня на коленки и согрей!
– Но, Наденька, ты знаешь… Сегодня срок моему отпуску; я должен явиться в департамент, и вот докладная записка…
– Уже?! – воскликнула Наденька.
Только всего она и сказала, но в голосе ее звучало такое горе, что Горохов тревожно взглянул на нее. На голубых ее глазках дрожали две маленькие слезинки, щечки пылали, ротик полураскрылся под влиянием горестного изумления. Словом сказать, никогда она не была так очаровательна. Но Горохов был столоначальник всем естеством своим, и притом такой столоначальник, который с минуты на минуту ждал, что его позовут в кабинет директора и скажут: «Не хотите ли место начальника отделения?» Поэтому, даже в такую опасную минуту, когда кофточка на груди у Наденьки распахнулась, – даже и тогда он не мог выжать из своих мозгов иной мысли, кроме: «Делу – время, потехе – час». Тем не менее он понял, что нужно же как-нибудь утешить это милое дитя, которое так скоро зябнет в его отсутствии. Поэтому он шутливо искривил губы и сказал:
– А ты как думала, дурочка! Ведь я на государственной службе состою и, следовательно, несу известные обязанности. Государство, мой друг, не шутит. Оно уволило меня на двадцать восемь дней, а на двадцать девятый день требует, чтоб я был на своему посту. Ступай же, ангел мой, и постарайся заснуть! В десять часов я тебя разбужу, ты нальешь мне чаю, а в одиннадцать часов я беру шляпу и спешу в департамент!
Но она стояла неподвижно, раскрывши глазки, в которых словно застыли две слезинки, появившиеся еще в начале семейной сцены. Казалось, она ровно ничего не понимала в том сумбуре, который бормотал ее муж.
– Неужели?! – тихо шептала она, покуда муж разводил свою канитель.
– Что такое «неужели»? – обиделся он.
– Неужели ты уже променял меня… меня!.. на эти дрянные бумаги? – вырвался из груди ее вопль.
– Но неужели же ты не можешь понять, что сегодня истекает срок моему отпуску? Наденька! да пойми же меня, мой друг! Я состою на службе; я служу не какому-нибудь частному лицу, а государству… Государству, голубчик мой, государству!
– Ах, это противное государство!
Горохов улыбнулся и обнял Наденьку за талию. Он понимал тайну Наденькиных восклицаний и не без основания надеялся, что с той минуты, как она назвала государство противным, дело непременно должно пойти на лад. И действительно, как только Наденька почувствовала, что он гладит ее по спине, так тотчас же все ее сомнения рассеялись. Через минуту она уже обвила руками его шею и говорила:
– Володька! гадкий! противный! не смей бумагами заниматься! Целуй меня! крепче… вот так!
Это было так мило, что даже вошедший в эту минуту в кабинет лакей Иван – и тот не мог удержаться, чтоб не улыбнуться.
На этот раз размолвка кончилась благополучно. Правда, что Горохов, вместо надлежащих развитий, наскоро закончил свой доклад так: «Посему я полагаю разделить сих людей на три категории: первую – разорить, вторую – расточить, третью – выдержав при полиции, водворить в места жительства под строгий надзор. И тогда край несомненно процветет», – но все-таки он поспел в департамент как раз за пять минут до того, как прибыл туда директор. Директор принял его милостиво, пристально посмотрел ему в глаза, как будто отыскивал там следы чего-то, и, взяв из его рук докладную записку, дружески молвил:








