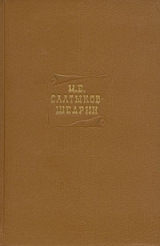
Текст книги "Том 11. Благонамеренные речи"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 50 страниц)
Действительно, ее глазки блеснули, и две маленькие слезки скатились на ее щечки. Воспоминание ли о Савве Силыче на нее подействовало, или просто взгрустнулось… так– во всяком случае, это было так мило, что я невольно подумал: а ведь этот Филофей дурак будет, если Машеньку к себе не приурочит.
Такие женщины в деревенской тиши настоящий клад. И нежна, и «Кусточков» не проглядит, и приголубить может, и весь дом обегает, за всем сама присмотрит, все прикажет. Блаженствуй! Хорошо этакую «куколку» по головке погладить и потом сказать ей: «А что, Машенька, кабы теперь вареньица!» Хорошо целовать эти глазки и читать в них, как они думают: что бы еще велеть с погреба принести! Да и не надоедлива ведь она: прибежит, сядет к тебе на колени, вспомнит, что нужно насчет белья распорядиться, – вскочит и убежит; потом опять прибежит, на колени сядет – и опять вспомнит, что Смарагдушке нужно пупочек бобковою мазью потереть… Вот настоящее utile dulce; [424]424
(сочетание) приятного с полезным.
[Закрыть]вот единственное условие, при котором никакое деревенское захолустье опостылеть не может! Но, может быть, опостылеет жизнь вообще?..
Нет, едва ли и это. По крайней мере, Филофей, наверное, совсем не так думает. Не знаю, почему мне вспал на ум этот Филофей, но я убежден, что он тут что-нибудь маклерит. Недаром два раза Машенька покраснела при его имени. Конечно, он такой же крупный и вальяжный, как и Савва Силыч, и из такого же ноздреватого известкового камня вырублен. Маленькие женщины сначала боятся таких идолов, а потом льнут к ним: защиту себе видят. Муж нервный, худощавый, болезненный не защитит. А вот как целая глыба под руками, стоит только присесть сзади, никто и не увидит. Таков первоначальный повод для привязанности, а потом, разумеется, и другие найдутся. А Машенька уж обтерпелась за Саввой Силычем, и Филофей это знает. Может быть, он и тогда, при жизни мужа, уж думал: «Мерзавец этот Савка! какую штучку поддел! вон как она ходит! ишь! ишь! так по струнке и семенит ножками!» И кто же знает, может быть, он этому Савке, другу своему, даже подсыпал чего-нибудь, чтоб поскорей завладеть этою маленькою женщиной, которая так охотно пойдет за тем, кто первый возьмет ее за ручку, и потом всю жизнь будет семенить ножками по струнке супружества!
Но это была уже уголовщина, и я поспешил опомниться. Машенька правду сказала: нельзя со мной серьезно говорить! Сейчас я на окольную дорогу сверну и начну совсем о другом. И с какой стати я к этому Филофею привязался! Может быть, это просто семинарист какой-нибудь – и сам семинарист, и, кроме того, еще друг покойного семинариста, – который, по старой сквалыжнической привычке, заезжает в Березники, на перепутье из деревни в земскую управу, потому только, что у Машеньки сладенько поесть можно! Приедет, наестся, выспится, наговорит изречений из старых прописей – и отправится дальше…
Покуда я так размышлял, доложили, что пришел Анисимушко.
Анисимушко – старик древний, лет под восемьдесят, но еще бодрый на вид, хотя и ходит с палкою. Осанку он имеет важную, лицо почтенное, выражающее, что он себе цену понимает. Садится, не дожидаясь позволения, и говорит барыне «ты». Вообще, это одна из тех личностей, без совета с которыми, при крепостном праве, помещики шагу не делали, которых называли «министрами» и которые пользовались привилегией «говорить правду», но не забываться, подобно тем своим знатным современникам, которые, в более высокой сфере, имели привилегию
Истину царям с улыбкой говорить… *
Анисимушко вошел степенно, важно; не торопясь помолился в восточный угол, где висел образ, потом поклонился мне и барыне и сел.
– Вот и Анисимушко, рекомендую! – произнесла Машенька, – мой советчик, руководитель и, можно сказать даже, друг. Надеюсь, что ты позволишь нам поговорить?
– Ах, сделай одолжение!
– Ну, что, Анисимушко, скажешь?
– Клинцы, сударыня, продают.
– Это где?
– Рядом с Ульянцевом. Пустошонка десятин с сорок, побольше, будет.
– А земля какова?
– Земля не то чтобы… Покосишко есть… не слишком тоже… леску тоже молоденького десятинки с две найдется… земля не очень… Только больно уж близко к Ульянцеву подошла!
– Дорого просят?
– Дорого. Восемьсот; по двадцати рублей за десятину на круг.
– Ой! что ты!
Машенька даже испугалась громадности цифры.
– А купить все-таки надо будет, – солидно продолжал Анисимушко.
– Ни за что! Разориться мне, что ли, прикажешь!
И она растерянно взглянула на меня. Наверное, она вспомнила недавние свои инсинуации насчет Лукьяныча и хотела угадать, не думаю ли я того же самого об ее Анисимушке.
– До разоренья еще далеко, – иронически возражал Анисимушко, – ты сначала выслушай!
– Помилуй, Анисимушко!
– Слушай-ко. Первое дело – ульянцевские сейчас за нее тысячу дают. Сегодня ты восемьсот дашь, а завтра тысячу получишь.
– Так отчего ж они не покупают! Тысячу-то тысячу, да, может быть, в рассрочку?
– И не в рассрочку, а деньги на стол. Да, вишь, барин негодованье на них имеет, судились они с ним за эту самую землю – он ее у них и оттягал. Вот теперь он и говорит: «Мне эта земля не нужна, только я хоть задаром ее первому встречному отдам, а вам, распостылые, не продам!»
– Ах, боже мой! да если ты говоришь, что эта земля так им нужна, зачем же ее продавать! Можно и так с пользою отдавать им же в кортому!
– Ему это не рука, барину-то, потому он на теплые воды спешит. А для нас, ежели купить ее, – хорошо будет. К тому я и веду, что продавать не надобно – и так по четыре рубля в год за десятину на круг дадут. Земля-то клином в ихнюю угоду врезалась, им выйти-то и некуда. Беспременно по четыре рубля дадут, ежели не побольше.
Машенька задумалась и перебирала пальчиками, словно рассчитывала.
– Так ты думаешь, купить? – робко спросила она.
– Послушай ты моего мужицкого разума! не упущай ты этого случаю!
– Денег-то очень уж много, Анисимушко!
– Мало ли денег! Да ведь и я не с ветру говорю, а настоящее дело докладываю. Коли много денег кажется, поторговаться можно. Уступит и за семьсот. А и не уступит, все-таки упускать не след. Деньги-то, которые ты тут отдашь, словно в ламбарте будут. Еще лучше, потому что в Москву за процентами ездить не нужно, сами придут.
– А ежели мужички не будут землю кортомить?
– Христос с тобой! куда ж они от нас уйдут! Ведь это не то что от прихоти: земля, дескать, хороша! а от нужды от кровной: и нехороша земля, да надо ее взять! Верное это слово я тебе говорю: по четыре на круг дадут. И цена не то чтобы с прижимкой, а самая настоящая, христианская…
– Да уж, Анисимушко! надо по-христиански! и их тоже пожалеть нужно!
– Известное дело, и их пожалеть, про что ж я и говорю. Дело хоть обоюдное, вольное, а все же по-христиакски нужно. Потому, бог – он все видит. Ты думаешь, бог-от далеко, а он вон он! По-христиански – как возможно! не в пример лучше! И мужичкам хорошо, и тебе спокой! Так-то. Ты. тужишь, что у тебя рублик-другой промеж пальцев будто ушел, ан бог-от тебя в другом месте благословит! А совесть-то и за́все у тебя спокойна. И уснул ты сладко, и встал поутру, никакого покору за собой не знаешь! Так ли я, сударыня, говорю?
– Так, Анисимушко! Я знаю, что ты у меня добрый! Только я вот что еще сказать хотела: может быть, мужички и совсем Клинцы за себя купить пожелают – как тогда?
– Что ж, сударыня, с богом! отчего же и им, по-христиански, удовольствия не сделать! Тысячу-то теперь уж дают, а через год – и полторы давать будут, коли-ежели степенно перед ними держать себя будем!
Опять минута задумчивости; глазки грустные-грустные; подбородочек вздрагивает.
– Так уж я куплю, Анисимушко, – вздохнув, решает Машенька.
– Купи, матушка! Ты моего мужицкого ума слушайся! Потоль и служу, поколь жив.
– А уж я-то как благодарна тебе, Анисимушко! так благодарна! так благодарна! Дети! Феогност! Нонночка! велитеАнисимушку чаем напоить! С богом, Анисимушко!
В эту минуту у крыльца послышался звон колокольчика, и дети в зале всполошились.
– Дядя приехал! Дяденька! – кричали они.
Я не обманулся: это была действительно глыба. И притом глыба, покушавшаяся быть любезною и отчасти даже грациозною. Вошел он в гостиную как-то боком, приятно переплетая ногами, вынул из ушей канат, спрятал его в жилетный карман и подошел Машеньке к ручке.
– А вот и братец приехал! – рекомендовала меня Машенька, складывая губки сердечком.
– Приятно-с. Служить изволите?
– Нет, не служу, а так.
– Вот даже сейчас видно, что вы Марье Петровне родственником доводитесь! Оне тоже очень часто это слово «так» в разговоре употребляют.
Он улыбнулся и не без вожделения скосил глазами в сторону Машеньки, причем меланхолически склонил голову набок, так что я заметил под левою его скулой большой кружок английского пластыря, прикрывавший, очевидно, фистулу.
Однако замечание его смутило-таки меня. В самом деле, зачем я сказал это «так»? Что́ такое «так»? Что́ хотел я этим выразить? Вот Машенька – она действительно «так»; я н сам это давеча заметил. И для нее это нимало не предосудительно; ей это даже прелесть придает, потому что она женщина и притом вдова. Впрочем, и она, я подозреваю, больше ради прелести употребляет это слово, потому что Филофею оно нравится. А я-то зачем? Зачем я сказал: «так»? И может быть, я только не замечаю за собою, а на деле и частенько-таки этим словом щеголяю?
– Из Петербурга приехать изволили? – любезничал со мной Промптов.
– Из Петербурга.
– Большой город. Париж, говорят, обширнее; ну, да ведь то уж Вавилон. Вот мы так и своим уездным городом довольны. Везде можно пользу приносить-с. И океан, и малая капля вод – кажется, разница, а как размыслишь, то и там, и тут – везде одно и то жо солнце светит. Так ли я говорю-с?
– Да, философы утверждают…
– Скажу хота про себя: на нынешнее трехлетие званием председателя управы меня почтили. Дело оно, конечно, небольшое, а все же пользишку принести можно. Кто желает, и в таком деле пищу для труда найдет. А труд, я вам доложу, великая вещь: скуку он разгоняет. Вот и Марья Петровна трудятся – и им не скучно.
– Не скучно, а так… – как-то лениво промолвила Машенька, и на сей раз я положительно утверждаю, что она сказала это слово неспроста, а с желанием пококетничать с Филофеем.
– Вот видите: и сейчас оне это слово «так» сказали, – хихикнул он, словно у него брюшко пощекотали, – что же-с! в даме это даже очень приятно, потому дама редко когда в определенном круге мыслей находится. Дама – женщина-с, и им это простительно, и даже в них это нравится-с. Даме мужчина защиту и вспомоществование оказывать должен, а дама с своей стороны… хоть бы по части общества: гостей занять, удовольствие доставить, потанцевать, спеть, время приятно провести – вот ихнее дело.
Он опять меланхолически скосил глаза в сторону Машеньки и опять показал мне свою фистулу. «Знает ли она, что у него под скулой фистула?» – невольно спросил я себя и тут же, внимательно обсудив все обстоятельства дела, решил, что не только знает, но что даже, быть может, и пластырь-то на фистулу она сама, собственными ручками, налепляет.
– Следовательно, вам не скучно? – обратился я к нему.
– Докладываю вам: тружусь-с. Кабы не трудился, может быть, и скучал бы. Может быть, вино бы пить стал; может быть, в разврат бы впал…
– Ах, что вы, Филофей Павлыч! – испугалась Машенька.
– Не извольте, сударыня, беспокоиться: со мной этого случиться не может. Я себя очень довольно понимаю. Рюмка перед обедом, рюмка перед ужином – для желудка сварения-с… Я вот и табак прежде, от скуки, нюхал, – обратился он ко мне, – да, вижу, доброй соседушке не нравится (Машенька заалелась) – и оставил-с!
– И вы постоянно здесь живете?
– Оседлость имею – ну, и живу. Слава богу, послужил. Был в Т. советником губернского правления; теперь государя моего действительный статский советник в отставке – чего нужно! Не растратил, а, по милости божией, приобрел-с. На собственные, на трудовые денежки – наследственного-то мне родители не завещали! – купил здесь, поблизости, именьице, да и катаюсь взад да вперед: из имения в город, из города в именье. Вот к Марье Петровне на перепутье заезжаю. Чайком напоит, вареньицем полакомит, а иногда, грешным делом, и отдохнуть разрешит.
Он встал и опять, переплетая ногами, подошел Машеньке к ручке.
– Сегодня-то вы у нас ночуете? – спросила она.
– Всенепременно-с, ежели такая ваша милость будет. Я. сударыня, вчера утром фонтанель * на обеих руках открыл, так боюсь: дорогой-то в шубе сидишь, как бы не разбередить.
– Давно уж я вам про эту фонтанель советовала… что ж, и удачно?
– Нельзя лучше-с. Сегодня утром рассматривал: материя идет – отличнейшая-с. И даже сейчас уж лучше на оба уха слышу!
– Ну, и слава богу!
Новое переплетанье ногами и новое чмоканье Машенькиной ручки.
– Та́к мы здесь и живем! – сказал он, усаживаясь, – по маленьку да полегоньку, тихо да смирно, войн не объявляем, тяжб и ссор опасаемся. Живем да поживаем. В умствования не пускаемся, идей не распространяем – так-то-с! Наше дело – пользу приносить. Потому, мы – земство. Великое это, сударь, слово, хоть и неказисто на взгляд. Вот, в прошлом году, на перервинском тракте мосток через Перерву выстроили, а в будущем году, с божьею помощью, и через Воплю мост соорудим…
– Ах, да, пожалуйста, устройте! Я намеднись чуть не провалилась! – пожаловалась Машенька.
– Ах, грех какой! А вы, сударыня, осторожнее! Вот изволите, сударь, видеть! всем до нас дело! Марье Петровне мосток построить, другому – трактец починить, третьему – переправочку через ручей устроить! Ан дела-то и многонько наберется. А вы, осмелюсь спросить, писательством, кажется, заниматься изволите?
– Да, пишу.
– И это полезно, ежели в учительном духе… Мы здесь, признаться, только «Московские ведомости» выписываем, так настоящую-то литературу мало знаем.
– Братец, кажется, больше по сатирической части, – вмешалась Машенька.
– Что ж, и сатира не без пользы, коли в пределах. Ridendo castigat mores [425]425
Смех исправляет нравы.
[Закрыть]– так, кажется? Дело писателей – изображать, а дело правительства – их воздерживать. И в древности сатирики были: Ювенал, Персии, Кантемир. Даже Цицерон, временами, к сатире склонность выказывал, а Кантемира так сам блаженной памяти государь Петр Алексеич из Молдавии вывезти изволил. * Современникам, конечно, не всегда приятны ихние стрелы были, а теперь, по прошествии времени, даже в средних учебных заведениях читать не возбраняется.
– А дорого, братец, за эти сатиры дают?
– Не знаю, как тебе сказать, голубушка, не считал.
– Писатели, сударыня, подробностей этих никогда не открывают. Хотя же и не отказываются от приличного за труды вознаграждения, однако все-таки желательнее для них, чтобы другие думали, якобы они бескорыстно произведениями своего вдохновения досуги человечества услаждают. Так, сударь?
– Ну, не совсем так, но, во всяком случае, ничего определительного на вопрос Машеньки ответить не могу. Вознаграждение за литературный труд так изменчиво, что точно определить его норму почти невозможно.
– А знаете ли, братец, ведь и у нас здесь прошлым летом чуть-чуть сатирик не проявился?
– Как же-с! молодой человек один, николо-воплинского иерея сынок. Кончил курс в семинарии, да вместо того чтоб невесту искать, начал здешний уезд в сатирическом смысле описывать. Однако мы сейчас же его сократили.
– Как так?
– В настоящее время он в дальние губернии, по распоряжению, выслан-с.
– Помилуйте! за что же!
– Возмущение от него большое выходило. Чуть что – сейчас опишет и начнет, это, распространять. Все мы, сударь, человеки и человеческим слабостям причастны, а он выше всех себя мнил. Вот мы его однажды подкараулили да к господину становому, вместе с писаниями, и представили.
– Однако трудненько-таки у вас сатирику жить!
– Жить у нас, сударь, всякому можно. И даже сатирами заниматься никто не препятствует. Вот только касаться – этого, действительно, нельзя.
Разговор принимал такой любопытный оборот, что я счел долгом своим поближе вглядеться в эту известковую глыбу. Слова Промптова пахнули на меня чем-то знакомым, хотя и недосказанным; они напомнили мне о какой-то жгучей задаче, которую я постоянно старался обойти, но от разрешения которой – я это смутно чувствовал – мне ни под каким видом не избавиться. «Будь сатириком, но не касайся» – да ведь это оно, это то самое решение, которого никто до сих пор ясно не формулировал, но которое, несомненно, у всех на уме. В особенности в Петербурге на этот счет существует какое-то малодушное двоегласие. Язык говорит: «Кто же запрещает! обличайте! преследуйте! карайте!» – а в глазах в это время бегают огоньки. Ясно, что в результате такого двоегласия должно быть постоянное сатирическое беспокойство. Общечеловеческая слабость нашептывает сатирику: «Мужайся! верь словам! огоньки, – это «так»!» А опыт и подозрительность предостерегают: «Помни об огоньках, а слова – это «так»!»
И вот простой рыбарь * , какой-то безвестный Филофей, взял на себя труд разрешить задачу ясно, просто и, главное, спокойно и без огоньков. «Будь сатириком, но не касайся!» – да, это оно, оно самое! Но вот вопрос: способен ли Филофей преподать надлежащие к выполнению своего афоризма наставления? Гм… конечно, с его точки зрения, он способен. Не он ли сейчас сказал: «Подкараулили да к господину становому, вместе с писаниями, и представили»? Вот вам и исполнение. Только разрешает ли оно самую задачу? Создаст ли оно такого сатирика, который и сатиры будет писать, и в то же время «касаться» не станет? В этом-то я и позволю себе усомниться. Да и в Петербурге, по-видимому, тоже сомневаются, а вследствие этого и допускают «огоньки» в виде пальятивной меры. Пусть, мол, до времени огоньки служат предостережением, а вот ежели… Что́ «ежели»?
Под влиянием этих мыслей я еще пристальнее взглянул на высившуюся передо мною известковую глыбу: не скажет ли она еще что-нибудь, не разъяснит ли? Но, увы! глыба так заурядно, почти бессмысленно покачивалась, вместе с креслом, в котором она сидела, и при этом так маслено косила глазами по направлению к Машеньке, что мне сделалось ясно, что она ничего не сознавала. Афоризм вырвался у нее из глотки «так», без понимания, и даже без малейших претензий на дальнейшее развитие. Он представлял собою одну из тех «благонамеренных речей», которыми так изобилует среда рыбарей. Так что я, который намеревался просить разъяснений по этому поводу и даже не прочь был вступить в спор, я сразу же убедился, что самое лучшее в этом случае – это последовать мудрому правилу: не тронь навоза – не воняет.
– А знаете ли что, Филофей Павлыч, – догадалась между тем Машенька, – ведь Коронат-то у нас, пожалуй, сатириком будет?
– Разве расположение выказывает?
– Нет, вообще… Безнравственность в нем какая-то… из всех детей он какой-то… Вон и братец давеча видел…
– А вы бы, сударыня, березовой кашицей почаще… И я знавал эти примеры: в детстве не остепеняли, а со временем, от этой самой родительской слабости, люди злодеями делались.
– Ах, и я этого боюсь! боюсь я за него!
– Самое главное, сударыня, в этом разе – все силы-меры употреблять, чтоб из ребенка человек вышел. Чтобы к семейству привязанность имел, собственность чтобы уважал, отечество любил бы. Лоза, конечно, прямо этому не научит, но споспешествовать может.
– Да ведь и я тоже… вот и братец… Ах, кстати! ведь братец с Чемезовом-то кончать хочет!
– Что так-с! – огорчился Филофей, – а мы было думали, что вы здесь оснуетесь! С сестрицей бы, по соседству, видались! очень бы приятно!
– Неудобно мне.
– Очень, очень было бы приятно. А между тем и имение… хорошенькое у вас, сударь, именьице! Полезные местечки есть! Вот кабы вы «Кусточков» мужичкам не отдали – и еще бы лучше было!
– И я ему то же говорила…
– Да-с, близок локоть, да не укусишь. Это бы уж Лукьянычево дело вас предостеречь. Он обязан был разъяснить вам, что «Кусточки» – это, так сказать, узел-с…
– Слушайте! да как же я мог не отдать «Кусточков»? Ведь чемезовским крестьянам без этой земли просто жить нельзя!
– А они бы у вас кортомили ее. Вы бы христианскую цену назначили, а они бы пользовались. И им бы без обиды, и вам бы хорошая польза была.
– Да ведь они имели право на «Кусточки»! «Право» – ясно ли это, наконец! Вы сами сейчас говорили, что собственность уважать надо, а по разъяснениям-то выходит, что уважать надо не собственность, а прижимку!
Высказав это, я сейчас же догадался, что очень опрометчиво поступил, употребив слово «прижимка». Это было и слишком резко, и в то же время слишком мягко. Резко потому, что обличало во мне человека, с которым «попросту» (мы с ним «по-родственному», а он – и т. д.) объясняться нельзя; мягко потому, что Филофей, конечно, отлично понимает, что на уме-то у меня совсем другое слово было, да только не сказалось оно. Тем не менее слово произвело своп эффект: Машенька вдруг съежилась, Филофей отвратительно перекосил рот. Минуты на две разговор совершенно упал.
– А какая сегодня погода отличнейшая! – первый прервал молчание Промптов, – мягкость какая, тишина-с!
– Да, давеча, как молотили, я выходила – очень было хорошо! – отозвалась Машенька.
– Для меня, как путешественника, в особенности такая погода приятна, – с своей стороны присовокупил и я.
– Да вот и в прошлом году погода… – начала было Машенька, но не кончила, слегка зевнула и потянулась.
Молчание.
– А сколько бы вы за чемезовскую землю получить желали? – вдруг обратился ко мне Промптов, словно бы его озарила новая мысль.
– Я ведь с крестьянами в соглашение войти желаю.
– Так-с. С крестьянами – на что лучше! Они – настоящие здешние обыватели, кореннки-с. Им от земли и уйти некуда. Платежи вот с них… не очень-то, сударь, они надежны! А коли-ежели по христианству – это что и говорить! С богом, сударь! с богом-с! Впрочем, ежели бы почему-нибудь у вас не состоялось с крестьянами, просим иметь в виду-с.
Он боком повернул голову в мою сторону и любезно искривил рот в улыбку.
– Ах, что вы! – вступилась Машенька, – братцу ведь Осип Иваныч пять тысяч давал!
– Слышали и об этом-с. Впрочем, это в прошлом году Осип Иваныч такую цену давал, а нынче вряд ли. Пять тысяч – много денег-с!
– А по-вашему какая же будет цена?
– По-моему, три с половинкой, много четыре. Нет спору, есть в вашей даче местечки полезные, да покупатель ведь надвое рассчитывает: будут прибыли – мои; а убытки будут – тоже мои.
– Поэтому-то я и думаю, что с крестьянами все-таки прямее дело вести. Если и будет оттяжка в деньгах, все-таки я не более того потеряю, сколько потерял бы, уступив землю за четыре и даже за пять тысяч. А хозяева у земли между тем будут настоящие, те, которым она нужна, которые не перепродадут ее на спекуляцию, потому что, как вы сами сейчас же высказались, им и уйти от земли некуда.
– Что говорить! с крестьянами кончить – святое это дело!
Машенька опять зевнула и потянулась; било девять часов.
– Ну-с, а теперь пора тебе, Машенька, и покой дать! – сказал я, вставая и отыскивая шапку. Машенька как бы встревожилась.
– Братец! куда же? а ночевать? Я ведь надеялась, что и вечерок вместе приятно проведем! – молвила она, выражая глазками знакомую мне грусть ни об чем.
Но я уклонился и даже настоял, чтоб она не провожала меня в переднюю, что она и исполнила, слегка, разумеется, покобенившись. Одеваясь, я слышал, как она произнесла в зале:
– А Анисимушко сегодня Клинцы для меня приторговал!
Возвратившись в Чемезово, я сообщил Лукьянычу, что Промптов мне за землю четыре тысячи надавал. Он даже лопатками передернул, словно спина у него зачесалась от этого известия.
– Пронтов-то этот, – сказал он, – и с Марьей Петровной, прошлым летом, все по грибы в Филипцево да в Ковалиху ездили. Раз с пяток были.
– Ну?
– То-то. Чудно мне это тогда показалось. Чтой-то, думаю, наши грибы им полюбились! Своих роще́й девать некуда, а они всё к нам да к нам. А они вон что!
– Да, похоже на то, что присматривались.
– Так вот что, сударь. Сегодня перед вечером я к мужичкам на сходку ходил. Порешили: как-никак, а кончить надо. Стало быть, завтра чем свет опять сходку – и совсем уж с ними порешить. Сразу чтобы. А то у нас, через этого самого Пронтова, и конца-краю разговорам не будет.








