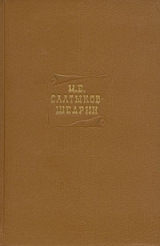
Текст книги "Том 11. Благонамеренные речи"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 50 страниц)
– Какое ребячество! – разуверял я ее, – чего же тут пугаться! Что́ такое вечность? Вечность – это красота, это истина, это добро, это жизнь духа – все, взятое вместе и распространенное в бесконечность… Мысль об вечности должна не устрашать, а утешать нас.
– Да, это так… но вечность! вечность!
– Но почему же ты вдруг заговорила о вечности? – допытывался я.
– Ах, я не знаю… но иногда… Иногда, после разговоров с тобой, мне вдруг приходит на мысль: что́ же такое мы? что́ такое вся наша жизнь?
И она так мило вздрагивала при этом, что я употреблял все усилия, чтоб утешить это прозрачное, маленькое существо.
Вообще она была большая трусиха. Бледнела при виде пробегающей мыши, бледнела, заслышав внезапный шум, но в особенности сильно трусила советника т – ской казенной палаты * , Савву Силыча Порфирьева.
Савва Силыч был рослый, тучный и рыхлый губернский сановник, с сероватым лицом, напоминавшим ноздреватый известковый камень. Он с пятнадцатилетнего возраста облюбовал Машеньку, точно предвидел, что из этого хрупкого материала можно выработать благонадежную мать семейства. Несколько раз он делал ей предложение, но Машенька все отказывала. Однако она делала эти отказы в такой форме, что Порфирьев не только не отчаялся в успехе, но продолжал по-прежнему дружески посещать дом Величкиных. Она просто говорила: боюсь.
– А боитесь, барышня, так со временем привыкнете! – любезно возражал Савва Силыч, перебирая ногами на манер влюбленного петуха, – спешить нам нечего, я подожду-с!
И, обращаясь к Петру Матвеичу Величкину, тут же, при ней же, прибавлял:
– Ничего-с! это в них девичье-с! Спешить нечего-с! Оне – в цвету-с, я – в поре-с… подождем-с!
И дождался-таки, хотя я в то время готов был сто против одного держать пари, что он никогда ничего не дождется и что никогда к грубому ноздреватому известковому камню не прикоснется нежный, хрупкий бисквит.
С тех пор прошло двадцать лет. Я совершенно потерял Машу из вида и только мельком слышал, что надежды Порфирьева осуществились и что «молодые» поселились в губернском городе Т. Я даже совершенно забыл о существовании Березников и никогда не задавался вопросом, страдает ли Маша боязнью вечности, как в былые времена. Теперь я узнал от Лукьяныча, что она два года тому назад овдовела и вновь переселилась в родные Березники; что у нее четверо детей, из которых старшей дочке – десять лет; что Березники хотя и не сохранили вполне прежнего роскошного, барского вида, но, во всяком случае, представляют ценность очень солидную; что, наконец, сама Марья Петровна…
На другой день, часу во втором, я подъезжал к Березникам. В противоположность чемезовскому и другим «дворянским гнездам», старинная березниковская усадьба и в настоящее время смотрела бодро, почти уютно. Впрочем, из всех свидетелей прежней барской жизни на широкую руку оставались только громадный дом, оранжереи и парк. Но они не были в забросе, как в большей части соседних имений, а, напротив того, с первого же взгляда можно было безошибочно сказать, что здесь живется тепло и удобно. Все лишнее, оказавшееся после упразднения крепостного права обременительным, было сломано и снесено. Я помню, так называемый красный двор был загроможден флигелями, людскими, амбарами, погребами; теперь на этом самом месте был распланирован довольно обширный сад, который посредине прорезывала Дорога, ведшая к барскому дому. Все службы были сгруппированы в одном месте, через дорогу, и бросались в глаза новыми бревенчатыми стенами. Вероятно, еще покойный Савва Силыч начал и привел к окончанию все эти преобразования, однако, и по смерти его, заботливая рука поддерживала их.
Машенька выбежала ко мне в переднюю со словами:
– Ах, родной мой… как давно! как давно!
– Машенька! ты ли… да, это ты! – в свою очередь, восклицал я.
Я сжимал ее руками за локти, словно желая приподнять, и с любовью разглядывал ее. Она почти совсем не изменилась. Передо мной стояла все та же шестнадцатилетняя Машенька, которая когда-то так «боялась вечности». Маленькая, худенькая, прозрачная, «совсем-совсем куколка», несмотря на то, что ей было уже за тридцать пять лет. В глазах по-прежнему светилось горе «ни об чем», по-прежнему вздрагивал востренький подбородок, губы, от внутреннего умиления, сложились сердечком, бровки были сдвинуты. В ее черных, как вороново крыло, волосах не было заметно ни одной сединки. Ни единой морщины на лбу и около глаз. Словом сказать, для нее как будто не было времени, тех двадцати лет, которые так придавили и доконали меня. Больной всеми старческими недугами, молча любовался я ею, внутренно переживая далекое прошлое и с каким-то удивлением встречаясь лицом к лицу с своею молодостью, тою бесплодною молодостью, которая не дала ни привычки к труду, ни предусмотрительности, ни выносливости, а только научила «нас возвышающим обманам» * .
– Да, друг мой, давно я тебя не видала, – продолжала она, вводя меня в гостиную и усаживая на диван подле себя, – многое с тех пор изменилось, а, наконец, богу угодно было испытать меня и последним ударом: неделю тому назад минуло два года, как отлетел наш ангел!
Высказавши это, она на минуту отвернула от меня лицо; вероятно, на ее глаза навернулись две крошечные слезки, которые она хотела незаметно для меня смигнуть.
– Да, слышал… Савва Силыч… Впрочем, я знал его так мало…
– Ты можешь даже сказать, что совсем не знал его. Ах, мой друг, как мы были в то время легкомысленны! Помнишь, как я боялась его! И скажу тебе откровенно, что даже после выхода замуж я года три еще боялась его; все казалось: ах, какой он большой! Глупенькая ведь я была. И представь себе: никогда он даже вида не подал, что это для него обидно. Бывало, обнимет меня рукой, а я вся дрожу. Другой бы забранил, а он, напротив, еще приголубит: «Ничего, говорит, привыкнешь! нам спешить некуда!» И точно: потихоньку да помаленьку, я и сама наконец стала удивляться, что́ можно было находить в нем страшного!
– Привыкла?
– Нет, не то что привыкла, а так как-то. Я не принуждала себя, а просто само собой сделалось. Терпелив он был. Вот и хозяйством я занялась – сама не знаю как. Когда я у папеньки жила, ничто меня не интересовало – помнишь? Любила я, правда, помечтать, а спроси, об чем – и сама сказать не сумею. А тут вдруг…
Я не мог удержаться, чтоб вновь не взять ее за руки. Да, это она! глазки, полные грустного недоумения, бровки сдвинуты, губки вот-вот сейчас сложатся сердечком… миленькая! миленькая! И я невольно подумал: «Возьми теперь эту тридцатисемилетнюю девочкуза руку и веди ее, куда тебе хочется. Вдруг– она очутится в лесу, вдруг– среди долины ровныя * , вдруг– сделается хозяйкой и матерью, вдруг– проникнется страстью к балам и пикникам. И повсюду одинаково грустно-недоумело будут смотреть ее глазки, повсюду останутся сдвинутыми ее хорошенькие бровки, а губки, в данную минуту, сложатся сердечком. И что всего важнее, нигде она не пропадет, ничем ее не собьешь, кроме разве, что найдется и еще кто-нибудь и тоже возьмет ее за ручку, и тоже поведет, куда ему хочется».
– А какой христианин он был! – лепетала она, – и какой христианской кончины удостоил его бог!
– Болен он был?
– Нет, вдруг это как-то случилось. К обеду пришел он из казенной палаты, скушал тарелку супу и говорит: «Я, Машенька, прилягу». А через час велел послать за духовником и, покуда ходили, все распоряжения сделал. Представь себе, я ничего не знала, а ведь у него очень хороший капитал был!
– Стало быть, он скрывал его от тебя?
– Нет, не то что скрывал, а я сама тогда не понимала. Прямо-то он не открывался мне, потому что я еще не готова была. Это он и перед смертью мне высказал.
– Стало быть, ты теперь обеспечена?
– Да, родной мой, благодаря святым его трудам. И вот как удивительно все на свете делается! Как я его, глупенькая, боялась – другой бы обиделся, а он даже не попомнил! Весь капитал прямо из рук в руки мне передал! Только и сказал: «Машенька! теперь я вижу по всем поступкам твоим, что ты в состоянии из моего капитала сделать полезное употребление!»
Машенька слегка заалелась и закрыла глазки платком.
– И ты совсем переселилась в Березники?
– Да, совсем; надо же было его волю исполнить.
– Разве он требовал этого?
– Да. Он прямо сказал, что в Березниках жить дешевле. Ну, и насчет помещения капитала здесь удобно. Земля нынче дешева, леса тоже. Если умненько за это дело взяться, большие деньги можно нажить.
Я вновь взглянул на нее, но на этот раз не столько с любовью, сколько с любопытством. Такая маленькая, худенькая, совсем-совсем куколка – и вдруг говорит: «большие деньги», «нажива»…
– Да отчего же Савва Силыч при жизни не скупал земель? ведь он мог бы заняться этим, конечно, с бо́льшим знанием, нежели ты?
– Ах, голубчик, в том-то и дело, что не мог! Ведь он из духовного звания происходил (и никогда он этого не стыдился, мой друг!), следственно, когда на службу поступал – разумеется, у него ничего не было! И вдруг бы у него оказался капитал – откуда? как? что́ подумали бы! Ах, мой друг, не мало он страдал от этого!
– Напрасно, мне кажется, он затруднялся этими соображениями.
– Не говори, мой родной! люди так завистливы, ах, как завистливы! Ну, он это знал и потому хранил свой капитал в тайне, только пятью процентами в год пользовался. Да и то в Москву каждый раз ездил проценты получать. Бывало, как первое марта или первое сентября, так и едет в Москву с поздним поездом. Ну, а процентные бумаги – ты сам знаешь, велика ли польза от них?
– Покойно зато.
– Да, но имеем ли мы право искать спокойствия, друг мой? Я вот тоже, когда глупенькая была, об том только и думала, как бы без заботы прожить. А выходит, что я заблуждалась. Выходит, что мы, как христиане, должны беспрерывно печься о присных наших!
– Помилуй, душа моя! ведь христианство-то прямо указывает на птиц небесных! *
– Это в древности было, голубчик! Тогда действительно было так, потому что в то время все было дешево. Вот и покойный Савва Силыч говаривал: «Древние христиане могли не жать и не сеять, а мы не можем». И батюшку, отца своего духовного, я не раз спрашивала, не грех ли я делаю, что присовокупляю, – и он тоже сказал, что по нынешнему дорогому времени некоторые грехи в обратном смысле понимать надо!
– Если так, то понятное дело, что покойный Савва Силыч должен был тяготиться, получая на свой капитал только пять процентов.
– И как еще тяготился-то! Очень-очень скучал! Представь только себе: в то время вольную продажу вина вдруг открыли * – всем ведь залоги понадобились! Давали под бумаги восемь и десять процентов, а по купонам получка – само по себе. Ты сочти: если б руки-то у него были развязаны – ведь это пятнадцать, а уж бедно-бедно тринадцать процентов на рубль он получал бы!
Высказав это, Машенька умилилась и сложила губки сердечком.
– А впрочем, он не роптал, – продолжала она, – он слишком христианин был, чтобы роптать! Однажды он только позволил себе пожаловаться на провидение – это когда откупа уничтожили, но и тут помолился богу, и все как рукой сняло.
– Что же мешало ему в отставку выйти, чтоб распорядиться с капиталом с большею выгодою?
– Ах, как это можно! В последнее время стали управляющих палатами из советников делать – ну, он и надеялся. А как он прозорлив был – так это удивительно! Всякое его слово, все, все так именно и сбылось, как он предсказывал!
– Например?
– Да вот хоть бы насчет земли. Сколько он раз, бывало, говаривал: «Машенька! паче чаянья, я умру – ты непременно зе́мли покупай! Теперь, говорит, у помещиков выкупные свидетельства пока водятся, так зе́мли еще в цене, а скоро будет, что все выкупные свидетельства проедят – тогда зе́мли нипочем покупать будет можно!» И все так именно, по его, и сбылось. Все нынче стали зе́мли распродавать, и уж так дешево, так дешево, что просто задаром. Вот я и покупаю, коли где сходно. Леса́ покупаю, зе́мли. Леса́ свожу, а землю мужичкам в кортому отдаю. Ведь им земля-то нужна, мой друг! ах, как она им нужна!
– И выгодно это?
– Так выгодно! так выгодно! Разумеется, и тут тоже надо с оглядкой поступать: какая земля? Коли земля близко к крестьянской околице лежит – ту непременно покупать следует, потому что она мужичкам нужна. Мужички за нее что хочешь дадут: боятся штрафов. Ну, а коли земля дальняя – за ту надо дешево давать, да и то если на ней молодой березник или осинничек растет. С еловым молодятником я совсем земли не покупаю, потому что туго очень эта ель растет, а вот березка да осинничек – самый это выгодный лес! И представь себе, ка́к это хорошо: ведь с первого-то взгляда кажется, что земля эта так, ничего не стоящая – ну, рублей по пяти за десятину и даешь. Смотришь, ан на ней, лет через двадцать, уж дрова порядочные будут – за ту же десятину, на худой конец, тридцать рублей дадут! Сообрази-ка теперь: ведь это в шесть раз капитал на капитал – в двадцать-то лет!
Опять умиление и опять губы сердечком. Это было до такой степени мило, что я не удержался, чтоб не спросить:
– Ну, а как насчет вечности, Машенька? не боишься… помнишь, как прежде?
– Нет, мой друг, я нынче совсем-совсем христианкой сделалась! Чего бояться вечности! надо только с верою приступать – и все легко будет! И покойный Савва Силыч говаривал: бояться вечности – только одно баловство!
– Кто же у тебя всеми этими делами орудует?
– И сама, и добрые люди советом не оставляют. Вот Анисимушко – он еще при покойном папеньке бурмистром был; ну, и Филофей Павлыч тоже.
– Какой такой Филофей Павлыч?
– Промптов. Покойного Саввы Силыча друг. Он здесь в земской управе председателем служит. Хотел вот и сегодня, по пути в город, заехать; познакомишься.
Она проговорила эти слова как-то неровно; мне показалось, что даже немного сконфузилась при этом.
– Уж не жених ли? – пошутил я, – ведь в твои годы…
– Ах, нет! ах, нет! что ты! что ты! да что ж это дети, однако ж! – продолжала она, переменяя разговор, – ведь мы тебя не ожидали сегодня, по-домашнему были – ну, и разбрелись по углам!
– А много у тебя детей?
– Четверо, мой друг. Старшенькая-то у меня дочь, Нонночка, а прочие – мальчики. Феогност – старший, Коронат – средний, а Смарагдушка – меньшой. Савва Силыч любил звучные имена.
– И ты любишь детей?
– Ах, мой друг!
Она с укором посмотрела на меня, как будто я и невесть какую ересь высказал.
– Только скажу тебе откровенно, – продолжала она, – не во всех детях я одинаковое чувство к себе вижу. Нонночка – та, можно сказать, обожает меня; Феогност тоже очень нежен, Смарагдушка – ну, этот еще дитя, а вот за Короната я боюсь. Думается, что он будет непочтителен. То есть, не то чтобы я что-нибудь заметила, а так, по всему видно, что холоден к матери!
– Извини меня, Машенька, но, право, мне кажется, что ты вздор говоришь! Ну, какие же ты могла заметить признаки непочтительности в семилетнем мальчике?
– Ах, не говори этого, друг мой! Материнское сердце далеко угадывает! Сейчас оно видит, что и как. Феогностушка подойдет – обнимет, поцелует, одним словом, все, как следует любящему дитяти, исполнит. Ну, а Коронат – нет. И то же сделает, да не так выйдет. Холоден он, ах, как холоден!
– Это бывает. Родители заберут себе случайно в голову, что ребенок неласков, да и твердят ему об этом. Ну, разумеется, он тоже смекает. Сначала только робеет, а потом и в самом деле становится холоден.
– Ах, нет, не я одна, и Савва Силыч за ним это замечал! И при этом упрям, ах, как он упрям! Ни за что́ никогда родителям удовольствия сделать не хочет! Представь себе, он однажды даже давиться вздумал!
– Что ты!
– Право! сдавил себе обеими руками шею… весь посинел!
В эту минуту дети гурьбой вбежали в гостиную. И все, точно не видали сегодня матери, устремились к ней здороваться. Первая, вприпрыжку, подбежала Нонночка и долго целовала Машу и в губки, и в глазки, и в подбородочек, и в обе ручки. Потом, тоже стремительно, упали в объятия мамаши Феогностушка и Смарагдушка. Коронат, действительно, шел как-то мешкотно и разинул рот, по-видимому, заглядевшись на чужого человека.
– Ну, вот и молодцы мои! – рекомендовала мне Машенька детей, – не правда ли, хорошие дети?
Нонночка сделала книксен; прочие шаркнули ножкой.
– Прелестные! – поспешил согласиться я, целуя всех по очереди.
– Хорошие, послушные, заботливые дети и любят свою мамашу. Не правда ли… Коронат?
Коронат, надувшись, смотрел вниз и молчал.
– Что ж ты молчишь! Любишь мамашу?.. Анна Ивановна! верно, он опять сегодня шалил!
Вопрос этот относился к молодой особе, которая вошла вслед за детьми и тоже подошла к Машенькиной ручке. Особа была крайне невзрачная, с широким, плоским лицом и притом кривая на один глаз.
– По обыкновению-с, – отвечала Анна Ивановна голосом, в котором звучала ирония; при этом единственный ее глаз блеснул даже ненавистью, которой, конечно, она не ощущала на деле, но которую, в качестве опытной гувернантки, считала долгом показывать, – очень достаточно-таки пошалил monsieur Koronat [418]418
господин Коронат.
[Закрыть].
– Ну, что же делать! оставайся, мой друг, без пирожного! – тотчас же решила Машенька, – ах, пожалуйста, не куксись! Помнишь, что говорила я тебе об дурных поступках? помнишь?
Коронат молчал.
– Mais répondez, donc! [419]419
Отвечайте же!
[Закрыть]– язвила Анна Ивановна.
– Отвечай же! помнишь? – приставала Машенька.
Но Коронат только пыхтел в ответ.
– Ну, вот видишь, какой ты безнравственный мальчик! ты даже этого утешения мамаше своей доставить не хочешь! Ну, скажи: ведь помнишь?
– Помню, – процедил сквозь зубы Коронат.
– Ну, повтори! повтори же, что́ я говорила! Вот при дяденьке повтори!
– «Дурные поступки сами в себе заключают свое осуждение» * , – произнес красный как рак Коронат, словно клещами вытянули из него эту фразу.
– Ну, видишь ли, друг мой! Вот ты себя дурно вел сегодня – следовательно, сам же себя и осудил. Не я тебя оставила без пирожного, а ты сам себя оставил. Вот и дяденька то же скажет! Не правда ли, cher cousin? [420]420
дорогой кузен?
[Закрыть]
– Ну, что касается до меня, то я полагаю, что если Коронат осудил себя сам, то он же не только может простить самого себя, но даже и даровать себе право на двойную порцию пирожного! – выразился я, стараясь, впрочем, придать моему ответу шуточный оттенок, дабы не потрясти родительского авторитета.
– Видишь, какой дяденька добрый! Ну, так и быть, для дяденьки ты получишь сегодня пирожное. Но ты должен дать ему обещание, что вперед будешь воздерживаться от дурных поступков. Обещаешься?
На Короната опять находит «норов», и он долгое время никак не соглашается «обещаться». Новое приставание: «Mais répondez donc, monsieur Koronat!» [421]421
Отвечайте же, господин Коронат!
[Закрыть]– со стороны Анны Ивановны, и «да скажи же, что обещаешься!» – со стороны Машеньки.
– Да господи! обещаюсь! – выпаливает наконец Коронат, который, по-видимому, готов лопнуть от натуги.
– Ну, теперь шаркни ножкой и поблагодари дяденьку!
Но я стремительно вскакиваю с дивана и, чтоб положить конец дальнейшим сценам, обнимаю Короната.
– Можете идти покуда в залу и побегать; а вы, chère [422]422
дорогая.
[Закрыть]Анна Ивановна, потрудитесь сказать, чтоб подавали кушать. Ах, предурной, презакоренелый у него характер! – обратилась она ко мне, указывая на удаляющегося Коронатушку и печально покачивая головкой, – очень, очень я за него опасаюсь!
– А я так нимало не опасаюсь. Вот скажи-ка мне лучше, где ты такое сокровище достала?
– Это ты про Анну Ивановну? Дешевенькая, голубчик. Всего двести рублей в год, а между тем с музыкой. Ну, конечно, иногда на платье подаришь: дурна-дурна, а нарядиться любит. Впрочем, прекраснейшего поведения. Покорна, ласкова… никогда дурного слова!
– Ну, а я все-таки не взял бы ее в гувернантки!
– Нет, мой друг; Савва Силыч – он ее из воспитательного привез – очень правильно на этот счет рассуждал. Хорошенькая-то, говаривал он, сейчас рядиться начнет, а потом, пожалуй, и глазами играть будет. Смотришь на нее – ан враг-то и попутал!
– Вот как! стало быть, он не очень-то на себя надеялся!
– Нет, не то чтобы, а так… Вообще он не любил себя искушать. В семейном быту надо верную обстановку устроивать, покойную! Вот как он говорил.
Наконец пришли доложить, что подано кушать. Признаюсь, проголодавшись после трехдневного поста, я был очень рад настоящим образом пообедать. За столом было довольно шумно, и дети, по-видимому, не особенно стеснялись, кроме, впрочем, Короната, который сидел, надувшись, рядом с Анной Ивановной и во все время ни слова не вымолвил.
– Вот видишь, какой он злопамятный! – шепнула мне по этому поводу Машенька.
– И ты не скучаешь? – спросил я Машу, когда мы, после обеда, заняли прежние места в гостиной.
– Нет, мне скучать нельзя: у меня дети, мой друг. Да и некогда. Если б занятий не было, тогда другое дело… Вот я помню, когда я в девушках была, то всегда скучала!
– Будто бы?
– Да, потому что на уме всё глупости были. Ах, ты не можешь вообразить, какая я тогда была глупая и что́ я себе представляла!
– Например?
– Ну, вот хоть бы… нет, ни за что не скажу! Помнишь, тогда сочинение это вышло… * «Les misérables» [423]423
«Отверженные».
[Закрыть], что ли… да нет, не скажу! Мне самой стыдно, как вспомнишь иногда…
Она слегка потупилась и вздохнула.
– Стало быть, это Савва Силыч выучил тебя не скучать?
– Да, все он; всему он меня научил. Он желал, чтоб я всегда была занята. Вообще он был добр, даже очень добр до меня, но насчет этого строг. Праздность не только порок, но и бедствие: она суетные мечтания порождает, а эти последние ввергают человека в духовную и материальную нищету – вот как он говорил.
– Чем же ты, при жизни его, занималась?
– Мало ли, друг мой, в доме занятий найдется? С той минуты, как утром с постели встанешь, и до той, когда вечером в постель ляжешь, – всё в занятиях. Всякому надо приготовить, за всем самой присмотреть. Конечно, все больше мелочи, но ведь ежели с мелочами справляться умеешь, тогда и большое дело не испугает тебя.
– Это тоже Савва Силыч говорил?
– Да, мой друг, он. А что?
– Ничего. Так спросилось. Хорошая мысль.
На эту тему мы беседовали довольно долго (впрочем, говорила все время почти одна она, я же, что называется, только реплику подавал), хотя и нельзя сказать, чтоб разговор этот был разнообразен или поучителен. Напротив, должно думать, что он был достаточно пресен, потому что, под конец, я таки не удержался и зевнул.
– Ах, что же я? – всполошилась она, – и не подумала, что с дороги тебе отдохнуть хочется! А еще хозяйкой себя выставляю.
– Успокойся, душа моя, я не сплю после обеда. А вот что́ я думаю: не уехать ли мне? По-настоящему, я ведь мешаю тебе!
– Ах, что ты! чем же ты мне мешать можешь! Если б и были у меня занятия, то я для родного должна их оставить. Я родных почитаю, мой друг, потому что ежели мы родных почитать не станем, то что же такое будет! И Савва Силыч всегда мне внушал, что почтение к родным есть первый наш долг. Он и об тебе вспоминал и всегда с почтением!
– Ну, если я не мешаю тебе, то тем лучше.
– А я вот что, братец. Я велю вареньица подать, нам и веселее будет. А потом и чаю; ведь ты чай любишь?
– Что ж, это прекрасно. И вареньица, и чаю – не откажусь.
– Ах, как я рада! И как это хорошо, что ты откровенно мне высказал, что́ тебе нравится. А вот другие любят, чтоб хозяева сами угадывали – вот му́ка-то!
Она взяла меня за обе руки и так грустно-грустно взглянула мне в лицо, словно хотела сказать: «Сиротка ты, бедненький! надо же тебя приголубить и подкормить!»
Через несколько минут на столе стояло пять сортов варенья и еще смоквы какие-то, тоже домашнего изделия, очень вкусные. И что всего удивительнее, нам действительно как-то веселее стало или, как выражаются крестьяне, поваднее. Я откинулся в угол на спинку дивана, ел варенье и смотрел на Машу. При огнях она казалась еще моложавее.
– Машенька! – невольно вырвалось у меня.
– Ах, ты кончил? Вот покушай еще; дай я тебе положу… морошки или крыжовнику?
– Нет, я не о том. Я все хочу тебе сказать: какая ты еще молодая! Совсем-совсем ты не изменилась с тех пор, как мы расстались!
– Это по наружности только, а внутри…
– Что такое «внутри»! Ты напускаешь на себя – и больше ничего! Право, ты так еще мила, что не грех и приволокнуться за тобой, и я уверен, что этот Филофей Павлыч…
– Ах, нет! что ты! что ты!
– Нет, признайся! Наверное, этот вертопрах…
– Во-первых, он совсем не вертопрах, а во-вторых, оставим это… Знаешь, ведь я об чем-то хотела с тобой поговорить!
– Об чем же?
– Скажи, правда ли, что ты с Чемезовом кончить хочешь?
– Правда.
– Вот как! А я все думала, что ты у меня в соседстве поселишься. Ах, как бы это было хорошо!
– Хорошо-то хорошо, да нельзя этого, голубушка. Ты знаешь, занятия, обстоятельства…
– Что такое «обстоятельства»! Не обстоятельства должны управлять человеком, а человек обстоятельствами!
– Это тоже Савва Силыч говорил?
– Да, и он.
– А Филофей Павлыч, быть может, подтверждал?
– Ах, ты опять об этом! Вот ты так не изменился! Все шутишь! А ведь я серьезный разговор хотела с тобою вести!
– Ну, будем вести серьезный разговор.
Лицо ее, действительно, приняло озабоченное выражение; бровки сдвинулись больше обыкновенного.
– Скажи, пожалуйста, на чем же ты хочешь кончить? покупатели есть? – таинственно спросила она, причем даже по сторонам огляделась, как бы желая удостовериться, не подслушивает ли кто.
– Были покупатели. Дерунов охотился, Бородавкина Заяц привозил смотреть.
– И что ж?
– Мне хотелось бы с крестьянами сделаться.
– Ах, нет! ах, пожалуйста! прошу тебя: не имей ты дела с крестьянами!
– Что так?
– Ах, это такие неблагодарные! такие неблагодарные!
– Да мне-то какое дело до того, благодарны они или неблагодарны! Я продавец, они покупатели.
– Помилуй! как это можно! они такие неблагодарные! такие неблагодарные! Представь себе, в то время… ну, вот как уставные грамоты составляли… ведь мои-то к губернатору на Савву Силыча жаловаться ходили! * Та́к он был тогда огорчен этим! та́к огорчен!
– А!
– И представь себе, какую клевету на него взвели: будто он у них Гулино отнял! У них! Гулино! знаешь: это как к селу-то подъезжаешь, у самой почти что околицы – тут у меня еще прехорошенькая сосновая рощица нынче пошла!
– Что ж? разобрали дело?
– Ну, конечно, им отказали, потому что Савва Силыч как дважды два доказал… Зато теперь они и каются: ведь им, друг мой, без Гулина-то курицы некуда выпустить!
– Как «зато»! Да ведь если б они и не жаловались, Гулино-то все-таки не осталось бы за ними!
– Ах, какой ты! Я тебе говорю: вот какие они неблагодарные, что даже на Савву Силыча жаловались! Да, мой друг! Столько мы беспокойств, столько, можно сказать, неприятностей через них имели, что Савва Силыч даже на одре смерти меня предостерег: «Прошу тебя, говорит, Машенька, никогда ты не имей дело с этими неблагодарными, а действуй по закону!»
– Однако ты, несмотря на это. имеешь-таки с ними дела! вот земли в кортому отдаешь…
– Это совсем другое дело; тут уж я по закону. Да ведь и по-христиански, мой друг, тоже судить надо. Им ведь земля-то нужна, ах, как нужна! Ну, стало быть, я по-христиански…
Она на минуту смолкла, потихоньку вздохнула и даже как бы закручинилась («миленькая!» мелькнуло у меня в голове).
– Ты не поверишь, как они бедны! ах, как бедны! – продолжала она таким голосом, как будто ей вот-вот сейчас душу на части начнут рвать. – И представь себе, бедны, а в кабаке у меня всегда толпа!
– Ты и кабак устроила?
– Да, тут у нас строеньице ненужное осталось, так Анисимушко присоветовал. Ведь это выгодно, родной мой!
– Да?
– Очень, очень даже выгодно. Но представь себе: именно все, как говорил покойный Савва Силыч, все так, по его, и сбывается. Еще в то время, как в первый раз вину волю сказали, – уж и тогда он высказался: «Курить вино – нет моего совета, а кабаки держать – можно хорошую пользу получить!»
– Машенька! ты милая! – невольно вскрикнул я и – каюсь – не удержался-таки, поцеловал ее в щечку.
– Что ты! дети… ах, какой ты! – застыдилась она.
– Ну, хорошо, хорошо! не стану! Так что́ же ты мне насчет Чемезова-то сказать хотела?
Она на мгновенье задумалась, потом вдруг все лицо ее словно озарилось.
– Знаешь ли что! – вскрикнула она почти восторженно, – Лукьяныч обманывает тебя!
– Что ты! Христос с тобой! Старику семьдесят лет!
– Говорю тебе, обманывает! это так верно, так верно…
– Ну, оставим это! пускай себе обманывает, а мы возьмем да перехитрим его. Что же ты мне еще скажешь?
– А вот что, мой друг. Признаюсь, я очень, даже очень в твое дело вникала. И могу сказать одно: жаль, что ты «Кусточки» в то время крестьянам отдал! И Савва Силыч говорил: «Испортил братец все свое имение».
– Помилуй! да ведь «Кусточки» как раз около Чемезова; крестьянам и обойтись без них невозможно! Да и всегда, и при крепостном праве, «Кусточками» крестьяне владели!
– В том-то и дело, друг мой, что крестьянам эта земля нужна – в этом-то и выгода твоя! А владели ли они или не владели – это всегда обделать было можно: Савва Силыч с удовольствием бы для родного похлопотал. Не отдай ты эти «Кусточки» – ведь цены бы теперь твоему имению не было!
– Да что ж об «Кусточках» говорить, коли они уж отданы! А без «Кусточков» как велика, по-твоему, цена за всю землю?
– А сколько Осип Иваныч (Дерунов) тебе давал?
– Пять тысяч.
– Как тебе сказать, мой друг! Я бы на твоем месте продала. Конечно, кабы здесь жить… хорошенькие в твоем именье местечки есть… Вот хоть бы Филипцево… хорош, очень хорош лесок!.. Признаться сказать, и я иногда подумывала твое Чемезово купить – все-таки ты мне родной! – ну, а пяти тысяч не дала бы! Пять тысяч – большие деньги! Ах, какие это большие деньги, мой друг! Вот кабы «Кусточки»…
– Дались тебе «Кусточки»! Каких-нибудь двадцать десятин!
– Двадцать десятин, а за двести ответят! Это и Анисимушко скажет тебе. Вот почему я и думаю: обманывает тебя Лукьяныч! Ну, так обманывает! так обманывает!
– Да полно же, ради Христа!
– Нет, мой друг, это дело надо разыскать. Если б он верный слуга тебе был, согласился ли бы он допустить, чтоб ты такое невыгодное условие для себя сделал? Вот Анисимушко – тот прямо Савве Силычу сказал: «Держитесь Гулина, ни за что крестьянам его не отрезывайте!» Ну, Савва Силыч и послушался.
– Слушай! да ведь я сам уставную-то грамоту и составил и подписал!
– Все-таки. Кабы Лукьяныч настоящий христианин был – все бы ему следовало тебя предостеречь!
– Машенька! клянусь, ты милая!
– Ну, видишь ли! я ведь знала, что с тобой серьезно нельзя говорить. Всегда ты был такой; всегда в тебе эта неосновательность была. С тобой серьезно говорят, а у тебя всё мысли какие-то. И Савва Силыч это замечал; а он очень тебя любил.
– За что ж он меня любил?
– Он всех родных вообще почитал. Он всегда… он такой… Ну вот, ты и опять этими воспоминаниями расстроил меня, друг мой!








