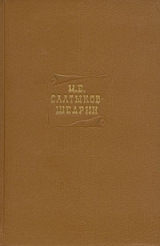
Текст книги "Том 11. Благонамеренные речи"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 50 страниц)
– Много денег давать не надо. Он тоже ловок на чужие-то деньги чай пить. Вы сами-то не давайте, ко мне посылайте.
Лукьяныч уходит и через минуту является вместе с Зайцем. Это среднего роста человек, жиденький, белокуренький, с подстриженною рыжеватою бородкой, с маленькими бегающими глазками, обрамленными розовыми, как у кролика, веками, с востреньким носом. Вообще фигурой своей он напоминает отчасти лисицу, отчасти зайца. Одет щеголем: в синей тонкого сукна сибирке, подпоясанной алым кушаком, посверх которой надет такой же синий армяк; на ногах высокие смазные сапоги. Подходит он на цыпочках, почти неслышно, к самому столу, за которым я сижу. К разговору приступает шепотом, словно секрет выведать хочет. При этом беспрерывно оглядывается по сторонам и при малейшем шорохе вздрагивает.
– Здравствуйте.
– Здравствуйте.
– Наслышаны, что ваша милость вотчину продать желаете?
– Да, желал бы.
– Так-с. А какая, примерно, цена ваша будет?
– Да вы осматривали дачу-то?
– Даже очень довольно смотрели. Мы, ваше благородие, здешние жители. Может, около каждого куста раз десять обошли. Очень довольно знаем. В Филипцеве это точно, что есть лесок, а в прочиих местах лет двадцать настоящего лесу дожидаться надо!
– Мне кажется, однако, что и в некоторых других пустошах порядочный лес есть.
– Помилуйте, ваше благородие! позвольте вам доложить! Лес, одно слово, это такое дело: возьмем теперича одну десятину – ей одна цена; возьмем другую десятину – ей другая иена! Стало быть, коли-ежели я или, к примеру, другой покупщик…
– Постой, Федор Никитич! – вмешивается Лукьяныч, – ты ведь не для себя торговаться пришел! Зачем же ты наш лес хаишь! А ты похвали! Может, от твоего-то слова, где и нет лесу – он вырастет!
– Это так точно-с. Главная причина, как его показать покупателю. Можно теперича и так показать, что куда он ни взглянул, везде у него лес в глазах будет, и так показать, что он только одну редочь увидит. Проехал я давеча Ковалихой; в бочку-то, направо-то… ах, хорош лесок! Ну, а ежели полевее-взять – пильщикам заплатить не из чего!
– А ты бы вот съездил да показал барину-то, как оно по-твоему выходит!
– Чего же лучше-с! Вот не угодно ли на моей лошади хоть в Филипцево съездить. И Степана Лукьяныча с собой захватим.
Поехали. Я с Зайцем сел рядом; Лукьяныч спустился корпусом в тележный рыдван, а ноги взодрал на ободок. Заяц был видимо польщен и весело пошевеливал вожжами; он напоминал собой фокусника, собирающегося показать свои лучшие фокусы и нимало не сомневающегося, что публика останется им довольна. С полчаса мы ехали дорогою, потом свернули в сторону и поехали целиком по луговине, там и сям усеянной небольшими куртинами березника, перемешанного с осиною. Долго мы кружили тут и всё никак не доедем до Филипцева, то есть до «настоящего» леса. Выдастся местами изрядная десятинка, мелькнет – и опять пошла писать редочь.
– Да ты что такое показываешь? – воззрился наконец Лукьяныч.
– Филипцево показываю! или своего места не узнал! Вон и осина, на которой прошлою осенью Онисим Дылда повесился!
Лукьяныч не выдержал и выругался, чем, впрочем, Заяц нимало не смутился.
– Теперича как, по-вашему? Много ли, примерно, ваше Филипцево стоит? – обратился он ко мне.
– Да, но ведь…
– Это так точно-с! Однако, вот хоть бы ваша милость! говорите вы теперича мне: покажи, мол, Федор, Филипцево! Смею ли я, примерно, не показать? Так точно и другой покупщик: покажи, скажет, Федор, Филипцево, – должен ли я, значит, ему удовольствие сделать? Стало быть, я и показываю. А можно, пожалуй, и по-другому показать… но, но! пошевеливай! – крикнул он на коня, замедлившего ход на дороге, усеянной целым переплетом древесных корней.
Через пять минут мы опять выехали на торную дорогу, с которой уже нельзя было своротить, потому что по обеим ее сторонам стояла сплошная стена высоких и толстых елей.
– Вот и опять то же Филипцево, только в этом самом месте цены ему нет! – с некоторым торжеством провозгласил Заяц.
– Да вы зачем же показываете либо одно, либо другое! Вы бы, как следует, всё показали!
– Помилуйте! позвольте вам доложить! Неужто я своего дела не знаю! К примеру, возьмем теперича хоть покупателя – могу ли я его принуждать! Привез я его теперича хоть в это самое место, показал ему; он сейчас взглянул: «Ах, хорош лесок, Федор!» Главная причина, значит, облюбовал. Что же я теперича против этого сделать могу? Само собой, чтобы, примерно, в ответе перед ним не остаться, скажешь ему: не весь, мол, такой лес, есть и прогалинки. Однако, как он сразу в своем деле уверился, так тут ему что хочешь говори: он всё мимо ушей пропущает! «Айда домой, Федор! – говорит, – лес первый сорт! нечего и смотреть больше! теперь только маклери, как бы подешевле нам этот лес купить!» И купит, и цену хорошую даст, потому что он настоящий лес видел! А как начнешь с редочи-то показывать, так после хоть и привези его сюда, к настоящему лесу, – он все про редочь поминать будет!
– Скажите, вы имеете в виду какого-нибудь покупщика?
– У меня, ваше благородие, по здешней округе очень знакомства довольно. Хорошие господа доверяют мне, а не то чтобы что́! Ну, и купцы тоже: и в Р., и в К., и в Т. *
– Дерунова вы знаете?
– Как не знать Осипа Иваныча! Довольно знаем. Послужил тоже его степенству. Да признаться, зацепочка, этта, небольшая у нас вышла.
– А что?
– Да так-с. Тоже онамеднись лес показывал, генерал Го-лозадов продавал. Признаться, маленько спапашился я тогда, а молодец дсруновский и догадайся. Очень они на меня в ту пору обиделись, Осип-то Иваныч!
– Чай, и за вихры досталось! – вставил свое слово Лукьяныч.
– Этого бог еще миловал. Сколько на свете живу, а за вихры, кроме тятеньки с маменькой, никто еще не дирал. А не велел, значит, Осип Иваныч до себя допущать.
– Да, брат, ваша должность тоже – и-и! Плутовать – плутуй, а по сторонам не заглядывайся!
– Наша должность, ваше благородие, осмелюсь вам доложить, даже очень довольно строгая. Смо́трите, примерно, тепереча хоть вы, или другой кто: гуляет, мол Федор, в баклуши бьет! А я, между прочим, нисколько не гуляю, все промежду себя обдумываю. Как, значит, кому угодить и кому что́, к примеру, требуется. Все это я завсегда на замечании держать должен. К примеру, хошь бы такой случай: иной купец сам доходит, а другой – через прикащиков.
– С прикащиками, я думаю, скорее дело-то сделаешь!
– И прикащик прикащику розь, Степан Лукьяныч, – вот как надо сказать. Одно дело деруновский прикащик, и одно дело – владыкинский прикащик. А в прочиих частях, разумеется, коли-ежели господин маслица не пожалеет, с прикащиком все-таки складнее дело сделать можно.
– Подкупить, значит, нужно?
– Зачем покупать? а просто, к примеру, пообещать. Копейки, что ли, с рубля, или хоша бы и две, если, значит, дело хорошо доложит хозяину.
– Ну, две-то копейки – это, брат, ты соврал? – вступился Лукьяныч, – копейку – это точно! это по-христиански будет!
– Эх, Степан Лукьяныч, как это, братец, ты говоришь: «соврал!» Могу ли я теперича господина обманывать! Может, я через это самое кусок хлеба себе получить надеюсь, а ты говоришь: «соврал!» А я все одно, что перед богом, то и перед господином! Возьмем теперича хоть это самое Филипцево! Будем говорить так: что для господина приятнее, пять ли тысяч за него получить или три? Сказывай!
– Оно, конечно, кабы пять… да навряд…
– Ты говоришь: навряд, а я тебе говорю: никто как бог! Владыкина Петра Семеныча знаешь?
– Слыхивал.
– А слыхивал, так и про Тихона Иванова, про прикащика его, значит, слыхивал. Вот ужо поеду в К-, шепну Тихону Иванову: Тихон, мол, Иваныч! доложите, мол, хозяину, что хороший барин лесок продает!
– Да, кабы пять тысяч… не жаль бы и двух копеек…
– И не пять тысяч, а больше даст – вот что! Потому, сейчас ты его в трактир сводил, закуску потрафил: «Тихон Иваныч! сделай милость!»
– Закуска – это точно; закуска – это первое дело!
Заяц постепенно разгорячался и начал лгать; с своей стороны, и Лукьяныч, постепенно поддаваясь обаянию лганья, с каким-то беззаветным простодушием вторил ему.
– Потому что у нас всё на чести! – ораторствовал Заяц. – Будем так говорить: барин лес продает, а Тихон Иванов его осматривает. В одном месте посмотрит – ах, хорош лесок! в другом поглядит – вот так, брат, лесок! Правильно ли я говорю?
– Это так… правильно… это так точно!
– Ты думаешь, мало у вас в Филипцеве добра?
– Мало ли тут добра!
– Я тебе вот как скажу: будь я теперича при капитале – не глядя бы, семь тысяч за него дал! Потому что, сейчас бы я первым делом этот самый лес рассертировал. Начать хоть со строевого… видел, какие по дороге деревья-то стоят… ужастёенные!
– Мало ли тут дерева! Хоть в какую угодно стройку!
– Хорошо. Стало быть: перво-наперво строевой лес… сколько тут, по-твоему, корней будет? Тысячи три будет?
– Коли не побольше… как трех тысяч не быть!
– Ну, клади три!.. Ан дерево-то, оно три рубля… на ме-е-сте! А на станции за него дашь и шесть рублей… как калач! Вот уж девять тысяч. А потом дрова… Сколько тут дров-то!
– Мало ли тут дров!
– Опять же товарник… сучья… по нашему месту всякий сучок денег стоит! А земля-то! земля-то ведь опять за покупателем останется!
– И опять по ней лес пойдет!
– И какой еще лес-то пойдет! В десять лет и не узнаешь, была ли тут рубка или нет! Место же здесь боровое, ходкое!
– Эхма!
– А я что же говорю! Я то же и говорю: кабы теперича капитал в руки – сейчас бы я это самое Филипцево… то есть, ни в жизнь бы никому не уступил! Да тут, коли человек с дарованием… тут конца-краю деньгам не будет!
– Так ты так и действуй. Улещай покупателя. Старайся.
– И то стараюсь. Потому вижу: господин добрый, неведущий – для кого же нам и стараться-то! Слава богу! я всем господам по здешнему месту довольно известен! Голозадов генерал, Порфирьев господин… все хоть сейчас аттестат мне подписать готовы!
– Вот ты об Владыкине давеча помянул… так он вряд ли у нас купит. Он, слышь, у кандауровского барина всю Палестину торгует! У нас ему не рука.
– А Владыкин не захочет, так к Бородавкину, к Филиппу Ильичу, толкнемся. Мужик денежный. Этот сам осматривать поедет, прикащику не поручит.
– Ну, самому-то двух копеечек не посулишь!
– У этого опять другой фортель: пуншт любит. Как приехал – так чтобы сейчас ему пуншт готов был! И пьет он этот пуншт, докуда глаза у него круглые не сделаются! А в ту пору что хошь, то у него и бери!
– Проспится небось?
– Проспится – и опять, чтобы сейчас пуншт! Само собой, уж тут не зевай. Главная причина, все так подстроить, чтобы в эвтом самом виде хорошей неустойкой его обязать. Страсть, как он этих неустоек боится! Словно робенок!
– Ишь ты, парень!
– А Бородавкин ежели не поедет – Хмелева Павла Фомича за бока приволокем! И насчет его опять есть фортель: амбицию большую имеет! Скажи ему только: «Дерунов, мол, Осип Иваныч, пять тысяч давал», – сейчас он, не глядя, шесть тысяч отвалит!
– Житье им, этим аршинникам!
– И какое еще житье-то! Скажем, к примеру, хоть об том же Хмелеве – давно ли он серым мужиком состоял! И вдруг ему господь разум развязал! Зачал он и направо загребать, и налево загребать… Страсть! Сядет, это, словно кот в темном углу, выпустит когти и ждет… только глаза мерцают!
Из Филипцева заехали мы в Опалиху, а по дороге осмотрели и Волчьи Ямы. И тут оказалось то же: полевее проехать – цены нет, поправее взять – вся цена грош.
– Главная причина ка́к показать! – настойчиво утверждает Заяц.
– Это что и говорить! Ка́к показать… это так точно! – вторит ему Лукьяныч.
Словно во сне слушаю я этот разговор. В ушах моих раздаются слова: «фортель… загребать… ка́к показать… никто как бог… тысячи, три тысячи… семь тысяч…» Картины, одна другой фантастичнее, рисуются в моем воображении. То мне кажется, что я волк, а все эти Деруновы, Владыкины, Хмелевы, Бородавкины – мирно пасущееся стадо баранов, ввиду которого я сижу и щелкаю зубами. И вот я начинаю гарцевать и, распустив хвост по ветру, описываю круги. Один смелый прыжок – и я уже там, в самой середине стада! Но, о ужас! Не успел я еще хорошенько раскрыть пасть, как все эти бараны, вместо того чтобы смиренно подставить мне свои загривки, вдруг оскаливают на меня зубы и поднимают победный вой! Картина переменяется. Я оказываюсь не волком, а бараном, на которого Заяц обманным образом напялил волчью шкуру! Я слышу хохот и вой: «жарь его!» «наяривай!» «накладывай!» «в загривок-то! в загривок его!» раздается в моих ушах: «дурак! дурак! дурак!»
Пообедавши, Заяц уехал.
– Ты смотри! по сторонам не заглядывайся! за это, брат, тоже не похвалят! – напутствовал его Лукьяныч.
– Зачем по сторонам глядеть! мы на чести дело поведем! Счастливо оставаться, ваше благородие! Увидите, коли я завтра же вам Бородавкина Филиппа Ильича не предоставлю!
Тележка загремела, и вскоре целое облако пыли окутало и ее, и фигуру деревенского маклера. Я сел на крыльцо, а Лукьяныч встал несколько поодаль, одну руку положив поперек груди, а другою упершись в подбородок. Некоторое время мы молчали. На дворе была тишь; солнце стояло низко; в воздухе чуялась вечерняя свежесть, и весь он был пропитан ароматом от только что зацветших лип.
– Ишь ведь! – вдруг отозвался Лукьяныч, озирая глазами высь и отирая платком пот, выступивший на лбу.
– Да, брат, хорошо теперь на вольном воздухе.
– И не вышел бы!
В самом деле, так было хорошо среди этой тишины, этой теплыни угасающего дня, этих благоуханий, что разговор наш непременно принял бы сентиментальный характер, если б изредка долетавший стук Зайцевой тележки не возвращал нас к действительности.
– Не нравится мне этот Заяц, – сказал я.
– Чего в нем нравиться!
– Зачем же ты привел его?
– А нам разве «нравиться» надо! Нам нужно, чтоб дело сделал, а там, пожалуй, хоть век его не видать!
– Однако ведь ты сам видишь, что он просто-напросто мошенник!
– Мошенник – много про него сказать. А лодырь!.. нестоющий, значит, человек!
– Вот, ты говоришь: «нестоющий человек», а между тем сам же его привел! Как же так жить! Ну, скажи, можно ли жить, когда без подвоха никакого дела сделать нельзя!
– Живем помаленьку. Стало быть, не до конца еще прегрешили.
– Да ты пойми же, Лукьяныч, вот завтра Бородавкин приедет: неужто ж и в самом деле ты будешь его пуншем спаивать?
– А коли ему нравится! пущай пьет!
– Да ведь это значит прямо мошенничать! С пьяным человеком в сделку входить!
Лукьяныч изумленными глазами взглянул на меня.
– Да никак вы в сам-деле думаете, что вы Бородавкина обидеть можете? – удивился он.
– Обидеть! Не обидеть, а коли по-твоему делать, так просто-напросто обмануть!
– Христос с вами! Да вы слыхали ли про Бородавкина-то! Он ведь два раза невинно падшим объявлялся * ! Два раза в остроге сидел и всякий раз чист выходил! На-тко! нашли кого обмануть! Да его и пунштом-то для того только поят, чтобы он не слишком уж лют был!
Сказавши это, Лукьяныч махнул рукой и ушел в свое логово готовиться к завтрашнему дню. Через полчаса вышел оттуда еще такой же ветхий старик и начал, вместе с Лукьяны-чем, запрягать в одноколку мерина.
Посылали в город за кизляркой и другими припасами для предстоящих «пунштов».
Но я не выдержал.
Ежедневные разъезды по одним и тем же местам, беспрерывные разговоры об одних и тех же предметах до того расшатали мои нервы, что мне почти всю ночь не спалось. Передо мной, в течение нескольких бессонных часов, прошли все подробности любостяжательной драмы, которой я был очевидцем и участником. Вспомнился благолепный Дерунов и его самодовольные предики насчет «бунтов», в которых так ясно выразилась наша столповая мораль; вспомнилась свита мелких торгашей-прасолов, которые в течение целого месяца, с утра до вечера, держали меня в осаде и которые хотя и не успели еще, подобно Дерунову, уловить вселенную, но уже имели наготове все нужные для этого уловления мрежи; вспомнилась и бесконечная канитель разговоров между Лукьянычем и бесчисленными претендентами на обладание разрозненными клочьями некогда великолепного чемезовского имения…
Эти разговоры в особенности раздражали меня. Все они велись в одной и той же форме, все одинаково не имели никакого содержания, кроме совершенно бессмысленной укоризны. На русском языке даже выработался особенный термин для характеристики подобных разговоров. Этот термин: «собачиться».
– А ты настоящую цену давай! – собачился, например, Лукьяныч.
– И то настоящую цену даем! – с своей стороны, отсобачивался прасол-покупщик.
– А ты дело говори!
– И то дело говорим!
– Слушай! сколько ты тут дров напилить хочешь?
– Сколько напилим – все наше будет.
– Опять товарник! Ты думаешь, сколько ты товарнику тут напилишь?
– Опять-таки, сколько ни напилим – все наше будет!
– Бога ты не боишься!
– Ты один, видно, боишься!
И так далее, до тех пор, пока запас «собаченья» не истощался на время. Тогда наступало затишье, в продолжение которого Лукьяныч пощипывал бородку, язвительно взглядывал на покупателя, а покупатель упорно смотрел в угол. Но обыкновенно Лукьяныч не выдерживал и, по прошествии нескольких минут, с судорожным движением хватался за счеты и начинал на них выкладывать какие-то фантастические суммы.
– Слушай! Боишься ли ты бога! – принимался он вновь за прежнюю канитель укоризн.
Вспомнился мне, наконец, и Заяц, за несколько часов перед тем с такою бесцеремонною торжественностью посвящавший меня в тайны искусства «показывания», которого я некогда был жертвою.
Теперь это искусство «показывания» уже не меня обездоливало, а, напротив того, мнепредлагало свои услуги.
Ясно, что передо мной, в течение целого месяца, каждодневно производился тот самый акт «потрясания», который поселяет такой наивный ужас в сердцах наших столпов. Да, это было оно, это было «потрясание», и вот эти люди, которые так охотно бледнеют при произнесении самого невинного из заклейменных преданием «страшных слов», – эти люди, говорю я, по-видимому, даже и не подозревают, что рядом с ними, чуть ли не ими самими, каждый час, каждую минуту, производится самое действительное из всех потрясаний, какое только может придумать человеческая злонамеренность!
И с какою наивною бессознательностью, с каким простодушным неведением производится этот акт «потрясания общественных основ». Это даже не акт, а почти простой обряд. Даже добряк Лукьяныч, которому, конечно, и на мысль никогда не приходило кого-нибудь ограбить, и тот является чуть не грабителем или, по крайней мере, попустителем и пособником грабежа. Не услаждался ли он всем существом своим фокусами «показывания», представленными Зайцем? Не послал ли он в город за кизляркой, в надежде, что Бородавкин, под влиянием «пунштов», ходчее пойдет в устроиваемую ему Зайцем ловушку?
И чем дольше я думал, тем больше и больше таяла моя недавняя решимость действовать с умом. И по мере того как она исчезала, на ее место, сначала робко, но потом все настойчивее и настойчивее, всплывала другая решимость: бросить! Бросить все и бежать!
Как-то вдруг для меня сделалось совсем ясно, что мне совсем не к лицу ни продавать, ни покупать, ни даже ликвидировать. Что мое место совсем не тут, не в мире продаж, войн, трактатов и союзов, а где-то в безвестном углу, из которого мне никто не препятствовал бы кричать вслед несущейся мимо меня жизни: возьми всё – и отстань!..
Утром, едва я успел забыться тревожным сном, как меня разбудил гром и звон, раздававшийся на дворе. Одевшись наскоро, я выбежал на крыльцо, и глазам моим представилась картина необычной для Чемезова суеты. Старики и старухи, мирно доживавшие свой век в подвальных этажах барского дома, все разом выползли на барский двор, сновали взад и вперед, от амбара к кладовой, от кладовой к погребу, гремели ключами, отпирали, запирали, что-то вынимали, несли. У конюшни стояла крытая ямская повозка; вблизи нее, на лужку, ходили три спутанные лошади и кормились, встряхивая бубенчиками. На вопрос мой, что случилось, мне отвечали, что приехал купец Бородавкин и вместе с Зайцем и Лукьянычем отправился осматривать дачу.
Я ждал довольно долго. Наконец, часа через три, осторожно, словно крадучись, вошел в мою комнату Заяц. Лицо его, в буквальном смысле слова, было усеяно каплями пота и выражало таинственность и озабоченность.
– Желают вас видеть, – доложил он шепотом.
Я чувствовал, что решительный час настал; но все еще колебался.
– Ваше высокоблагородие! позвольте вам доложить! – продолжал он таинственно, – они теперича в таком пункте состоят, что всего у них, значит, просить можно. Коли-ежели, к примеру, всю дачу продать пожелаете – они всю дачу купят; коли-ежели пустошь какую, или парки, или хоша бы и дом – они и на это согласны! Словом сказать, с их стороны на всё согласие будет полное!
И надо было видеть его изумление и даже почти негодование, когда я объявил ему, что в настоящую минуту ничего продавать не намерен!!








