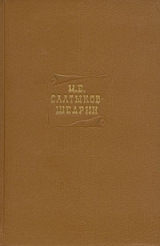
Текст книги "Том 11. Благонамеренные речи"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 44 (всего у книги 50 страниц)
Сквозник-Дмухановский– городничий из гоголевского «Ревизора», начальник Держиморды.
…это своего рода habeas corpus. – Иронический намек на положение личности в условиях политического бесправия при самодержавии и хищничество его полицейского аппарата. Возникновение термина английского законодательства habeas corpus, обозначающего гарантии личной свободы, исторически связано с парламентским биллем 1679 года, направленным против произвольных арестов и неограниченных сроков заключения противников монархии.
…Верхоянск вольным городом сделать и порто-франко в нех учредить. – Намек на дело о «сибирских сепаратистах» (см. стр. 576 в т. 7 наст. изд.) или на «кружок сибиряков», привлекавшихся по «нечаевскому делу» (см. стр. 782 в т. 10). Порто-франко– портовые города, свободные от таможенного надзора.
Соглядатай-француз<…> не полезет в заговор<…> русский соглядатай<…> сам напишет прокламацию. – Возможно, намек на В. Костомарова, предавшего Михайлова и Чернышевского: он втерся к ним в доверие, показав отпечатанное в тайной домашней типографии свое антиправительственное стихотворение.
…созрели мы или не созрели… – В 1859 году Е. И. Ламанский на одном из диспутов заявил, что для публичного обсуждения общественных вопросов « мы еще не созрели». Эту фразу подхватила демократическая журналистика, высмеивавшая рассуждения консервативной печати о «незрелости» русского общества, неподготовленности к реформам (см., например, РМ, 1872, № 227, 3 сентября).
…Анпетов пригласил нескольких крестьян<…> Это почти что «droit au travail»! – Доходы в артели Анпетова распределяются в соответствии с программой французских социалистов-утопистов по осуществлению «союза труда и капитала», в котором накопления делаются за счет эксплуатации труда капиталом. Салтыков показывает, что устроенная Анпетовым «артель» является капиталистической (см. Р. Левита. Общественно-экономические взгляды Салтыкова-Щедрина, Калуга, 1961, стр. 212–213). « Droit au travail» – пункт «Декларации прав человека и гражданина» Великой французской революции конца XVIII века, внесенный при якобинской диктатуре.
Некако– как-то, как будто ( церковнослав.).
…у Островского две свахи есть: сваха по дворянству и сваха по купечеству. – В комедии «Бедная невеста».
…у вас же довелось мне вычитать выражение: «ожидать поступков». – В очерке «Столп» (см. стр. 110), который в журнальной публикации предшествовал «Охранителям».
…в моей к-ской резиденции… – то есть в Калязине.
«Miserere». – Здесь: ария из оперы Дж. Верди «Трубадур» (1853), написанная на латинский текст 50-го псалма царя Давида ( Библия).
…служил дворянским заседателем<…> до появления становых приставов… – то есть до 1837 года, когда земский суд (уездная полиция) был реорганизован и выборные должности дворянских заседателей заменены становыми приставами, назначавшимися губернатором.
…дразнили<…> фофаном… – то есть простофилей, дураком, разиней. Это словечко использовано Салтыковым в четвертом «Письме о провинции» (т. 7 наст. изд.) для обличения бессознательности и социальной пассивности.
…не опоздай он к секретарю <…> ничего бы этого не было. – То есть Терпибедова не отдали бы под суд, успей он дать взятку.
…запрещенный поп-с. – Запрещениеотправлять церковную службу и требы (временно или с отрешением от должности) налагалось на духовных лиц церковным судом за преступления по должности или за клевету.
…вене-зиси! – иди сюда! ( франц.venez-ici!).
Только прежде я ее Монрепо́ прозывал, а нынче Монсуфрансом зову<…> иерей-то, называет это благорастворением воздухов! – Монрепо– мой отдых (франц.mon repos); использовано Салтыковым в «Убежище Монрепо» (1878–1879; т. 13 наст. изд.). Монсуфранс– мое страдание ( искаж. франц.ma souffrance). « Благорастворение воздухов» – выражение из молитвы «О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временах мирных…». Употребляется в значениях: тишина и спокойствие; чудесная погода.
…перметте бонжур! – Позвольте, здравствуйте! ( франц.permettez, bonjour!).
В терпении хотим стяжать души наши.. – перифраз евангельского текста: «Терпением вашим спасайте души ваши» ( Лука, XXI, 19).
Долгогривые – они ведь… примеры-то эти были! – Намек на то, что из духовного сословия – долгогривые– вышел ряд деятелей революционной демократии, в частности Чернышевский и Добролюбов.
…пошлость<…> вызывает<…> поползновения к прозелитизму<…> Требует, чтоб разум покорился ее убеждениям. – Прозелитизм– подражание, усвоение. О взаимоотношениях передовой мысли и литературы с «уличной философией» пошлости см. в статье «Насущные потребности литературы» (т. 9 наст. изд.).
…я вредным идеям не обучался-с. В университетах не бывал-с! – В освободительном движении 60-70-х годов активное участие принимало, в частности, студенчество: в университетах неоднократно имели место студенческие волнения; в основном из студентов состояла нечаевская заговорщическая организация 1869 года «Народная расправа»; студенты играли значительную роль в кружке Долгушина, процесс которого слушался в июле 1874 года.
…варите сыры – и недоимкам вашим конец<…> Теперича у нас молоко-то робята хлебают, а тогда оно, значит, за недоимки пойдет? – На страницах «Отеч. записок» против фетишизации артельных сыроварен либеральными земцами, как и Парначев, «под выгодой понимавшими только рубли, которые крестьянин отнесет в волость для уплаты повинностей», выступал Энгельгардт ( ОЗ, 1872, № 2, отд. II, стр. 145. Ср. рец. на роман Н. Витнякова «Русские демократы», т. 9 наст. изд.).
…кассы… когда ж это видано? – Ссудно-сберегательные кассынаряду с другими хозяйственными и финансовыми ассоциациями в начале 70-х годов широко распространились в рабочей среде благодаря народнической интеллигенции. «Отеч. записки» иронически относились к надеждам, возлагавшимся на подобные организации (см., например, ОЗ, 1872, № 2, отд. II, стр. 178).
Купцы обсчитывают и обмеривают, чиновники – притесняют<…> Потому, что школы нет. – Салтыков пародирует рассуждения либеральной печати, объяснявшей бедственное положение крестьянства пьянством (см. прим. к стр. 22) и невежеством. Подобные рассуждения высмеивались «Отеч. записками»: «…Везде повторяется <…> народу учиться негде – потому он и бедствует» <…> школ, говорят, у народа нет, потому он и пьянствует» (1873, № 10, отд. II, стр. 268). Вместе с тем «Отеч. записки» писали и о необходимости развития народного образования, подчеркивая неспособность земств, ведавших народными школами, решить эту проблему (см. например, № 8 за 1873 год, отд. II, стр. 239–263).
Коль славен…это значит, в Сионе-с! – « Коль славен наш господь в Сионе…» – одни из христианских, в том числе и православных гимнов. В царской России имел также значение государственного национального гимна наравне с «Боже царя храни…».
Переписка *
Впервые – ОЗ, 1873, № 12 (вып. в свет 15 дек.), стр. 631–644, под заглавием «Благонамеренные речи. V. Переписка», со словами «С подлинным верно» перед заключавшей текст подписью « Н. Щедрин».
Рукописи и корректуры не сохранились.
При подготовке изд. 1876автор сделал одно существенное сокращение в самохарактеристике Батищева. Приводим вариант ОЗ.
К стр. 91, после абзаца «P. S. Вы положительно несправедливы…»:
Ерофеев, наверное, никогда не испытывал тех мучительных колебаний, какие испытывал я, имея перед собой двух генералов. Если ему и приходилось выбирать между двумя скопцами, то тут сделать выбор очень легко. Стоит только взвесить выгоды, представляемые тем и другим, и затем, остановившись на одном, без труда забыть про другого. А я, милая маменька, даже теперь, когда оба генерала, несомненно, меня от себя оттолкнули, не могу ни того, ни другого позабыть!
Остальные разночтения во всех трех прижизненных изданиях не выходят за пределы мелкой стилистической и орфографической правки.
Сатирическая критика «благонамеренности» и «благонамеренных речей» дается в очерке «Переписка» на материале деятельности новых судебных учреждений, введенных реформой 1864 года. Отмена сословных судов, установление института присяжных поверенных (адвокатов) и присяжных заседателей, гласный и состязательный характер судопроизводства, независимость суда от администрации – все это преподносилось в официальных заявлениях, а также в либеральной печати, как введение в русскую жизнь гарантий законности. Очерк Салтыкова не оставлял места для подобных иллюзий. С точки зрения официальной новое правосудие было «орудием для определения всех нравственных или политических отношений граждан друг к другу и к государству» [507]507
Гр., 1873, № 10, 5 марта, стр. 309.
[Закрыть]. Салтыков показывает, что на деле – это новые орудия подтягивания и обузданияв руках «лгунов-лицемеров» и новый источник обогащения для рыцарей «легкой наживы».
В центре очерка – фигура Батищева – образ прокурорской власти и Ерофеева – образ нового сословия, присяжных поверенных, адвокатуры. Прокуроры – «излюбленные люди закона» – представляли идею государственности и защищали «государственный союз»; адвокаты совмещали в своей деятельности «элементы публичный и частный», прокурор находился на «казенной службе» и получал жалованье. Вознаграждение труда адвокатов формально определялось таксою, но практически зависело от договоренности с клиентом. Все эти стороны нового устройства судебного дела сатирически освещены в очерке.
Появление в «Переписке» фигур Батищева и Ерофеева подготовлено образами Нагорнова и Тонкачева из «Господ ташкентцев» («Ташкентцы приготовительного класса»; т. 10 наст. изд.).
Главное внимание писатель уделяет Батищеву и его прокурорскому усердию в раскрытии дела о «тайном обществе», которое он расследует с таким рвением не потому, что озабочен защитой «основ» и «краеугольных камней», а потому, что надеется продвинуть этим делом свою служебную карьеру.
Ко времени создания «Переписки» судебная практика России знала только один открытыйполитический процесс – « нечаевскоедело», на котором Салтыков присутствовал и о котором писал [508]508
См. статью «Так называемое «нечаевское дело»…» в т. 9 наст. изд.
[Закрыть]. Материалы процесса, так же как и высказывания по поводу его печати – «Моск. ведомостей», «Зари», и «Голоса», – нашли сатирическое отражение в ряде мест очерка. Например, речь прокурора В. А. Половцева – государственного обвинителя на процессе – расценивалась в печати как образцовый пример исполнения прокурорских обязанностей «в самом строгом смысле их определяющего закона» [509]509
«Заря», 1871, № 7, «Из совр. хроники», стр. 39.
[Закрыть]. Салтыков же ядовито высмеял мнимую объективность прокурора.
Очерк содержит и ряд других злободневных откликов на борьбу самодержавия с революционным движением, набравшим как раз в это время новую силу, но и терпевшим неизбежные поражения. К осени 1873 года относится разгром кружка «долгушинцев», первые аресты «чайковцев» и др.
Что касается Ерофеева, то при всей эскизности в зарисовке этой фигуры она ярко представляет тип «адвоката-лихача» [510]510
Подробнее см. в прим. к стр. 238.
[Закрыть], продажного «откупщика трибуны» [511]511
«Дело», 1872, № 4, отд. II, стр. 70, 72.
[Закрыть]с характерными для пореформенного суда баснословными гонорарами. Среди «хищников» новой буржуазной интеллигенции адвокатура считалась одним из лучших занятий, ибо «цивическим стремлениям она удовлетворяет, да и материальные блага дает в изобилии и с изумительной легкостью. Соединение двух таких выгодных условий влечет к этому занятию сердца как прогрессивных юношей, так равно и мужей, искушенных опытом» [512]512
«СПб. вед.»,1872, № 22, 22 января.
[Закрыть]. К изображению этой категории «деятелей русской земли» Салтыков обращался неоднократно [513]513
Фигура «адвоката-лихача» обрисована в очерке «Опять в дороге», который в журнальной публикации предшествовал «Переписке». Различным типам адвокатов Салтыков предполагал посвятить продолжение «Переписки» (см. отд. Неоконченное).
[Закрыть].
…казенное содержание, сопряженное с званием сенатора кассационных департаментов, есть один из прекраснейших уделов… – Судебной реформой 1864 года в сенате были образованы, «в качестве верховного кассационного суда, два кассационных департамента– один для уголовных, другой для гражданских дел» («Судебные уставы 20 ноября 1864 года», «Учреждения судебных установлений», ст. 114). Чиновники этих департаментов (« сенаторы»), получавшие весьма значительный оклад, назначались из числа высших чинов прокурорского надзора ( там же, ст. 208).
Клеппер– очень дорогая порода выездных лошадей.
Не потому должен быть наказан преступник, что этого требует безопасность общества или величие закона, но потому, что об этомвопиет сама злая воля… – Сатирически критикуется одно из главных положений идеалистической философии права и буржуазного уголовного законодательства: «преступление есть <…> проявление злой человеческой воли». Возможно, что в следующем затем рассуждении о « преступлении» и « наказании» Салтыков отчасти имел в виду и Достоевского, утверждавшего в «Дневнике писателя» за 1873 год, в связи с частыми фактами оправдания подсудимых присяжными: «…Строгим наказанием, острогом и каторгой вы, может быть, половину спасли бы из них. Облегчили бы их, а не отяготили» ( Гр., 1873, № 2, 8 января, стр. 35). С этим утверждением полемизировал Михайловский на страницах «Отеч. записок» (1873, № 2, отд. II, «Лит. и жури, заметки», стр. 337).
…объявил себя специалистом по части скопцов<…> и получил сорок тысяч. – Принадлежность к секте скопцовкаралась каторгой как изуверство и посягательство на официальное православие. В начале 70-х годов правительство начало активно преследовать умножившиеся тайные общины скопцов, видя в них «правильно организованные тайные общества <…> лучший образчик русской организации» ( РМ, 1872, № 84, 1 апреля). В 1872–1873 годах в Москве, Петербурге и Калуге слушались крупные процессы по делам целых скопческих общин (см. РМ, 1872, №№ 84, 104 и 171, 1 апреля, 24 апреля и 5 июля; 1873, №№ 43 и 51, 15 и 26 февраля; MB, 1873, №№ 28–30, 1–4 февраля; « СПб. вед.», 1873, № 55, 25 февраля). Подобные дела «каждый раз открывали в России обильные золотоносные струи» для адвокатов ( РМ,1872, № 84, 1 апреля), поскольку скопчество было особенно распространено среди купцов и коммерсантов и сопровождалось круговой порукой.
«La fille de Dominique»– водевиль П. Левассора.
…неси сей крест с смирением<…> и ни один волос<…> не упадет без воли того, который заранее все знает… – «Благонамеренные» сентенции Надежды Батищевой построены на заветах христианской морали, заимствованных из Библии(ср.: «отвергни себя и возьми крест свой» – Матфей, XVI, 24; «ни один волос его не упадет» – третья кн. Царств, I, 52; «бог <…> знает все» – Иоанн,III, 20, и др.).
…je crois que le knout ferait bien mieux leurs affaires! – Сентенции «братца» Батищевой и ее собственные насчет пользы кнута– по-видимому, сатирическая реплика на скандальные выводы комиссии, в 1872 году изучавшей деятельность волостных судов, в частности вопрос о целесообразности отмены телесных наказаний для крестьян: комиссия пришла к выводу, что розги – «самое выгодноеи удобноеиз всех наказаний» ( ОЗ, 1872, № 10, отд. II, «Наша обществ. жизнь», стр. 238). Соединение проповеди кнута с молитвой(«все упование мое…» – см. «Молитвослов», СПб. 1907, стр. 10, 27, 44, 57 и др.) – возможно, намек на митрополита Филарета, одного из составителей текста Манифеста 19 февраля и автора «Записки о телесных наказаниях с христианской точки зрения» (1861), в которой эти наказания оправдывались ссылками на Священное писание.
…«Общество для предвкушения гармоний будущего»<…> – цель его заключается в «непрерывном созерцании гармоний будущего и в терпеливом перенесении бедствий настоящего». – Это шутливо-обобщенное название народнически-социалистических групп и кружков пользовалось большой популярностью среди революционеров 70-80-х годов. Далее пародируется речь прокурора В. А. Половцева, обвинителя на «нечаевском процессе», заявившего, что любой вид организации – студенческий кружок, артель или общество взаимопомощи – угрожает существующему порядку, ибо «распространение полезных, научных и по преимуществу практических сведений» было лишь «официальной, внешней» целью, «внутренняя же, настоящая» заключалась в распространении «лжеучений коммунизма и социализма» ( ПВ,1871, № 163, 10 июля).
Позвольте мне называть этих людей не злоумышленниками, а заблуждающимися!<…> в свое время<…> вновь можно будет заменить наименованием злоумышленников… – Прокурор Половцев в начале своей речи на «нечаевском процессе» заявил, что студенческие кружки «не имеют в себе ничего противузаконного» и существование их «вполне невинно», а затем стал утверждать, будто самый факт существования кружков представляет опасность, что их «невредные» участники, «сами того не замечая, мало-помалу делаются людьми все более и более вредными и опасными», от деятельности «предосудительной» переходят к деятельности, «прямо предусмотренной законом» ( ПВ,1871, № 163, 10 июля).
…горших злоумышленников не было<…> они паче душегубов и воров… – Именно такое обвинение адресовала в связи с «нечаевским процессом» реакционная и либеральная печать русской революционной демократии: «С кем в родстве эта революционная партия <…> Кто в русском народе ей пособники и союзники <…> Грабители и жулики <…> Жуликилучше и честнее вожаков нашего нигилизма, они по крайней мере не выдают себя благовестителями и не употребляют софизмов для разврата незрелых умов» ( MB, 1871, № 161, 25 июля). Аналогичную точку зрения высказывал «Голос» (1871, № 183, 4 июля).
…по меняльным рядам ходит и от изуродованных людей поживы ищет! – Меняльные лавкизанимались разменом денег и мелкими банковскими операциями. Среди менял было много скопцов ( РМ, 1872, № 84, 1 апреля).
…теперь у меня<…> уже восемьдесят три человека обвиняемых. – Намек на «нечаевское дело», где фигурировало 83 подсудимых, из которых только одиннадцати предъявлено было обвинение в «злоумышлении против государства»; в итоге, по признанию самого прокурора, оказалось всего «лишь четыре, можно сказать, пять подсудимых, привлекаемых собственно по этому делу» ( ПВ, 1871, № 156, 2 июля и № 163, 10 июля).
Люди, которые<…> могли бы претендовать на титул благодетелей человечества<…> ничего, кроме справедливой кары закона… – Либеральная печать в особенную заслугу прокурору Половцеву ставила его «объективность»: он «счел возможным выставить не только темные, но к светлые стороны характера даже тех <…> на которых он призывал наиболее строгую кару суда. Этот прием придавал особенный вес его обвинению…» («Заря», 1871, № 7, «Из совр. хроники», стр. 40).
…как прозорлив был покойный преосвященный… – О « прозорливости», то есть, в данном случае, об общественной позиции, Московского митрополита Филарета дает представление его письмо Александру II («Выписка из письма московского священнослужителя в Петербург, декабря 17 дня 1861», М. 1862). Герцен оценил это обращение как «дикий вопль изуверства, бледнеющего перед мыслью, перед человеческой волей и взывающего к гонениям и казням. В этом преступном и безумном писании – донос на литературу, на журналы, на общественное мнение…» («Колокол», 1862, л. 133, 15 мая).
«Вы фарисеи и лицемеры <…>». Все в духе пророка Илии. – Филаретов пользуется библейскими образами: фарисеи– члены древнеиудейской религиозной секты, отличавшейся фанатизмом и лицемерием; Исав, старший сын патриарха Исаака, продал младшему брату право первородства за горшок чечевичной похлебки; в львиный ровбыл брошен пророк Даниил за обличения безнравственности царя и его приближенных; сиренская прелесть– обольщение, соблазн; и крадете, и убиваете, и клянетесь лживо– заповеди Моисея, нарушение которых считалось смертным грехом, гласили: «не укради, не убий, не клянись лживо»; жрете Ваалу– поклоняетесь идолам ( жрети– приносить жертву богу). Ваал– языческий бог, изображавшийся в виде тельца; поклонение ему означало забвение высших нравственных принципов во имя корысти и стяжательства; Илия—библейский пророк, обличавший разврат соплеменников и предвещавший им возмездие.
…даже многие высокопоставленные лица! – Это открытие Батищева и предупреждения маменьки об опасностях, которыми оно чревато (см. стр. 86–87), – сатирический выпад против «Моск. ведомостей», которые простерли свою «обвинительную мономанию» (см. стр. 523 в т. 9 наст. изд.) вплоть до правительственных сфер: «Ми видели злых заговорщиков на местах влиятельных и ответственных, и никто не поручится, чтоб и в сию минуту в рядах людей, призванных охранять спокойствие государства, не было тайных врагов его или пособников врагам» ( MB,1870, № 4, 6 января). За эти намеки газете было объявлено предостережение ( MB,1870, № 8, 11 января).
…под «безопасностью» они разумели<…> воспрещение полиции входить в обывательские квартиры! – Пресловутая «законность» нового суда не охраняла граждан от произвола полиции. Например, в декабре 1873 года студент П. Т. Попов был приговорен к тюремному заключению за оскорбление жандармского офицера при производстве обыска. «Оскорбление» выразилось в требовании предъявить ордер па обыск ( MB, 1873, № 313, 12 декабря).
Коммеморативный– памятный, напоминающий ( франц.commémoratif).
…взглянуть «La fille de m-me Angot»… – Герой Салтыкова в курсе новинок каскадного мира: оперетта Ш. Лекока « Дочь мадам Анго» впервые была поставлена в Петербургском Михайловском театре в сезон 1873 года («Петерб. листок», 1873, № 202, 14 октября). См. прим. к стр. 116.
Саккос– облачение православного архиерея во время богослужения.
Предики– проповеди (от лат.praedico).
Есть люди высшие, средние и низшие – и сообразно с сим опыты. – Выпад против Чичерина, разделявшего общество на три класса – высший, среднийи низший– со строго разграниченными функциями: для высшего– в первую очередь умственная деятельность и в особенности управление государством, для низшего – физический труд и повиновение высшему (Б. Н. Чичерин. О народном представительстве, М. 1866, стр. 410–420).
…они<…> требовали миллион четыреста тысяч голов… – Это «требование» вновь отсылает читателя к материалам «нечаевского процесса» (см. стр. 738 в т. 10 наст. изд.).
…выписывали «Труды Вольно-экономического общества»<…> чтоб по поводу их затевать недозволенные сборища… – Сатирический образ, реальная подоплека которого кроется в характере деятельности большинства кружков революционной молодежи начала 70-х годов. Например, известная группа, или общество, «чайковцев» начала свою деятельность с организации тайных кружков саморазвития и с распространения среди интеллигенции, как в Петербурге так и по всей России, произведений научной, публицистической и художественной литературы, отвечавшей ее пропагандистским целям (Ш. М. Левин. Общественное движение в России в 60-70-е годы XIX века, М. 1958, стр. 355). Подавляющее большинство распространенной литературы было легальнымиизданиями, вышедшими под контролем царской цензуры (произведения Чернышевского, Добролюбова, Писарева и др.). Сатирически заостренным указанием на это обстоятельство и является ссылка на « Труды Вольно-экономического общества» – печатные издания общества хотя и носили либеральный характер, но были весьма далеки от революционности.
…покуда не сдадут меня<…> в архив, членом белозерского окружного суда<…> судить белозерских снетков. – То есть спровадят в захолустье под предлогом служебного перевода. Обозначенная здесь перспектива « судить белозерских снетков» получила впоследствии разработку в знаменитых сценах суда над пискарем в «Современной идиллии».
Кюмюлировать– совмещать ( франц.cumuler).
Столп *
Впервые – ОЗ, 1874, № 1 (вып. в свет 21 янв.), стр. 239–268, под заглавием «Благонамеренные речи. VI».
Заглавие «Столп» дано в изд. 1876.
Сохранилась наборная рукопись ОЗ, во многих местах правленная автором. Приводим шесть вариантов первоначального слоя рукописи.
К стр. 110. История «кандауровского барина» начиналась и продолжалась иначе: вместо абзаца «Кандауровского барина чуть-чуть не увезли-с» было «Кандауровского барина увезли».
На той же стр., в абзацах «Неизвестно-с…» и «Поступков не было…», вместо «господин становой» было «господин исправник».
Там же, в абзаце «Поступков не было…», после слов «а ни с кем не знакомится, книжки читает», было «– Увезли-с».
В том же абзаце текст «так и ожидали, что увезут! <…> и айда в Петербург-с!» вставлен позднее.
К стр. 114, после абзаца «– Какая красота!..»: Я еще ребенком помню, как Прохор Лукьяныч… (см. текст варианта ниже).
К стр. 117, после абзаца «И этот-то щеголь…»
Он прежде в золотарях при губернском правлении служил и там-то должно быть, уловил тайны психологии!
Сличение рукописи с первопечатным текстом обнаруживает, что в не дошедшей до нас корректуре автором была сделана небольшая правка текста.
«Столп» – первый из двух рассказов в «Благонамеренных речах» (второй– «Превращение»), посвященный Осипу Дерунову, одной из наиболее ярких и завершенных фигур в салтыковской галерее сельской и провинциальной буржуазии – « чумазых», – быстро поднимавшейся на дрожжах послереформенного экономического развития из среды зажиточного крестьянства и уездного мещанства.
В рассказе художественно обобщены воспоминания и впечатления Салтыкова, связанные во многом с собственной биографией и относящиеся к местам и людям Тверской губернии, известным ему с детских лет. Как всегда, однако, у писателя «свое» перемешано в рассказе с «чужим», «а в то же время дано место и вымыслу» (из прим. Салтыкова к началу «Пошехонской старины»; т. 17 наст. изд.).
Описывая в самом начале рассказа « родовое наше имение Чемезово», слывшее в былые годы «золотым дном», Салтыков вспоминает о старинном центре родовой вотчины своих отцов и дедов, селе Спас-Угол Калязинского уезда, где он родился и где прошли его детские годы. Но несколько дальше в том же рассказе, а также в рассказе «Кандидат в столпы», там, где возникает и получает разработку тема« ликвидации» Чемезова, под этим же названиемобобщаются воспоминания и впечатления Салтыкова, связанные с другим имением и его судьбой, весьма характерной для общего процесса распада дворянско-помещичьего хозяйства. «Строительный материал» рассказа в этой его части, так же как и в рассказе «Кандидат в столпы», во многом заимствован из истории того имения обширной салтыковской вотчины, которое принадлежало в былые годы Анне Васильевне и Марье Васильевне Салтыковым – теткам писателя. В это небольшое имение того же Калязинского уезда Тверской губернии, что и Спас-Угол (в 35 верстах от него), входили деревня Новинки, где был обветшалый «господский дом», сельцо Мышкино и лесная дача Филипцево. Под названием «Уголок» это имение «тетенек-сестриц» описано в гл. VII «Пошехонской старины».
С личными воспоминаниями Салтыкова связана также фигура старика Лукьянычав комментируемом рассказе. Имя старосты Новинок Прохора Лукьянова упоминается в хозяйственных бумагах отца Салтыкова, Евграфа Васильевича [514]514
Хранятся в Институте русской литературы (Пушкинский дом) в Ленинграде.
[Закрыть]. В первоначальном слое рукописи рассказа «Столп» к характеристике Лукьяныча относились следующие открыто автобиографические строки, потом зачеркнутые и не попавшие в печать, но впоследствии развернутые в упомянутой гл. VII «Пошехонской старины»:
«Я еще ребенком помню, как Прохор Лукьяныч у покойниц-тетенек старостой служил. Тетеньки у меня были две барышни-сестрицы, которые не слишком налегали на крестьян, но зато донимали их богомольями. Бывало, каждый поминальный день наварят кутьи и рассылают ее по монастырям да по родным. Рабочая ли пора, гулящее ли время – бежит мужик верст за сорок, держа на весу тарелку с кутьей, обернутую в салфетку. Обычай этот всегда возбуждал негодование Лукьяныча, который каждый день бранился за это с тетеньками».
(Место это следовало в рукописи за абзацем на стр. 114 «Какая красота…».)
В 1859 году имение Новинки перешло в общее владение Михаила Евграфовича и Сергея Евграфовича Салтыковых. В 1861 году крестьяне деревни Новинки были переведены на выкуп. Оставшаяся же после выкупа в распоряжении владельцев земля, кроме лесной дачи, пустоши Филипцево (100 десятин), была «продана крестьянину той же деревни Софрону Осипову с товарищами…». Впоследствии и Филипцево было описано и продано с аукционного торга за неуплату Михаилом Евграфовичем долга матери. Чтобы «дача» не пошла за бесценок на торгах, ее купил за 2800 рублей и затем продал за 5000 рублей брат, Сергей Евграфович. Этими двумя продажами земельные владения Салтыкова и его брата, находившиеся в Тверской губернии и принадлежавшие к родовой вотчине, были полностью ликвидированы. Они перешли в руки местной сельской буржуазии, состоявшей из бывших крепостных крестьян помещиков Салтыковых.
Приведенная справка, сведения для которой заимствованы из собственноручной записки Салтыкова о своих имениях [515]515
Документ сообщен С. А. Макашину А. Н. Вершинским. См. выше.
[Закрыть], показывает, как близко следует местами Салтыков в своем рассказе за фактами имущественной биографии своей семьи и собственной. Даже цифра, которую Дерунов называет за предлагаемую ему помещиком землю – « пять тысяч», – в точности соответствует той, за которую была продана пустошь Филипцево, упоминаемая под этим своим названием в рассказе «Кандидат в столпы».
Имя «героя» рассказа – Осип– явно взято от отчества упомянутого выше Софрона Осипова, покупщика земель Салтыкова. Фамилия же Дерунов, столь соответствующая хищнической природе этого персонажа, заимствована, по-видимому, со страниц «Отеч. записок». Она принадлежала некоему провинциальному публицисту и не раз упоминалась Михайловским в его «Литературных и журнальных заметках» как раз в то время, когда Салтыков работал над «Благонамеренными речами» [516]516
См., например, ОЗ,1873, № 1, отд. II, стр. 145–146.
[Закрыть].
Свободно соединяет в своем рассказе Салтыков и другие «материалы», восходящие как к воспоминаниям его детства и юности, так и к недавним поездкам в родные места [517]517
См. прим. к очеркам «В дороге» и «Опять в дороге».
[Закрыть]. Так, топонимическое сокращение Т ***, обозначающее место, где у Дерунова был постоялый двор, на котором останавливался в годы своего учения в столицах, при поездке на каникулы, автор повествования, раскрывается реально-биографическим комментарием на основе анализа салтыковских описаний и характеристик одновременно как богатое торговое село Талдоми уездный город Калязин. Оба эти пункта находились поблизости от Спас-Угла. Через Талдом Салтыков ездил на каникулы домой из Москвы, в годы ученья в тамошнем Дворянском институте. В годы же пребывания в Царскосельском лицее путь Салтыкова из Петербурга в Спас-Угол – «несколько дней тряской и бессонной дороги» – проходил через Тверь и Калязин.
Приведенные и другие возможные здесь справки биографического комментария устанавливают реальные источники начатой Салтыковым работы по созданию галереи образов новых «столпов» русской жизни и вместе с тем показывают широту и глубину художественно-публицистического обобщенияэтих источников.
Современники сразу же оценили типичность и социальную содержательность образа Дерунова. Известный криминалист профессор А. П. Чебышев-Дмитриев отмечал, что в рассказе «Столп» Салтыков «мастерской кистью» вывел «кулака-мещанина» в ранге «охранителя и столпа» [518]518
«Бирж. ведомости», 1874, № 118, 4 мая.
[Закрыть]. А несколько позднее К. Арсеньев писал: «Чтобы понять вполне значение Дерунова, необходимо припомнить, что этот образ создан в 1873 году, когда «столпы» только что нарождались в действительности, когда свежеиспеченное сословие «мироедов», крупных и мелких, начинало лишь расправлять свои крылья и не успело еще сделаться предметом всестороннего изучения. Г-ну Салтыкову удалось заглянуть в процесс образования типа, финансировать его черты в самый момент их зарождения <…> Мы видим здесь с поразительною ясностью, каким образом сатира может прийти на помощь социологии, указать ей путь и тему для исследования» [519]519
К. К. Арсеньев. Русская общественная жизнь в сатире Салтыкова. – «Вестник Европы», 1883, № 3, стр. 315.
[Закрыть].








