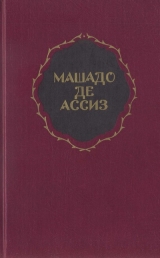
Текст книги "Избранные произведения"
Автор книги: Машадо де Ассиз
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 43 страниц)
Глава XXV
В ТИЖУКЕ
Черт! Проклятое перо готово было удариться в патетику, а ведь рассказ мой должен быть так же прост, как моя жизнь в Тижуке в первые недели после смерти матушки.
На седьмой день, прослушав мессу, я захватил ружье, несколько книг, кое-что из одежды, сигары, слугу – Пруденсио из XI главы – и уехал в нашу старую усадьбу в Тижуке. Отец пытался отговорить меня, но я не хотел, да и не мог его послушаться. Сабина просила пожить у нее хоть немного, хоть две недели; Котрин, ее муж, готов был увезти меня силой. Этот добрый малый превратился из повесы в почтенного человека, занялся бакалейной торговлей и трудился не покладая рук с утра до ночи. Даже вечерами, сидя у окна и пощипывая бакенбарды, он думал о бакалейной торговле. Котрин всей душой любил жену и сына, умершего малолетним. Поговаривали, что он был скуп.
Я оставил все; дух мой был в смятении. С тех пор и начал прорастать во мне желтый цветок ипохондрии, болезненный цветок одиночества, наделенный тонким, дурманящим ароматом.
«Как хорошо быть одному и ничего не говорить» – это случайно попавшееся мне на глаза место из Шекспира нашло отклик в моей душе. Помнится, я сидел под тамариндовым деревом с раскрытым томом Шекспира в руках; душа моя была еще более грустной, чем поза, – я бы сказал, что она нахохлилась, словно больная курица.
Я был погружен в мрачную скорбь, испытывая единственное в своем роде наслаждение – наслаждение страданием. Наслаждение страданием! Запомни это выражение, читатель; хорошенько его обдумай, вытверди наизусть и, если ты все-таки не поймешь его, знай: тебе недоступно одно из самых изысканных ощущений нашего времени.
Я охотился, спал, много и без разбора читал или просто ничего не делал, бездумно перелетая в мыслях от образа к образу, словно праздный или голодный мотылек. Медленно тянулись часы, садилось солнце, ночные тени скрывали город и горы. Никто не навещал меня; уезжая, я настоятельно просил, чтобы меня оставили одного. Нескольких дней, самое большее – недели, проведенной подобным образом, было, разумеется, достаточно, чтобы Тижука мне надоела и я смог вернуться к суете повседневности.
Так и случилось; ровно через неделю одиночество наскучило, душевная боль утихла, ружье и книги, деревья и небо перестали удовлетворять меня. Молодость, жизнь вступали в свои права. Я спрятал в чемодан вопросы бытия и небытия, шекспировских ипохондриков, рубашки, идеи, галстуки и собирался уже запереть его, когда слуга мой Пруденсио доложил, что накануне в красном доме, расположенном недалеко от нашего, поселились какие-то мои знакомые.
– Кто именно?
– Разве вы позабыли дону Эузебию?
– Это она?
– Они с дочкой изволили приехать вчерашним утром.
В памяти моей ожило происшествие 1814 года, и мне стало совестно. Впрочем, я ведь был прав: ничто не помешало связи доктора Виласы с сестрой сержанта; еще до моего отъезда ходили таинственные слухи о рождении девочки. Я знал от дяди Жоана, что, умирая, доктор Виласа оставил доне Эузебии приличное состояние, вызвав этим нескончаемые толки в городе. Дядя Жоан, любитель скандальных историй, написал мне пространное письмо. Итак, я был прав. Но сейчас, после стольких лет, прошедших с 1814 года, и проказа моя, и поцелуй в зарослях, и доктор, все было забыто, и между мной и моими новыми соседками не было никаких преград. Придя к этому выводу, я запер чемодан.
– Вы пойдете к доне Эузебии? – спросил Пруденсио. – Дона Эузебия обряжала мою покойную госпожу.
Я вспомнил, что видал ее на похоронах вместе с другими дамами; но я не знал, что именно она оказала матушке эту последнюю услугу. Негр был прав: я обязан был навестить ее. И я решил сделать это не откладывая.
Глава XXVI
АВТОР КОЛЕБЛЕТСЯ
Вдруг я услышал:
– Мой дорогой мальчик! Так жить нельзя!
Это был мой отец, у которого уже были припасены кое-какие предложения. Я сел на чемодан и приготовился спокойно слушать. Некоторое время отец стоял и смотрел на меня; затем взволнованно протянул ко мне руку:
– Смирение, сын мой; такова воля божия.
– Я уже смирился, – отвечал я, целуя его руку.
Мы вместе пообедали. Никто из нас не заговаривал о грустной причине моего уединения. Раз только мы коснулись этого вскользь – рассуждая о регентстве, отец упомянул, что один из регентов[44]44
После отречения императора Педро I в пользу своего малолетнего сына Педро (1831 г.) в Бразилии был создан регентский совет из трех членов.
[Закрыть] прислал ему письмо с выражением соболезнования. Письмо, уже порядком помятое, было у отца с собой, – видимо, он многим читал его. Я, кажется, уже сказал, что письмо это отец получил от регента. Мне он прочитал его дважды.
– Я поблагодарил регента за внимание, – сказал отец, – и ты тоже должен пойти…
– Я?
– Ну да; он ведь человек влиятельный – сейчас он как бы император. Потом у меня есть одна идея, одна… впрочем, расскажу по порядку. У меня целых две идеи: сделать тебя депутатом и женить.
Отец произнес эти слова с расстановкой, особым тоном, – он хотел, чтобы они запечатлелись в моей душе. Но его идеи так мало имели общего с моими мыслями и чувствами последних дней, что я даже не сразу его понял. Отца это не обескуражило. Он повторил свое предложение, расхваливая и невесту, и депутатское место.
– Ты согласен?
– В политике я ничего не смыслю, – сказал я, – что же до невесты… позволь мне жить одному, медведем.
– И медведи женятся, – был ответ.
– Тогда достань мне медведицу. Скажем, Большую Медведицу…
Отец посмеялся, но тут же снова заговорил серьезно. По его мнению, я должен был сделать политическую карьеру. Отец с необыкновенной словоохотливостью привел десятка два доводов, подтверждая их примерами из жизни наших знакомых. А на невесту достаточно только взглянуть, и я сам, не медля, побегу просить ее руки. Отец пытался заинтересовать, убедить, уговорить меня; я сидел молча, катал хлебные шарики и думал, думал…
Откровенно говоря, я не знал, следует ли мне принимать эти предложения. Внутренне я был сбит с толку. Одна часть моего существа хотела согласиться: кто же пренебрегает красивой женой и карьерой?.. Другая часть противилась: смерть матушки была еще одним доказательством бренности вещей, привязанностей, семьи.
– Я не уеду, не получив окончательного ответа, – сказал отец. – О-кон-ча-тель-но-го! – повторил он, отбивая такт пальцем.
Он допил кофе, откинулся в кресле и принялся толковать о разных разностях, о сенате, палатах, регентах, реставрации, о коляске, которую он собирался купить, о нашем доме в Мата-Кавалос… Я сидел у стола и машинально водил карандашом по листку бумаги. Выходили слова, фразы, стихи, носы, треугольники, без всякого порядка, например:
Я писал, совершенно не думая, однако во всем этом была своя логическая последовательность; так, начало слова «virumque» привело меня к имени автора – я хотел написать «virumque», а вышло «Вергилий», и я продолжал:
Вергилий
Вергилий
Вергилий
Вергилий
Вергилий
Отец, слегка раздосадованный моим равнодушием, поднялся, подошел ко мне, посмотрел на лист бумаги.
– Вергилий! – воскликнул он. – Великолепно! Мой мальчик, твою невесту как раз и зовут Виржилия.
Глава XXVII
ВИРЖИЛИЯ?
Виржилия? Так это та самая дама, которая через столько лет?.. Она самая; то была именно та сеньора, которая в 1869 году присутствовала при моей кончине, а раньше – о, гораздо раньше, в молодые годы, сыграла большую роль в моей жизни. В ту пору ей было лет пятнадцать – шестнадцать, и она была самой хорошенькой и, уж во всяком случае, самой ветреной среди юных бразильянок того времени. Я не назвал ее первой красавицей – я ведь пишу не роман, мне нет надобности позлащать действительность, умалчивая о веснушках и оспинах. Впрочем, на свежем личике Виржилии не было ни того, ни другого; природа наградила ее тем неуловимым, вечным очарованием, которое передается по наследству ради тайных целей созидания. Виржилия была веселой, сообразительной, детски непосредственной, порывистой и вместе с тем ленивой и немного набожной. Набожность ли это была или страх? Скорее всего страх.
Вот тебе, читатель, в нескольких словах телесный и духовный портрет женщины, оказавшей впоследствии, когда ей исполнилось шестнадцать лет, огромное влияние на мою жизнь. Если ты еще жива, если ты читаешь меня, о возлюбленная Виржилия, то не удивляйся, сравнивая мои слова, запечатленные на бумаге, и те, что я обращал к тебе при жизни! Тогда я был столь же искренним, как и сейчас; смерть не сделала меня мрачным брюзгой, и то, что я говорю, – истина.
Но, скажешь ты, как можно через столько лет выяснить истину, да еще изложить ее для всеобщего сведения?
Виржилия! Неужели ты не понимаешь? Как ты не сообразительна! Ведь именно эта наша способность воскрешать прошлое и осознавать непостоянство наших впечатлений и пустоту наших чувств делает нас повелителями вселенной. Паскаль назвал человека мыслящим тростником, но он не прав: человек – это мыслящая опечатка. Каждый отрезок жизни – это новое издание, исправленное и дополненное в сравнении с предыдущим; оно в свою очередь подлежит исправлению и дополнению, и так будет вплоть до самого последнего, окончательного, которое издатель даром отдаст червям.
Глава XXVIII
ПРИ УСЛОВИИ …
– Виржилия? – спросил я.
– Да, сеньор; таково имя невесты. Она – ангел, мой милый, настоящий ангел без крылышек. Вообрази – девушка вот такого роста, жива, как ртуть, а глаза… она дочь Дутры.
– Какого Дутры?
– Советника Дутры, ты его не знаешь; очень влиятельный человек. Так ты согласен?
Я ответил не сразу. В течение нескольких секунд я рассматривал носок моего сапога. Затем я объявил, что готов обдумать эти два предложения, депутатское место и брак, при условии…
– При условии?..
– При условии, что я не должен буду одновременно принять и то и другое. Ведь это совсем необязательно – стать одновременно и женатым человеком, и государственным деятелем…
– Государственный деятель должен быть женат, – назидательно перебил меня отец. – Впрочем, будь по-твоему; я на все готов; я уверен, что ты увидишь – и согласишься! К тому же, видишь ли, невеста и парламент – это почти одно и то же… то есть нет… потом узнаешь. Ладно, согласен дать тебе отсрочку, при условии…
– При условии?.. – спросил я, подражая его голосу.
– Ах, разбойник! При том условии, что ты оправдаешь мои надежды и истраченные ради тебя деньги. К черту мрачность, бесполезность, безвестность. Ты должен добиться блестящего положения, необходимого и тебе, и всем нам. Нужно поддержать честь нашего имени и прославить его еще более. Бойся остаться в тени, Браз; избегай безвестности. Я в свои шестьдесят лет и то бы не колебался. Есть несколько способов стать человеком значительным, но самое важное – прослыть таковым во мнении других людей. Не пренебрегай же преимуществами нашего положения, нашими связями…
Соблазнитель продолжал в том же духе, он тряс передо мной погремушку – помните погремушку, которой меня в младенчестве заставляли ходить? И вот цветок ипохондрии сжался в бутон и вместо него расцвел другой, не столь желтый, не столь болезненный – цветок честолюбия, жажда славы, пластырь Браза Кубаса.
Глава XXIX
ВИЗИТ
Я согласился. Отец победил. Я готов был принять брак и место, Виржилию и палату депутатов – обеих Виржилий, как выразился мой родитель в порыве нежности, вызванной политическими соображениями. Я согласился; отец дважды крепко обнял меня. Наконец-то он почувствовал во мне свою кровь.
– Ты едешь со мной?
– Нет, завтра. Я должен сходить к доне Эузебии.
Отец поморщился, но ничего не сказал, попрощался со мной и уехал. В тот же день, после обеда, я отправился к доне Эузебии. Я пришел не совсем кстати – дона Эузебия бранила негра-садовника; впрочем, она тут же оставила все дела и встретила меня так радушно, с таким искренним расположением, что я сразу почувствовал себя как дома. Помнится, она даже заключила меня в объятия, прижав к обширной груди. Усадила меня на веранде рядом с собой, не переставая радостно восклицать:
– Бразиньо! Подумать только! Как ты вырос! Кто бы мог сказать! Настоящий мужчина! И какой красавец! Меня ты, верно, и не помнишь…
Я возразил. Я прекрасно ее помню. Как можно забыть такого преданного друга нашей семьи! Дона Эузебия начала говорить о матушке, и так тепло, с таким искренним сожалением, что совсем меня покорила. Мне взгрустнулось. Дона Эузебия поняла это по выражению моих глаз и изменила направление разговора, попросив меня рассказать ей о моих занятиях, путешествиях, сердечных делах… Да-да, и о сердечных делах; дона Эузебия была веселой старушкой. И я вспомнил события 1814 года, Виласу, заросли, поцелуй и мою шалость… В эту минуту дверь скрипнула, послышалось шуршание юбок, и свежий голос проговорил:
– Мама… мама…
Глава XXX
ЦВЕТОК ЗАРОСЛЕЙ
Голос и юбки принадлежали смуглой девушке, которая, увидав постороннего, на миг задержалась в дверях. Но замешательство длилось недолго. Дона Эузебия прервала его, добродушно проговорив:
– Поди сюда, Эужения, поздоровайся с доктором Бразом Кубасом, сыном сеньора Кубаса; он приехал из Европы. – Обернувшись ко мне, она добавила: – Моя дочь Эужения.
Эужения, цветок зарослей, взглянула на меня с любопытством и робостью и, едва ответив на мой поклон, медленно подошла к креслу своей матери. Та поправила ей растрепавшуюся косу, говоря:
– Ах, проказница! Вы и представить себе не можете, сеньор доктор, что это за девочка… – И она поцеловала дочь с такой горячей нежностью, что я опять вспомнил матушку, расстроился, и – к чему скрывать? – во мне вдруг пробудились отцовские чувства.
– Проказница? – сказал я. – На вид она уже вышла из этого возраста.
– Сколько вы ей дадите?
– Семнадцать.
– Ей годом меньше.
– Шестнадцать. Совсем невеста!
Эужения не смогла скрыть удовольствия при этих моих словах, но она тут же справилась с собой и продолжала стоять молча, холодно, прямо. Она выглядела старше, серьезнее своего возраста; может быть, она по-детски резвилась, когда не было посторонних; но сейчас, спокойная, невозмутимая, она казалась чуть ли не замужней дамой, и это даже несколько уменьшало ее девическое очарование. Скоро она перестала дичиться; мать расхваливала Эужению, я благосклонно слушал, а девушка улыбалась, и взгляд ее вспыхивал, будто в голове у нее порхала златокрылая бабочка с брильянтовыми глазами.
Вдруг на веранду влетела настоящая большая черная бабочка и принялась кружить над доной Эузебией. Дона Эузебия вскрикнула и поднялась, бессвязно бормоча:
– Сгинь!.. Прочь, дьявол!.. О пресвятая дева!..
– Не бойтесь, – сказал я и, достав из кармана платок, выгнал бабочку.
Дона Эузебия уселась на прежнее место, тяжело дыша, слегка сконфуженная. Дочь, немножко побледнев, мужественно скрывала страх. Я пожал им руки и вышел, смеясь про себя над бабскими суевериями, смеясь философски, свысока, снисходительно.
Вечером я увидел дочь доны Эузебии едущей верхом в сопровождении слуги; она приветливо помахала мне хлыстиком. Признаться, я надеялся, что, проехав несколько шагов, она обернется; но она не обернулась.
Глава XXXI
ЧЕРНАЯ БАБОЧКА
На другой день, когда я готовился уезжать, в мое окно влетела бабочка, черная бабочка, и больше и чернее вчерашней. Я вспомнил происшедшее накануне, рассмеялся и стал думать о дочери доны Эузебии, о том, как она испугалась и как все-таки сумела сохранить достоинство. Бабочка, вдоволь налетавшись вокруг меня, села мне на голову. Я стряхнул ее, она села на оконное стекло. Я согнал ее, бабочка перелетела на старый портрет моего отца. Она была черна, как ночь. Сидя на портрете, она медленно и, как мне казалось, насмешливо шевелила крылышками. Я пожал плечами и вышел из комнаты; вернувшись в нее много позже и найдя бабочку на прежнем месте, я почувствовал раздражение, схватил салфетку и смахнул ее.
Она упала, но была жива; она трепетала, поводила усиками. Мне стало жаль ее; я осторожно взял и посадил ее на подоконник. Но было поздно: через минуту она умерла. Мне стало как-то не по себе.
«Я больше люблю голубых бабочек», – подумал я.
Эта мысль, несомненно, самая глубокая из всех, высказанных с тех пор, как существуют бабочки, несколько меня утешила и примирила с самим собой. Я даже с некоторой симпатией принялся разглядывать трупик бабочки. Я представил себе, как она сегодня утром вылетела из леса – сытая, веселая. Была прекрасная погода. Скромная черная бабочка беззаботно порхала под голубым небесным сводом – он всегда голубой, над крыльями любого цвета. Очутившись у моего окна, она влетела и встретила меня. Может быть, никогда раньше она не видела человека, не знала даже, что это такое. Описывая вокруг меня бесчисленные круги, бабочка убедилась, что у меня есть глаза, руки, ноги, что я огромного роста – настоящее божество! И бабочка сказала себе: «Может быть, передо мной – создатель бабочек?» Мысль эта потрясла и испугала ее, и она со страху решила, что сумеет задобрить своего создателя, поцеловав его в голову. И она поцеловала меня в голову. Прогнанная мной, бабочка уселась на оконное стекло и оттуда увидела портрет моего отца. Сделав до некоторой степени правильный вывод: «Вот отец создателя бабочек», – она полетела к нему просить пощады.
Удар салфеткой положил конец ее полетам. Ни голубая необъятность неба, ни яркое великолепие цветов, ни зеленая роскошь листьев не смогли спасти ее от самой обыкновенной салфетки, простого куска полотна. Видите, как хорошо быть сильнее бабочек! Справедливости ради я вынужден признать, что, будь она голубой или, скажем, оранжевой, я бы, может быть, насадил ее на булавку, ведь подобное украшение радует глаз. Эта мысль снова меня успокоила; я соединил большой и средний пальцы и легким щелчком стряхнул покойницу в сад. Пора было; к ней уже спешили жирные муравьи… Нет; я все-таки возвращаюсь к первой мысли. Почему она не родилась голубой?
Глава XXXII
ХРОМАЯ ОТ РОЖДЕНИЯ
Я пошел заканчивать сборы. Теперь я уеду, уеду немедленно, даже если какой-нибудь неосмотрительный читатель попробует задержать меня неуместным вопросом: что такое, в сущности, предшествующая глава? Нелепость или намек?.. Однако я плохо знал дону Эузебию. Я был совсем готов, когда она явилась, умоляя меня отложить отъезд и в этот день у нее отобедать. Я пытался отказываться, но не тут-то было: дона Эузебия упрашивала, упрашивала, упрашивала меня, и я сдался. К тому же я должен был ей этот визит.
Для моего прихода Эужения оделась крайне просто. Думаю, что для моего прихода, хотя, может быть, она часто ходила так. Даже золотые сережки, в которых она была накануне, исчезли из ее изящных ушей, необыкновенно шедших к ее головке нимфы. Скромное, без всяких украшений, белое муслиновое платье застегивалось у ворота не брошью, а перламутровой пуговицей; такими же пуговицами застегивались манжеты; никаких драгоценностей и в помине не было.
Столь же простой была и ее душа. Мысли ее отличались ясностью, манеры – естественностью и прирожденной грацией и все-таки было что-то… ах да, рот: рот ее матери, живо напомнивший мне эпизод 1814 года; мне даже захотелось сочинить с дочкой импровизацию на ту же тему…
– Теперь я покажу вам усадьбу, – сказала дона Эузебия, когда мы допили последний глоток кофе.
Мы вышли на веранду, спустились в сад, и тут я заметил нечто, меня поразившее. Эужения чуть-чуть прихрамывала, но только чуть-чуть, так что я даже спросил ее, не оступилась ли она. Мать тотчас замолчала; дочь спокойно ответила:
– Нет, сеньор. Я хрома от рождения.
Я внутренне послал себя ко всем чертям, ругая жалким грубияном. Одного только подозрения, что она хромая, было достаточно, чтобы ничего у нее не спрашивать. Я вспомнил, что накануне, когда я увидел ее впервые, она очень медленно подошла к своей матери и что нынче я нашел ее уже за столом. Может быть, она хотела скрыть свой недостаток? Но тогда зачем она сейчас признавалась в нем? Я взглянул на Эужению, и она показалась мне грустной.
Я постарался замять свою неловкость – и это было совсем нетрудно, ведь дона Эузебия, по собственным ее словам, была веселой старушкой. Непринужденно болтая, мы осмотрели усадьбу, деревья, цветы, пруд с утками, прачечную и тысячу других вещей, и, пока дона Эузебия показывала и объясняла, я незаметно следил за выражением глаз Эужении…
Дело в том, что взгляд Эужении был отнюдь не хромым и исходил из спокойных черных глаз. Раза два или три она опустила их в некотором смущении; но только два или три раза. Вообще же они смотрели на меня прямо, но не дерзко, без ложной скромности и без жеманства.








