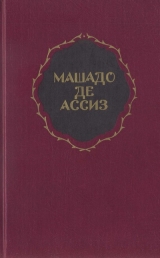
Текст книги "Избранные произведения"
Автор книги: Машадо де Ассиз
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 43 страниц)
Глава CXX
COMPELLE INTRARE
– Нет, дорогой, теперь уж как хочешь, но ты должен жениться, – объявила мне Сабина. – Иначе какое будущее тебя ожидает! Старый, бездетный холостяк…
Бездетный! Мысль о детях наполнила меня беспокойством; я вновь ощутил воздействие таинственного флюида. Да, я должен стать отцом! Холостая жизнь имеет, конечно, свои преимущества, но с возрастом дорожишь ими все меньше, а расплачиваться за них приходится одиночеством. Одинокий, бездетный старик! Нет, это невозможно! Я был готов на все: даже на то, чтоб породниться с Дамашсено. Бездетный! Уверовав в Кинкаса Борбу, я решил открыть ему свои тайные намерения, побуждавшие меня к женитьбе. Философ, выслушав меня, возликовал; он заявил, что это мировая душа пробудилась в моих чреслах, и пылко одобрил мои матримониальные планы; он настаивал, чтобы это событие было отпраздновано как можно торжественнее и т. д. «Compelle intrare», – как говорил Иисус. И Кинкас Борба на моем примере еще раз доказал мне, что Евангелие определенно предвосхищало гуманитизм, но его суть была искажена князьями церкви.
Глава CXXI
СПУСКАЯСЬ С ХОЛМА
К концу третьего месяца все уладилось как нельзя лучше. Таинственный флюид, хлопоты Сабины, глазки Лоло и радость ее отца дружно подталкивали меня к женитьбе. Воспоминание о Виржилии порой вставало передо мной, и черный бесенок совал мне под нос зеркало, в котором я видел свою возлюбленную всю в слезах, но тут же другой, розовый бесенок подсовывал мне другое зеркало, и в нем перед моими глазами возникала Лоло – нежная, сияющая, ангелоподобная. О разнице в нашем возрасте я не говорю. Я ее не чувствовал; а в одно прекрасное воскресенье, когда мы слушали мессу в капелле Преображения, я просто взял да и выбросил все разделявшие нас годы. Дамашсено с семьей жил в Кажуэйросе, и я часто сопровождал их к мессе. Холм, на котором возвышалась капелла, тогда еще не был застроен, только один старый особняк стоял на самом верху. И вот, в воскресенье, спускаясь вниз под руку с Лоло, я, сам не зная как, сбросил по дороге там два, там четыре, а там и пяток лет, так что, когда мы сошли вниз, рядом с Лоло стоял двадцатилетний юноша, такой же веселый, каким я был в этом возрасте.
Если кто-нибудь желает узнать поподробнее, при каких обстоятельствах произошло со мной это чудо, пусть он дочитает главу до конца. Итак, после мессы мы спускались с холма втроем: Лоло, ее отец и я. На полдороге мы увидели какую-то толпу, и Дамашсено, шедший рядом, мигом смекнул, в чем дело, и радостно устремился вперед: мы двинулись за ним. И тут глазам нашим открылась картина: мужчины всех возрастов, комплекций и оттенков кожи, одни в рубашках, другие в куртках, третьи в рваных сюртуках, все застыли в разных позах – кто на корточках, кто упершись ладонями в колени, кто присев на камень, кто привалившись к стене, но у всех глаза не отрывались от круга, и из расширенных зрачков, казалось, выглядывала душа.
– Что это? – удивилась Лоло.
Я знаком попросил ее замолчать и стал потихоньку пробираться сквозь толпу, ведя Лоло за собой. Люди расступались, давая нам дорогу, но вряд ли кто-нибудь из них обратил на нас внимание. Их глаза были прикованы к центру круга. Там шел петушиный бой. Я увидел обоих соперников – бойцовых петухов с острыми шпорами, горящими глазами и загнутым клювом. Вздыбленные гребешки у обоих уже были в крови, перья на груди того и другого были начисто выщипаны, а сама грудь багровела запекшейся кровью. Усталость уже овладевала бойцами, но они еще сражались, зорко следя друг за другом, и долбали клювом один другого – туда, сюда, удар, ответный удар, – и оба дрожали от ярости. Дамашсено забыл обо всем на свете, так он был поглощен зрелищем. Напрасно я пытался увести его: он не отвечал и, видимо, даже не слышал меня, увлеченный перипетиями поединка. Петушиные бои были его страстью.
Тогда Лоло тихонько потянула меня за рукав, говоря, что нам пора идти. Я не стал возражать, и мы продолжали свой путь вдвоем. Я уже упоминал, что место это было в те времена пустынным и мы возвращались из капеллы после мессы. О дожде я ничего не говорил, потому что никакого дождя не было, а была прекрасная солнечная погода. И солнце припекало, да так основательно, что мне пришлось раскрыть зонтик и держать его над головой Лоло, склоняясь к ней согласно философским рекомендациям Кинкаса Борбы: одна мировая душа целует другую мировую душу… Вот так мои годы и покатились вниз по склонам холма.
Спустившись, мы остановились, поджидая Дамашсено; вскоре он появился, окруженный яростными спорщиками, продолжавшими обсуждать подробности боя. Потом казначей распределил выигрыши, отсчитывая их старыми бумажками достоинством в десять тостанов, и победители радовались вдвойне: и победе и деньгам. Владельцы петухов несли их под мышкой. Заметив, как истерзан и окровавлен гребешок у одного из петухов, я решил, что это наверняка побежденный, однако я ошибся – у побежденного гребешок был оторван напрочь. У обоих клювы были раскрыты: изнуренные поединком, противники дышали с трудом. Зрители, напротив, были веселы, несмотря на пережитые волнения; они обсуждали родословную обоих противников и перечисляли их прежние подвиги. Я шел молча, я видел, что Лоло до крайности огорчена.
Глава CXXII
БЛАГОРОДНОЕ НАМЕРЕНИЕ
Лоло огорчилась из-за отца. Легкость, с которой он затесался в эту компанию, выдавала его вкусы и свидетельствовала о том, что он не слишком разборчив в своих знакомствах. Лоло испугалась, как бы я не счел его недостойным быть моим тестем. Я замечал, что сама Лоло изо всех сил старается не походить на своего отца; она все время следила за собой и приглядывалась к моим манерам и поведению. Она училась быть светской и элегантной, главным образом потому, что видела в этом наиболее верный способ соединить свою судьбу с моей; кроме того, светские манеры помогли бы ей скрыть свое происхождение. И в тот день выходка отца глубоко ее опечалила. Тщетно я пытался отвлечь Лоло от грустных мыслей: ни мои шутки, ни мои комплименты не смогли ее развеселить. Ее печаль была столь глубока и уныние столь красноречиво, что я понял: Лоло страстно хочет показать мне, какая пропасть лежит между нею и ее отцом. И в этом ее желании, на мой взгляд чрезвычайно благородном, мне вдруг открылось родство наших душ.
– Ничего не поделаешь, – сказал я себе, – я должен вытащить этот цветок из болота.
Глава CXXIII
КОТРИН, КАК ОН ЕСТЬ
Несмотря на мои сорок с лишним лет, я продолжаю с почтением относиться к родственным узам, и потому о своем намерении жениться на Лоло я решил прежде всего переговорить с Котрином. Он выслушал меня и с важностью заявил, что не имеет привычки вмешиваться в дела своих родственников. Разумеется, он не преминул бы с похвалой отозваться о редких качествах Лоло, но боится, что его могут заподозрить в корысти, и потому он лучше промолчит. Мне же он может сказать только одно: его племянница питает ко мне самые искренние чувства, но ежели она обратится к нему за советом, он посоветует ей не выходить за меня замуж. Это отнюдь не связано с каким-либо предубеждением против моей персоны, нет, он высоко ценит мои достоинства и не устает их превозносить, причем от чистого сердца, а что касается Лоло, то он никогда не посмел бы усомниться в том, что она составит счастье любого мужчины; но его похвалы ей совсем не означают, что он советует мне на ней жениться.
– Я умываю руки, – закончил он.
– Но вы же сами говорили, что мне нужно жениться как можно скорее…
– Это совсем другое дело. Я считал, что вам необходимо жениться, имея в виду ваши политические устремления. Известно, что холостяку труднее сделать политическую карьеру. Но что касается выбора невесты, тут я умолкаю и не хочу, не могу, не должен ничего советовать, – не в моих это принципах. Сабина, кажется, там была, и Лоло поверяла ей свои чувства, но ведь Лоло ей не родная племянница, как мне… И я хочу еще сказать, впрочем, нет, лучше не надо…
– Говорите…
– Нет, нет, не стоит.
Щепетильность Котрина могла бы выглядеть чрезмерной, если не знать его характера, благородство которого было поистине устрашающим. Я долгое время относился к нему несправедливо из-за этой истории с отцовским наследством, но теперь готов признать его за образец добродетели. Котрина называли скупцом, и я думаю, что так оно и было, но ведь скупость – всего лишь некоторое преувеличение добродетельной бережливости, а добродетель должна быть подобна бюджету: лучше избыток, чем дефицит. Котрин был нелюбезен в обращении, и за это его многие не любили, именуя между собой неотесанным невежей. На самом же деле его можно было осуждать, пожалуй, лишь за то, что он нередко наказывал своих рабов плетьми, однако наказывал он только самых неисправимых или беглых, к тому же он долгое время занимался контрабандной работорговлей и, возможно, с тех пор привык обращаться с рабами довольно сурово, как того требовал характер самой деятельности, и потому нечестно было бы считать природным качеством привычку, сложившуюся в результате определенных общественных отношений. Сердце у Котрина было чувствительное, и это видно из того, как он относился к собственным детям, как тяжело переживал потерю Лоло, умершей несколько месяцев спустя. Доказательство неопровержимое и отнюдь не единственное. Котрин состоял казначеем церковного братства и членом различных благотворительных обществ; в одном из них он даже числился почетным членом, – все это не очень вяжется с репутацией скупца, хотя, конечно, его пожертвования не были верхом бескорыстия; так, например, одно из обществ в знак благодарности заказало художнику портрет Котрина маслом. Кроме того, он непременно должен был сообщать в газеты о своем очередном пожертвовании, – слабость, достойная порицания и, уж во всяком случае, не заслуживающая похвалы; я с этим согласен. Однако Котрин защищал свой образ действий, говоря, что добрые дела нуждаются в гласности, дабы служить образцом для подражания, – довод, безусловно, не лишенный вескости. Я даже верю (тем самым воздавая Котрину должное), что время от времени он осуществлял свои даяния исключительно с целью побудить к филантропии других; и если таково было его намерение, то волей-неволей следует признать, что гласность при этом становилась условием sine qua non[70]70
Здесь: совершенно необходимым, непременным (лат.).
[Закрыть]. В общем, Котрин мог бы считать себя в долгу перед светской учтивостью, но он никогда никому не должал ни реала.
Глава CXXIV
ЕЕ МОЖНО РАССМАТРИВАТЬ КАК ПРОМЕЖУТОЧНУЮ
Как маленький мостик между жизнью и смертью. И тем не менее, если бы я не написал этой главы, читателю пришлось бы испытать потрясение, могущее повредить его восприятию книги в целом. В жизни переход от портрета к эпитафии вполне естествен и обычен; но зачем бы мы стали читать книги, если бы они не помогали нам забыть об этом? Мысль не моя, но в ней есть доля истины, и к тому же она отличается образностью. Но повторяю: она не моя.
Глава CXXV
ЭПИТАФИЯ
Здесь покоится
дона Эулалия Дамашсена
де Брито,
скончавшаяся
в возрасте девятнадцати лет.
Помяните ее в своих молитвах!
Глава CXXVI
СКОРБЬ
В этой эпитафии сказано все. Ее краткость потрясает сильнее, нежели подробное повествование о болезни Лоло, ее смерти, отчаянии ее родителей, похоронах. Вы знаете теперь, что она умерла; добавлю только, что умерла она от желтой лихорадки во время первой вспышки эпидемии. Больше сказать мне нечего, если не считать того, что я проводил ее к месту последнего успокоения и простился с ней с печалью, но без слез. Быть может, все это означало, что я не любил ее по-настоящему.
Вы видите теперь, к каким парадоксам приводит небрежность судьбы; я горько раздумывал о слепоте эпидемии: кося всех направо и налево, она унесла в могилу молодую девушку, которая должна была стать моей женой, и я никак не мог понять, зачем все так случилось, зачем эта эпидемия, эта смерть. Ни одна смерть не поразила меня так своей бессмысленностью, как смерть Лоло. Кинкас Борба, однако, объяснил мне, что эпидемии в некотором роде даже полезны, хотя от них погибает множество людей, и как бы ни была устрашающа сама картина, все же следует заметить, что выживает наиболее жизнеспособная часть населения, в чем и заключается благотворность эпидемий. Он дошел до того, что спросил у меня, не испытываю ли я в этой атмосфере всеобщего траура некоторое тайное ликование оттого, что смерть меня пощадила; но вопрос этот был настолько странен, что я оставил его без ответа.
Поскольку я не рассказывал о смерти Лоло, я не стану описывать и поминальную мессу на седьмой день после похорон. Дамашсено был в отчаянии, горе превратило его в дряхлого старика. Недели через две я навестил его: он по-прежнему был безутешен и говорил, что скорбь его, вызванная божьей карой, усугублена жестокостью людей. В тот день он больше ничего не сказал, а через месяц, вернувшись к этой теме, открыл мне, что, когда случилось с ним это непоправимое несчастье, он надеялся найти утешение в друзьях. И что бы вы думали? Всего двенадцать человек – на три четверти друзья Котрина – пришли проводить его дорогую дочь до могилы! А было разослано восемьдесят приглашений! Я заметил ему, что сейчас у всех так много горя, и людям можно простить их равнодушие к чужой утрате. Дамашсено покачал головой с недоверчивым и унылым видом.
– Ах, – простонал он, – как могли они бросить меня в беде!
Котрин, который тоже был здесь, отозвался:
– Пришли те, кто по-настоящему сочувствовал нам в нашем горе. А остальные если бы и явились, то только из чувства долга и развлекались бы разговорами о бездеятельности правительства, о новых средствах борьбы с эпидемией, о том, каковы нынче цены на дома, или просто перемывали бы косточки друг другу…
Дамашсено молча выслушал тираду Котрина и, еще раз покачав головой, вздохнул:
– Но все-таки они бы пришли!
Глава CXXVII
УСЛОВНОСТЬ
Счастлив тот, кого небо наградило малой толикой мудрости, даром к постижению связи вещей, способностью к их сопоставлению и талантом, позволяющим делать верные умозаключения! Я обладал такой психической особенностью и даже теперь, из глубины могилы, не устаю воздавать ей хвалу.
Действительно, человек заурядный ни за что не вспомнил бы о последней фразе Дамашсено, увидев много лет спустя гравюру с изображением шести турецких дам. А я вспомнил. Шесть константинопольских дам были изображены в современной уличной одежде, с лицами, закрытыми чадрой, однако не из плотной ткани, которая в самом деле не позволяла бы их видеть, нет, чадру заменила прозрачнейшая вуаль, оставлявшая открытыми не только глаза, но и, по существу, все лицо. Я нашел очаровательным это ухищрение мусульманской моды, которая таким образом в одно и то же время и закрывает лицо, подчиняясь требованиям обычая, и не закрывает его, оставляя красоту доступной для обозрения. Казалось бы, что общего между турецкими дамами и Дамашсено? Однако, если ты умен и проницателен (а ты вряд ли станешь оспаривать это, любезный читатель), ты поймешь, что и там и тут выглядывает ушко непреклонной и вместе с тем снисходительной спутницы человека.
О милая Условность, да, это ты, ты – украшение жизни, бальзам для сердец, ты объединяешь людей и связуешь землю с небесами; ты осушаешь слезы отца и хитростью выманиваешь у пророка отпущение грехов. Если боль утихает и совесть успокаивается, кому, как не тебе, обязаны мы этим великим благом? Само почтение, не снявшее вовремя шляпу, ничего не скажет нашей душе, в то время как галантное равнодушие наполнит ее упоением. Истина в том, что в противовес старой нелепой пословице нет слова, которое бы убивало. Напротив, слова поддерживают в нас жизнь. И лишь смысл слов является причиной ученых споров, сомнений, противоречивых толкований и в конечном счете причиной борьбы и гибели. Живи же и здравствуй, любезная Условность, во имя спокойствия Дамашсено и во славу пророка Магомета!
Глава CXXVIII
В ПАЛАТЕ ДЕПУТАТОВ
Подчеркиваю, что я увидел эту турецкую гравюру через два года после того, как Дамашсено произнес известную вам реплику, и увидел ее в палате депутатов во время очередной перепалки, вызванной выступлением какого-то оратора в прениях по отчету бюджетной комиссии, когда сам я заседал там в качестве депутата. Для читателя этой книги будет простительно, если он преувеличит мою радость по поводу того, что я все-таки добился депутатского кресла, для остальных же, я думаю, этот факт будет в высшей степени безразличен. Итак, я, будучи депутатом, увидел эту турецкую гравюру возле моего места, рядом с одним из моих коллег, который в эту минуту рассказывал анекдот, и другим, рисовавшим на обложке какого-то документа профиль оратора. Оратором был Лобо Невес. Волны жизни прибили нас к одному берегу, словно бутылки после кораблекрушения; и он скрывал свое бесчестие, а я должен был бы скрывать муки совести, – но я недаром употребляю столь уклончивую, неопределенную или даже условную форму, ибо скрывать мне было нечего за исключением честолюбивого желания сделаться министром.
Глава CXXIX
БЕЗ УГРЫЗЕНИЙ СОВЕСТИ
Нет, я не испытывал угрызений совести.
Если бы у меня была своя лаборатория, я поместил бы в этой книге страничку, посвященную химии: я разложил бы угрызения совести на составные элементы, с тем чтобы уяснить себе окончательно и бесповоротно, что заставило Ахиллеса носить вокруг стен Трои тело убитого им врага и почему леди Макбет бродила по замку и терла себе руки, силясь стереть с них кровавое пятно. Но у меня нет лаборатории, как не было и угрызений совести; что у меня было, так это желание сделаться министром. В заключение скажу лишь, что я бы не хотел быть ни Ахиллесом, ни леди Макбет, но уж если бы нужно было выбирать, я предпочел бы стать Ахиллесом, – лучше нести на себе труп, чем пятно, и слушать мольбы Приама и в конце концов заработать себе недурную военную и литературную репутацию. Молений Приама мне услышать не довелось, но я слушал речь Лобо Невеса, и угрызения совести меня не беспокоили.
Глава CXXX,
КОТОРУЮ СЛЕДУЕТ ВСТАВИТЬ В ПРЕДЫДУЩУЮ
Впервые после возвращения Виржилии в столицу я встретился с ней на одном из балов, в 1855 году. Она была в роскошном туалете из голубого муара, с обнаженными, ослепительными, как и прежде, плечами. В ней уже не было юной прелести, но она все еще была красива осенней, предзакатной красотой. Я вспоминаю, что мы долго и оживленно разговаривали, ни словом не касаясь прошлого. Что было, того уж нет. Отдаленный, смутный намек, взгляд – и больше ничего. Вскоре она уехала; я видел, как она спускалась по лестнице, и тут вдруг какая-то необъяснимая загадка мозгового чревовещания (да простят мне филологи это неуклюжее словосочетание) заставила меня шепотом произнести слово, всплывшее из далекого прошлого:
– Восхитительная!
Эту главу следует вставить в предыдущую, между первой и второй фразами.
Глава CXXXI
ОБ ОДНОЙ КЛЕВЕТЕ
Едва я, побуждаемый неким чревовещательно-мозговым импульсом, произнес это слово, которое отнюдь не означало раскаяния, а было просто данью истине, как кто-то тронул меня за плечо. Я обернулся: передо мной стоял мой старинный приятель, морской офицер, весельчак, не особенно церемонный в обращении. С лукавой улыбочкой он произнес:
– Ну что, повеса? Вспоминаешь былые проказы?
– Да здравствует былое!
– Ты, разумеется, уже восстановлен в правах?
– Ах, шалопай, – шутливо погрозил я ему пальцем.
Сознаюсь, что в разговоре этом я не проявил должной скромности, особенно в последней фразе. И сознаюсь с большим удовольствием, ибо принято обычно считать, что болтливы только женщины, а я не могу закончить свою книгу, не опровергнув столь распространенного людского заблуждения. Я знал мужчин, которые, когда заходила речь об их любовных приключениях, улыбались или отрицали свое участие явно нехотя, вяло и односложно, в то время как их подруги ничем не выдавали себя и клялись всеми святыми, что это чистейшая клевета. И поведение женщин столь отлично от поведения мужчин прежде всего потому, что женщина (согласно гипотезе, приводимой мною в главе CI и других) отдается любви всецело, будь то возвышенная любовь – страсть, описанная Стендалем, или, скажем, земная, плотская любовь каких-нибудь римских матрон или полинезиек, эскимосок, африканок, а может быть, также и представительниц других, цивилизованных рас, в то время как мужчина, – я, разумеется, говорю о мужчинах, принадлежащих к образованному и светскому обществу, – так вот, мужчина к любому чувству всегда примешивает тщеславие. Кроме того (не могу я удержаться от запретных тем), когда у женщины есть любовник, ее не покидает чувство вины и страх за свою репутацию, и потому она должна уметь искусно притворяться и без устали совершенствовать свое хитроумие, что же касается мужчины, то он, заставив женщину забыть свой долг и одержав верх над другим мужчиной, поначалу законно этим гордится, а затем переходит к чувству не столь ярко выраженному и не требующему особой секретности: к эдакому доброжелательному самодовольству, в котором отражаются лучи победоносного сияния.
Истинно или нет мое объяснение, но я все-таки начертал на этой странице в назидание нашему и будущим векам, что легенда о болтливости женщин сочинена мужчинами; в любви, по крайней мере, женщины немы как могила. И если они и выдают себя, то разве только случайным промахом или волнением, тем, что не всегда могут вынести намеки и косые взгляды, либо по причине, суть которой так образно сформулировала одна знатная и мудрая женщина – королева Наваррская.
Своим изречением: «Самая ученая собака нет-нет да и брехнет» – она хотела сказать, что всякая тайная любовная история рано или поздно становится явной.








