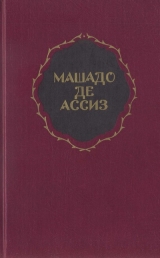
Текст книги "Избранные произведения"
Автор книги: Машадо де Ассиз
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 43 страниц)
Как и в «Записках с того света», в «Доне Касмурро» Машадо де Ассиз обнаруживает блестящий талант рассказчика; мастерское построение сюжета, живописные портреты действующих лиц, виртуозное владение языковыми пластами – все это украшено россыпями всевозможных отступлений: здесь и притчи, и философские и лирические монологи, и житейские истории, поведанные тем или иным персонажем.
Оба эти романа – вершины творчества Машадо де Ассиза.
Однако его природный дар рассказчика прекрасно виден и в его новеллах. В период между «Записками с того света», романами «Кинкас Борба», «Дон Касмурро», «Исаак и Иаков», «Записки Айреса» писатель выпустил сборники рассказов: «Разрозненные страницы» и «Реликвии старого дома» (о других сборниках мы упоминали выше).
Включенные в предлагаемое издание новеллы в основном повествуют о «странностях любви». Порой сюжет их весьма необычен (к примеру, «Ангел Рафаэл» или «Капитан Мендонса»), но и в более традиционных по сюжету новеллах писатель на редкость изобретателен. Его психологические «ходы» зачастую непредсказуемы, но тем не менее они основаны на глубоком знании скрытых человеческих побуждений и потому вполне убедительны. Печальная ирония, свойственная таланту Машадо де Ассиза, окрашивает и эти на первый взгляд «развлекательные» повествования. Но ирония не может скрыть сострадания к несчастному неудачнику Леонардо («Оракул») или сочувствия влюбленному поэту, тщетно пытавшемуся завоевать право жениться на юной Франсиске («Франсиска»). Счастливые концы в некоторых новеллах отнюдь не означают всеобщего счастья: обычно одни счастливы за счет других.
И представленные романы и новеллы Машадо де Ассиза знакомят нашего читателя с наиболее яркими страницами его творчества: они полны блестящего иронического скептицизма и изображают жизнь такой, какая она есть, не склоняясь перед злом и не восторгаясь добром. Философическая манера их автора близка манере Анатоля Франса, однако ирония Машадо де Ассиза, как нам кажется, более меланхолична и менее язвительна, хотя и достаточно беспощадна. Искусство, с которым писатель исследует души своих персонажей, позволяет видеть в нем первого психологического романиста Бразилии, и мы надеемся, что в этой книге читатель откроет для себя превосходные образцы художественной прозы, прошедшей школу европейского реализма и вместе с тем сохранившей свое национальное и индивидуальное своеобразие, а в творчестве ее создателя ощутит трагическое восприятие трагических сторон действительности, которое хотя и не позволило писателю избежать «ворчливого пессимизма», но зато наполнило его произведения страстным и глубоким биением жизни.
Инна Чежегова
СТИХИ
© Перевод А. Богдановский
STELLA[2]2
Звезда (лат.).
[Закрыть]
Откинула ночь покрывало,
Прощальной слезою блистая,
И мгла не скрывает густая
Простор без конца и начала.
И слабым свеченьем окрашен
Холст неба в причудливой раме:
Рассвет восстает над горами —
Подобьями замковых башен.
Сияя, восходит Аврора,
Небесный чертог занимая,
И сонная, злая, немая
Звезда уступает без спора.
И с каждым мгновеньем тускнея,
Она небосвод покидает,
И греза ночная растает,
Вослед устремившись за нею.
Несбывшейся, невоплощенной
Мечтою все помыслы полны…
Гляди: беспокойные волны
Готовы принять ее в лоно.
С лилового выйдя востока,
Дневное восстанет светило,
Его светозарная сила
Расправится с тьмою жестоко.
От думы возвышенно-праздной,
Укрытой полночною тьмою,
От слез, тайно пролитых мною,
От речи, излитой бессвязно,
От страсти моей бессловесной,
Глубоко запрятанной страсти,
От робкой надежды на счастье,
Таинственной, чистой, чудесной,
Меня беспощадно пробудит
Тот луч восстающей денницы:
Душа от любви отрешится
И опустошенной пребудет.
По воле светила дневного
Приходит пора расставанья…
Прощай же, звезда! До свиданья!
Мы завтра увидимся снова.
ДВЕ ГРАНИ
В существовании – две грани:
Одна – печаль по невозвратным,
Навек минувшим временам;
Другая – светлая надежда
На то, что счастье снидет к нам.
Мы в яви ощупью бредем
И все никак не перестанем
До гроба тешить дух мечтаньем
О будущем и о былом.
Безгрешные утехи детства,
Проворных ласточек полет,
И запах роз, и шум прибоя,
И дом – опора и оплот,
И долгожданная любовь
Во взоре пылком и горящем…
Таким предстанет в настоящем
Былое перед нами вновь.
Полузабытое тщеславье
Внезапно голос подает.
Взыскуя истинной любови,
Глядим с надеждою вперед.
Там жизнь привольна и чиста,
Там не сочтешь себя пропащим —
Таким предстанет в настоящем
Грядущее – и неспроста.
В существовании – две грани;
Та и другая нам близка:
На будущее упованье
И по минувшему тоска.
Дух беспокойный наш палим
Огнем, мечтанию присущим,
Но настоящему грядущим
Не стать. И не бывать былым!
Ты, уподобясь кораблю,
Затерянному в океане
Бесчисленных воспоминаний,
Что ищешь? – Отзвук их ловлю.—
Чего же алчешь ты, скажи?
– Сквозь лет бесчисленные звенья
Постичь пытаюсь откровенья
Таящейся в грядущем лжи.
В существовании – две грани.
ЗИМНЕЕ УТРО
Над волнистой грядою восточного склона,
Снисходительно миру улыбку даря,
Появляется, глядя лениво и сонно,
В диадеме туманов восходит заря.
И туманы ползут по скалистым отрогам,
Безнадежно печален пологий откос,—
Словно холмик могильный в убранстве убогом
Погребальных букетов да искренних слез.
И с трудом в пелене пробивается мутной
Солнца луч, озаряя молочную даль,
И в клубящейся дымке виднеется смутно,
Как в сережке алмаз сквозь густую вуаль.
Чуть заметно студеного ветра порывы
В апельсиновых рощах листву теребят,
Ветви их без цветов поникают стыдливо,
Вдовьи слезы их влажную землю кропят.
На трепещущих листьях снежок не искрится,
Льдом вовек не покроется горный хребет:
В нашем крае зима – разбитная девица —
На зеленой листве оставляет свой след.
Занимается утро, и с каждой минутой
Ускоряют туманы неспешный подъем:
Поредев, к небесам устремляются круто,
Открывая долину во весь окоем.
Поднимается занавес; явится скоро
Декораций величественных торжество:
Все по замыслу мудрого антрепренера,
Как предписано гордым искусством его.
А в лесу увертюру начнет вдохновенно
Птичий хор, и в ответ на ликующий глас
Отзовется долина, осветится сцена,
И великое действо начнется сейчас.
ТЕНИ
В тот сумеречный час, предшествующий ночи,
Когда смежаешь ты блистательные очи,
И, руки уронив, склонив на грудь главу,
Внимаешь молча мне, и грезишь наяву,—
Давнишнею тоской душа твоя стеснится.
Что вспомнилось тебе? Минувшего гробница
Зачем разорена бестрепетной рукой,
Унесшей в миг один и счастье, и покой?
Прекрасный ли цветок иль просто шип колючий
На память привели какой-то давний случай?
Что предстает тебе? Что увидала ты?
Из дланей господа, из адской черноты
Является к тебе загробное виденье?
Что чувствуешь тогда? Раскаянье? Томленье?
Приятную печаль иль нестерпимый стыд?
Когда у алтаря одна свеча горит,
Как жадно ищет взор в тревоге и смятенье
Не смертных, милых нам, – бессмертные их тени,
Страх удесятерен и тьмой, и тишиной,—
Но озарит свеча господень крест честной,
И пусть один алтарь чуть виден в божьем храме —
Смирит смятенный дух представшее пред нами,
Колени преклони, молящийся готов
К Всевышнему воззвать потоком жарких слов.
Примеру этому, мой ангел, воспоследуй:
Взор к свету обрати – и насладись победой,
Вмиг прошлое уйдет в немыслимую тьму,
В грядущее гляди и доверяй – ему!
ВОСКОВЫЕ СЛЕЗЫ
В божий храм она вошла несмело,
Церковь в этот час была пуста,
Перед ликом Господа-Христа
Свечка одинокая горела.
Взор потупя в тягостном волненье,
Задрожав, как полотно бела,
Гибко опустилась на колени
И творить молитву начала.
Хоть была совершена ошибка,
Но распятье – якорь в море бед,
Это – правый путь в трясине зыбкой,
Это – сила, упованье, свет.
За кого к Христу она взывала?
Я не знаю. Быстро поднялась,
Снова опустила покрывало,
К чаше подошла, перекрестясь.
Лился свет, надежду подавая
Всем, кто безнадежно заплутал,
И слеза скатилась восковая
На потертый бронзовый шандал.
А она слезы не уронила.
Как свеча, ей вера сердце жгла.
Веру сберегла и сохранила…
Только вот заплакать не смогла.
ПТИЦЫ
Погляди, как, воздух прорезая,
Из долины в горы держат путь
Ласточки. Стремительная стая
В кронах пальм присядет отдохнуть.
Ночь свою завесу опустила.
Вслед за ними, уходя в зенит,
Мысль моя печальная летит
К небесам, и прочь с земли постылой!
Воедино в поднебесье слиты
Отрочества робкая мечта,
Явь любви и сон полузабытый…
Ты – царица этого скита.
Как цветок диковинно-прекрасный,
Скрытый в чаще темною листвой,
Видится мне лик небесный твой —
Лик любви безбурной, чистой, ясной.
Чтобы знала ты, как дни угрюмы
И как ночи горести полны,
В этот скит мои несутся думы,
Муками души порождены.
Пусть они, уснувшей птицы тише,
Вдруг коснутся твоего чела,
Чтобы еле слышно ты прочла
В книге страсти первое двустишье.
Пусть они, мечте моей послушны,
Скажут, что в душе, на самом дне,
Сберегаю образ твой воздушный —
Это все, что здесь осталось мне.
Пусть расскажут: звезды упованья
В беспросветном сумраке зажглись…
Ласточки стрелой уходят ввысь,—
Им вдогонку шлю свое посланье.
ЧЕРВЬ
Лелея аромат природный,
Омывшись влагой первых рос,
Цветок на почве плодородной
По воле господа возрос.
Но некий червь – урод тлетворный,
Чья колыбель – зловонный ил,
Подполз – и с ласкою притворной
Лилейный стебелек обвил.
Впился, высасывая соки,
Точил, терзал, глодал и грыз…
И венчик, некогда высокий,
Поник, понуро глядя вниз.
И смертный час красавцу пробил:
Он долу голову склонил…
Цветку я сердце уподобил
И ревность – с тем червем сравнил.
СВЕТ ВО ТЬМЕ
Ночь угрюма, ночь темна,
Как страданье, молчалива.
В поднебесье сиротливо
Звездочка горит одна.
В чаще – мрак и тишина;
Ветра песенкой плаксивой,
Эхом грустного мотива
Убаюкана она.
Ночь глушит воспоминанье,
Страхи за собой ведет.
Грусть. Уныние. Молчанье.
Но в душе не оживет
Славой ставшее страданье,
В жизнь из смерти переход.
ДЕВОЧКА И ДЕВУШКА
Рассвет… Восход… И солнцу далёко до зенита,
Душа томится сладко, ликуя и грустя,—
Цветок полурасцветший, бутон полураскрытый,
Не женщина покуда, хотя уж не дитя.
Резва и угловата; робка и шаловлива,
В движенье каждом спорят смущенье и задор,
Как девушка, надменна, как девочка, стыдлива,
Читает катехизис и стихотворный вздор.
Как грудь ее трепещет, когда окончен танец:
То ль запыхалась в вальсе, то ль им опьянена,
Не вдруг поймешь, заметив дрожащих уст багрянец,
То ль просит поцелуя, то ль молится она?
Она целует куклу, разряженную ярко,
И смотрит на кузена: хоть брат, да не родной,
Когда ж стрелою мчится вдоль по аллее парка,
Не ангельские ль крылья раскрылись за спиной?
Всенепременно бросит, вбегая из гостиной,
Взгляд в зеркало – пристрастный и мимолетный взгляд,
В постели лежа, будет листать роман старинный,
Где вечного глагола спряжение твердят.
И в спальне, в изголовье девической кровати,
Стоит кроватка куклы. Хозяйка в забытьи
Лепечет чье-то имя и тексты хрестоматий,
Безгрешно выдавая все помыслы свои.
Когда на бале скрипки настраивают тихо,
Расхохотаться хочет, но держит светский тон.
Пусть огорчает бонна – обрадует портниха,
Жеслена уважает, но ближе ей Дазон.
Из всех житейских тягот – пока одно: ученье,
Но в нем отраду сыщет, учителю послав
Нежнейшую улыбку, пока в сугубом рвенье
Придумывает фразу, где встретится «to love».
Случается порою: стоит в оцепененье,
Грудь охватив петлею переплетенных рук,
Как будто ей предстало небесное виденье,
Пытается утишить смятенный сердца стук.
Но если в ту минуту безумными словами
Расскажешь ей о страсти, которой ослеплен,—
Жестоко посмеется, пожалуется маме,
Рассердится взаправду, потом прогонит вон.
Божественно прекрасна чертой своей любою,
Глубоко тайна скрыта и не изъяснена:
Ты женщину в ней ищешь – ребенок пред тобою,
Ты с нею как с ребенком – но женщина она!
ПОЛЕТ
Отринув связь с юдолью слезной,
Скользя в заоблачную высь,
Две тени на дороге звездной,
Друг друга увидав, сошлись.
Судьбе-причуднице в угоду
Им выпало обресть свободу
В один и тот же смертный час,
И вот, потупив очи долу,
Летят к небесному престолу…
Ромео, а за ним Ловлас.
Летят… Полночные светила
В безмолвии внимают им.
И тень Ромео вопросила:
«Кем был ты в жизни, спутник милый?
Кого ты на земле оставил?
Чем имя ты свое прославил?
По ком тоскою ты томим?»
«Любил я. Скольких – неизвестно,
Все имена перезабыл.
Пусть не возвышенно-небесной —
Земной любовью. Но любил!
Был этот кладезь в сердце бедном
Неисчерпаемо велик,
И каждый день был днем победным,
И мигом страсти – каждый миг!
Томясь неутолимой жаждой,
Душа к прелестницам влеклась,
И в книге страсти каждой, каждой,
Хотя бы строчка – а нашлась!
И той, к Парису благосклонной,
Что как лилея расцвела
И обвивала мирт зеленый
Вкруг безмятежного чела;
Той, что, родившись ночью лунной,
При ликованье нимф морских,
Косой гордится златорунной
И совершенством плеч нагих.
И той, что, в умоисступленье
Бродя вдоль зыблющихся вод,
Объята скорбью, одаль шлет
Проклятия, мольбы и пени.
И отзвук царственных печалей
Подхвачен бешенством ветров,
Чтоб мы доныне различали
В нем гул Вергилиевых строф.
И нежной дщери Альбиона,
Кого студеных бурь порыв
Венчал, навек оледенив,
Небесной прелести короной.
И кастильянке – смуглой, страстной,
Столь прихотливо самовластной,
Что пышность Сидова дворца
Без колебаний променяла
На взгляд бродячего певца —
И не раскаялась нимало.
И той – девице-недотроге,
Чья чистота внушает страх,
Кто в горних помыслах о боге
Живет на рейнских берегах,
Идя стезею Маргариты,
Чей нежный цвет едва раскрытый
В руках у Фауста зачах.
И прочим… Мало их на свете ль?
Иным талантом не владел,
Одну знавал я добродетель,
Один мне был сужден удел.
Кто б ни делил со мною ложе —
Во все века, в любой стране —
Уста все те же, сердце то же
Дарованы природой мне.
И, вечным пламенем объят,
Я всем был мил и каждой – рад!»
Окончил речь свою Ловлас.
Меж тем в небесную обитель
Они вошли, и Вседержитель
К Ромео обратил тотчас
Пытливый взгляд бездонных глаз.
«А ты?» «А мне лишь раз случилось
Изведать истинную страсть…
Даруй же, Господи, мне милость
Теперь к стопам твоим припасть!»
Одна душа во двери рая,
Чиста, безгрешна и светла,
По воле господа вошла.
И в тот же миг душа вторая
На землю сброшена была.
Так подведен итог плачевный:
Доныне видит белый свет
Ловласов сотни – ежедневно,
Ромео – одного в сто лет.
СЕЯТЕЛЬ
(XVI ВЕК)
…вот вышел сеятель сеять.
Евангелие от Матфея, XIII, 3
Сограждане мои! Вы урожай собрали,
И житница полна.
В минуту торжества тех вспомнить не пора ли,
Кто бросил семена?
Был диким этот край, и путь тянулся долго
Во тьме ночной,
Но не сломили их, ведомых чувством долга,
Ни ураган, ни зной.
По пальцам их сочтешь, но воля и усилье,
Крест и закон
В цветущий райский сад пустыню превратили
И сотню – в миллион.
Их ждал не только труд, опасности, и голод,
И спор с судьбой:
Мог быть пронзен копьем, задушен иль заколот
Из них любой.
Им гибельной стрелы случалось стать мишенью,
Так почему ж
Бестрепетно они стремились к обращенью
Заблудших душ?
Сертанов сеятель! Ты, как апостол Павел,
Деяние свершив,
Спокойно можешь спать – ты след в веках оставил,
По смерти жив!
МАРИЯ
В изяществе твоем – такая сила,
Так легок шаг, так светел кроткий взор,
Что кажешься мне птицей легкокрылой,
С природой птичьей выигравшей спор.
Ты на земле. Но если бы раскрыла
Могучие крыла, то вмиг в простор
Небесный воротилась… Мне ж с тех пор
Жилось бы беспросветно и уныло.
Нет, не хочу, чтоб синий небосвод
Манил тебя дарованной дорогой,
Чтоб ты предел покинула земной!
Под небесами наша жизнь идет:
Они и так видали слишком много.
Не улетай! Останься здесь, со мной!
ЗАПИСКИ С ТОГО СВЕТА
© Перевод Е. Голубева и И. Чежегова
К ЧИТАТЕЛЮ
Стендаль, по собственному его признанию, написал одну из своих книг для ста читателей, – что одновременно восхищает и поражает нас. Никто, однако, не будет ни восхищен, ни поражен, если эту книгу прочтут даже не сто читателей и не пятьдесят или двадцать, а, самое большее, десять. Десять? Может быть, пять. Ведь если я, Браз Кубас, и попытался придать моему странному детищу свободную форму Стерна или Ксавье де Местра[5]5
Ксавье де Местр (1763–1852) – французский писатель.
[Закрыть], то все же мне не удалось избежать ворчливого пессимизма. Сочинял-то покойник. Я писал эту книгу, обмакивая перо насмешки в чернила печали, и нетрудно себе представить, что могло из этого выйти. Возможно, люди серьезные сочтут мое произведение самым обычным романом, люди же легкомысленные не найдут в нем никаких признаков романа; и, таким образом, книгу мою не признают серьезные и не полюбят легкомысленные читатели, а ведь на них и держится общественное мнение.
И все-таки я не совсем еще потерял надежду завоевать расположение публики, поэтому я не предваряю мой роман пространным, все и вся объясняющим предисловием. Лучшее предисловие то, в котором брошено несколько отрывочных, малопонятных мыслей. Итак, я не стану распространяться об истории написания моих «Записок», составленных уже на том свете. Сие было бы любопытно, но слишком длинно и не помогло бы лучше понять мое творение. Книга – вот что важно, и если она понравится тебе, взыскательный читатель, я буду считать, что труд мой не пропал зря; а не понравится – я покажу тебе язык, и все тут.
Глава I
КОНЧИНА АВТОРА
Некоторое время я колебался – писать ли мне эти воспоминания с начала или с конца, начать ли с моего рождения или с моей смерти. Все всегда начинают с рождения; а я решил принять обратный порядок по следующим причинам: во-первых, я не покойный писатель, а писатель-покойник, и могила, таким образом, стала моей второй колыбелью; во-вторых, сочинение мое приобретает от этого новизну и оригинальность. Пророк Моисей, также оставивший нам описание собственной смерти, поместил его в конце, а не в начале – что существенным образом отличает настоящее сочинение от Пятикнижия [6]6
Пятикнижие – первые пять книг Библии, авторство которых приписывается пророку Моисею.
[Закрыть].
Итак, я испустил дух в два часа пополудни в одну из пятниц августа месяца 1869 года, в моем прелестном имении в Кутумби. Было мне шестьдесят четыре года, жизнь я прожил безбедную, легкую, умер старым холостяком, оставив наследникам тридцать тысяч рейсов, и меня проводили на кладбище одиннадцать друзей. Одиннадцать друзей! Не было, правда, ни соболезнований, ни некрологов. К тому же накрапывал мелкий, тоскливый, настойчивый дождь, такой тоскливый и такой настойчивый, что один из преданных до гроба друзей высказал в своей речи, произнесенной у моей могилы, такую мысль:
– О вы, вы, кто знал его, мои дорогие сеньоры, вы можете сказать вместе со мной, что сама природа оплакивает понесенную нами утрату – кончину нашего друга, прекраснейшего, благороднейшего человека, гордость нашего общества. Это хмурое небо и капли, падающие с него, эти темные тучи, словно траурным крепом задернувшие лазурь, все это – знаки невыносимой, жгучей тоски, гложущей великую душу природы. Все это – гимн нашему дорогому покойнику и скорбь о нем.
Добрый, верный друг! Я нисколько не жалею о двадцати оставленных тебе векселях. Так подошел я к окончанию дней моих; так отправился я в undiscovered country[7]7
Неведомая страна (англ.).
[Закрыть] датского принца. Правда, гамлетовские сомнения и страсти не раздирали меня; я уходил вяло, медленно – словно зритель, последним покидающий театр. Ему скучно, и время позднее. Человек девять или десять были свидетелями моей кончины, среди них три дамы: моя сестра Сабина, что замужем за Котрином, их дочь, «лилия долин», и… терпение! Терпение! Вы скоро узнаете, кто была третья дама. Пока довольно и того, что неизвестная, не будучи родственницей, страдала больше родственниц. Да, больше. Не подумайте, что она громко рыдала или билась в судорогах, – нет. Впрочем, смерть моя была не такой уж драмой… Одинокий старик, в шестьдесят четыре года расставшийся с этим миром, – нет, моя смерть никого не могла потрясти. А если и могла, нашей незнакомке меньше всего хотелось это показывать. Она стояла у изголовья, полуоткрыв рот, и смотрела остановившимся взглядом. Она не верила, что меня уже нет.
– Он умер! Умер! – говорила она себе, и мысли ее, словно аисты, понеслись наперекор судьбе от берегов старости к далеким берегам нашей юности; пусть себе летят; мы отправимся туда позже, когда я вернусь к началу моей жизни.
Сейчас я хочу умереть, – спокойно, обстоятельно умереть, слушая рыданья дам и тихий говор мужчин, шум дождя в листьях и скрежет ножа о точильный камень у дверей шорника. Клянусь, этот оркестр смерти был далеко не так уныл, каким он, может быть, представляется тебе, читатель. Жизнь отступала, будто морская волна, сознание мое слабело, телесная и духовная недвижность овладевала мною, моя земная оболочка превращалась в растение, в камень, в тлен, в ничто.
Я умер от воспаления легких. Но если я скажу вам, что не столько воспаление легких, сколько идея – идея великая, благодетельная – была причиной моей смерти, вы мне, пожалуй, не поверите; а ведь это так. Впрочем, я бегло опишу случившееся, предоставляя, таким образом, возможность читателю судить самому.








