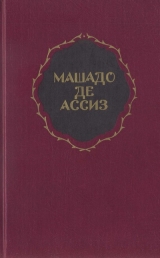
Текст книги "Избранные произведения"
Автор книги: Машадо де Ассиз
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 43 страниц)
Глава CLVIII
ДВЕ ВСТРЕЧИ
Однако по прошествии трех или четырех лет все это мне надоело, и я вышел из ордена; на прощанье я пожертвовал крупную сумму, и мой портрет пополнил галерею выдающихся его деятелей. Но прежде чем закончить эту главу, я хочу сказать вам, что в больнице ордена я застал на смертном одре – кого бы вы думали?.. – прекрасную Марселу. И увидел я ее в тот же самый день, когда в одном из домов, густо заселенных беднотой, куда я зашел с благотворительными целями, я встретил… Теперь уж вы и вовсе не угадаете… Я встретил цветок зарослей, Эужению, дочь доны Эузебии и Виласы, – Эужению, хромую, как и прежде, но куда больше прежнего печальную.
Узнав меня, она побледнела и опустила глаза, однако замешательство ее длилось едва ли мгновенье, после чего она, подняв голову, взглянула на меня спокойно и с достоинством. Я понял, что она ни за что не примет от меня милостыни, и протянул ей руку, словно знатной даме. Она поклонилась мне и заперлась в своей каморке. Больше я ни разу ее не встречал и ничего не знаю о ее жизни, не знаю даже, умерла или нет ее мать и какие беды довели Эужению до такой нищеты. Знаю лишь, что она хрома и несчастна. С тяжелым чувством возвращался я в больницу, где и застал, как уже говорил, на смертном ложе Марселу, – она скончалась через полчаса – безобразная, тощая старуха…
Глава CLIX
ПОЛУПОМЕШАТЕЛЬСТВО
Я понял, что постарел и сам нуждаюсь в чьей-нибудь помощи и поддержке. Но Кинкас Борба вот уже полгода был в отъезде, лишив меня тем самым возможности найти утешение в лучшей из философий. Месяца через четыре он возвратился, и однажды утром я увидел Кинкаса Борбу на пороге моего дома почти в том же состоянии, в каком я встретил его впервые на бульваре. Только теперь в его глазах светилось явное безумие. Прежде всего он сообщил мне, что сжег свою рукопись и теперь начнет все сначала: его философская система нуждается в серьезном усовершенствовании. Глава о догматах веры готова, только еще не написана: гуманитизм – это действительно религия будущего.
– Ты веришь в это?
– Ты же знаешь, что верю.
Я едва выговорил эти слова. И я еще не открыл вам всю правду. Кинкас Борба не только был сумасшедшим, он еще и знал, что безумен, и проблеск сознания, словно слабый свет во мраке ночи, еще больше подчеркивал весь ужас его положения. Он понимал это, но не только не роптал на судьбу, а, напротив, считал свое безумие испытанием, ниспосланным ему мировой душой: она взяла да и подшутила над ним самим. Он цитировал мне наизусть целые главы из своей книги, антифоны и литании и даже пытался изобразить ритуальный танец, придуманный им для обрядовых церемоний, предписываемых новой религией. Зловещая грация, с которой он выделывал ногами немыслимые па, производила впечатление чего-то сверхъестественного. Временами он забивался в угол и часами сидел там, уставившись в одну точку, и в глазах его порою мелькал упрямый лучик разума, печальный, как слеза…
Вскоре он умер у меня в доме и перед смертью все без конца повторял, что боль – это только иллюзия и что Панглос, оклеветанный Панглос, вовсе не был таким дураком, каким его вывел Вольтер.
Глава CLX
ОБ ОТРИЦАНИЯХ
Время, прошедшее со дня смерти Кинкаса Борбы и до моей смерти, было заполнено событиями, описанными мной в самом начале моих «Записок». Главнейшим событием следует считать изобретение «пластыря Браза Кубаса», изобретение, похороненное вместе со мной, ибо, как вам известно, из-за него я подхватил болезнь, которая свела меня в могилу. О божественный пластырь, ты должен был сделать меня первым человеком в мире! То, что не по силам знанию и богатству, должен был сделать ты, ибо ты – идея, прямо и непосредственно внушенная мне небесами. Но судьба решила иначе, и теперь все вы обречены на вечную ипохондрию.
Эта последняя глава вся состоит из отрицаний. Я не достиг известности с помощью пластыря, я не стал ни министром, ни халифом, я не познал радостей супружеской жизни. Правда, мне не пришлось зато добывать себе хлеб в поте лица своего. Смерть доны Пласиды и помешательство Кинкаса Борбы не причинили мне страданий. Подытожив все это, кто-нибудь, пожалуй, вообразит, что одно уравновешивается другим и что мы с жизнью квиты. Но, решив так, он ошибется, ибо здесь, на том свете, я все же обнаружил сальдо в свою пользу: у меня не было детей, и я никому не оставил в наследство тщету нашего земного бытия.
ДОН КАСМУРРО
© Перевод Т. Иванова
Глава I
О НАЗВАНИИ
Однажды вечером, возвращаясь из города в предместье Энженьо-Ново, я встретил в поезде молодого человека, который жил неподалеку от меня. Обычно мы с ним только раскланивались, но на этот раз он подсел ко мне и заговорил о погоде, о политике и в довершение всего принялся читать свои стихи. Дорога была не длинная, стихи, возможно, не столь уж плохие. Однако я очень устал, и глаза у меня начали слипаться. Заметив это, мой попутчик тотчас прекратил чтение и спрятал тетрадь в карман.
– Продолжайте, – сказал я ему, очнувшись от дремоты.
– Я все прочел, – пробормотал он.
– Чудесные стихи.
Юноша хотел было снова достать рукопись, но передумал и надулся. На другой день он повсюду ругал меня, уверяя, что я настоящий «дон Касмурро». Прозвище привилось. Его подхватили соседи, не любившие меня за молчаливость и замкнутость. Оно стало предметом шуток моих городских друзей. Я не обижался, получая от них такие записки: «Дон Касмурро, в воскресенье ждите меня к обеду»; «Дон Касмурро, я еду в Петрополис, остановлюсь там у Ренании. Покиньте наконец свою пещеру отшельника в Энженьо-Ново, проведем вместе недельки две»; «Дорогой мой дон Касмурро, пора вам побывать в театре, приезжайте завтра в город, переночуете у меня: и ложу, и постель, и ужин, и чай – все вы найдете у нас, разве что девушек не будет».
Не смотрите в словарь. Слово «касмурро» там объяснено совсем по-другому. А в простонародье так называют людей замкнутых и молчаливых. Словечко «дон» мои соседи прибавили для пущей важности: вот, мол, какой спесивый идальго! Дон Затворник, Дон Молчальник – величают меня лишь за то, что я задремал в поезде! Однако трудно придумать более подходящее наименование для моей повести, и если мне не придет в голову ничего лучшего, я озаглавлю ее «Дон Касмурро». Тогда мой поэт из предместья узнает, что я на него не в обиде. Увидев книгу с выдуманным им прозвищем на обложке, он без труда сможет приписать себе все произведение. И не диво – ведь существуют книги, в которых одно название принадлежит автору, а встречаются и такие, где даже этого нет.
Глава II
О КНИГЕ
Теперь, объяснив название, я приступаю к самой книге. Впрочем, сначала расскажу, что заставило меня взяться за перо.
Я человек одинокий, живу вдвоем со слугой, в собственном доме. Особенности моего жилища объясняются причинами столь личного свойства, что мне трудно говорить о них. Поселившись на старости лет в предместье Энженьо-Ново, я задумал там воссоздать дом, в котором протекало мое детство. Архитектор и художник прекрасно поняли мои намерения: они возвели двухэтажное здание, в три окна по фасаду, с балконом, выходящим в сад. В большой зале стены и потолок расписаны гирляндами мелких цветочков, свисающих из клювов больших птиц. По углам потолка фигуры – аллегории четырех времен года, на стенах медальоны с изображениями Цезаря, Августа, Нерона и Масиниссы[80]80
Масинисса – нумидийский царь.
[Закрыть]. Все в точности как в старинном доме на улице Матакавалос… Неизвестно, почему выбор пал именно на эти личности. Когда наша семья переехала в тот дом, их портреты уже красовались там. И неудивительно: в те времена отечественную живопись часто уснащали классикой, а стены украшали изображениями античных полководцев. Мне удалось добиться сходства и в другом – около дома разбит сад с тенистыми деревьями и вырыт колодец с водоемом для стирки. Я отыскал старинную мебель, старинную посуду. Слоном, создал себе тихий приют, отгородившись, как и прежде, от житейских тревог.
Я задался целью связать воедино начало и конец жизни, восстановить детство в старости. Однако возможно ли повернуть время вспять? Лицо мое как будто осталось прежним, но выражение его совсем другое. Если бы мне не хватало спутников моей тогдашней жизни – это бы еще полбеды: человек довольно быстро примиряется с потерей близких; но недоставало главного – меня самого, – тут уж ничего не поделаешь. Любая подделка, подобно краске на бороде и усах, не проникает глубже наружного покрова, как говорится в протоколах вскрытия; душу перекрасить нельзя. Метрическое свидетельство о том, что мне двадцать лет от роду, могло бы, как и любой фальшивый документ, обмануть посторонних, но я-то знаю свой истинный возраст. С теперешними своими друзьями я познакомился недавно; а друзья юности давно отправились к праотцам. Из моих новых подруг одних я знаю лет пятнадцать, других меньше – и почти все они считают себя молодыми. Двум или трем из них, пожалуй, удалось бы заставить и остальных поверить в это, если бы они не говорили на таком устаревшем языке, что приходится то и дело прибегать к словарю, а такое общение, согласитесь сами, утомительно.
Между прочим, то, что жизнь изменилась, не означает, будто она стала хуже, дело не в этом. Прежняя жизнь представляется мне уже не столь привлекательной, как раньше; но зато я успел забыть многие неприятности, которые отравляли мое существование, и сохранил в памяти сладостные воспоминания. Сейчас я редко бываю в обществе и мало разговариваю, еще меньше развлекаюсь. Большую часть дня работаю в саду или на огороде, остальное время отвожу чтению; аппетит у меня хороший, сон тоже.
Но все в жизни приедается, и это однообразие в конце концов начало тяготить меня. Тогда я решил написать книгу. Меня привлекали равно и юриспруденция, и философия, и политика, но я чувствовал себя недостаточно сведущим в этих предметах. Новая мысль осенила меня: а не создать ли «Историю предместий», только, разумеется, не такую скучную, как записки падре Луиса Гонсалвеса дос Сантоса, посвященные городу; это была задача поскромнее, но и здесь требовалась большая предварительная работа, тщательный отбор материалов и фактов. И вот тогда заговорили те, чьи лица я увековечил на стенах своего дома в тщетной попытке восстановить ушедшее время, и посоветовали мне самому поведать о былом. Быть может, когда я начну рассказ, создастся иллюзия прошлого и легкие тени явятся мне как поэту (не стихоплету из поезда, а творцу «Фауста»): «Вы вновь явились, смутные виденья…»
Эта мысль так понравилась мне, что я тут же взялся за перо. Нерон, Август, Масинисса и ты, великий Цезарь, вдохновивший меня написать записки о моей жизни, благодарю вас за совет. Поведав миру свои воспоминания, я снова переживу былое, а заодно подготовлюсь к более обширному труду. Итак, начнем экскурс в прошлое со знаменательного ноябрьского вечера, который я никогда не забуду. Были в моей жизни другие вечера – счастливые и несчастливые, но ни один так не запечатлелся у меня в памяти. А почему, вы сейчас узнаете.
Глава III
ЖОЗЕ ДИАС РАСКРЫВАЕТ ТАЙНУ
Я собирался было войти в гостиную, но, услышав, что в разговоре упоминают мое имя, остался за дверью. Происходило это в доме на улице Матакавалос в ноябре месяце весьма отдаленного, к сожалению, года; не менять же мне даты своей жизни в угоду тем, кто не любит старые истории; так вот, это происходило в 1857 году.
– Донья Глория, вы еще не отказались от мысли поместить нашего Бентиньо в семинарию? Тогда поторопитесь, а то может возникнуть препятствие.
– Какое препятствие?
– Очень серьезное.
Моя мать спросила, в чем оно состоит; Жозе Диас выглянул за дверь проверить, нет ли кого-нибудь в коридоре; не заметив меня, он вернулся в залу и, понизив голос, сообщил, что опасность таится в соседнем доме, в семье Падуа.
– В семье Падуа?
– Я давно собирался сказать вам об этом, но не осмеливался. Меня беспокоит, что нашего Бентиньо с дочерью Черепахи и водой не разольешь. В том-то и беда: они могут полюбить друг друга, и тогда, сеньора, вам нелегко будет их разлучить.
– Не понимаю. Что значит водой не разольешь?
– Так говорится. Дети постоянно вместе, вечно у них какие-то секреты. Бентиньо днюет и ночует у соседей. Девочка еще глупенькая, а отец ее делает вид, будто ничего не видит; может, он и не прочь, чтобы дело зашло подальше… Я понимаю, сеньора, вы не верите в возможность подобных намерений, ибо у вас чистая душа…
– Но, сеньор Жозе Диас, я часто наблюдала, как ребятишки играют, и никогда не замечала ничего дурного. Подумайте – Бентиньо нет и пятнадцати лет, а Капиту только что исполнилось четырнадцать: они еще совсем дети. Не забывайте, что они вместе росли. Вот уже десять лет, как они дружат; с того ужасного наводнения, от которого пострадало имущество Падуа. Я и представить себе не могу… Как по-твоему, братец Косме?
Дядя Косме ответил «ба!», что в переводе на обычный язык означало: «Все это выдумки Жозе Диаса; дети веселятся, и прекрасно; сыграем-ка лучше в триктрак!»
– Да, мне кажется, вы ошиблись, сеньор Жозе Диас.
– Возможно, дорогая сеньора, я первый буду радоваться, если окажусь неправ, – но поверьте, я не стал бы говорить необоснованно…
– Во всяком случае, Бентиньо скоро уедет, – прервала моя мать. – Я попрошу, чтобы его как можно скорее приняли в семинарию.
– Прекрасно, раз вы не передумали, вопрос решен. Бентиньо покорится воле матери. К тому же бразильская церковь занимает высокое положение в стране. Не забывайте, что во главе Учредительного собрания стоял епископ, а падре Фейжо[81]81
Фейжо Диого Антонио (1784–1843) – бразильский священник и государственный деятель, бывший регентом при короле Педро I.
[Закрыть] управлял империей.
– Да, управлял как черт знает кто, – не удержался дядя Косме, вспомнив старые политические распри.
– Простите меня, доктор, я никого не защищаю, я просто хотел доказать, что духовенство и поныне играет в Бразилии важную роль.
– Лучше докажите, что еще не разучились играть в триктрак; сходите-ка за доской. А что касается мальчика, то, уж если ему суждено стать священником, пусть он не приучается исповедовать девушек за дверьми. Но послушай, сестрица Глория, неужели так необходимо делать из него священника?
– А мой обет?
– Ты дала обет… но, по-моему, такое обещание… я не уверен… Мне кажется, по зрелом размышлении… А вы как думаете, кузина?
– Я?
– Конечно, – продолжал дядя Косме, – каждый из нас отвечает только за себя, а бог за всех. Однако обет, данный столько лет назад… Но что это, сестра Глория? Ты плачешь? Вот так так! Есть из-за чего лить слезы!
Мать тихонько всхлипывала. Кузина, по-видимому, подошла ее утешить. Наступило молчание, и я уже направился было в гостиную, но какая-то неведомая сила приковала меня к полу… Я не расслышал слов дяди Косме. Тетушка Жустина приговаривала: «Кузина Глория! Кузина Глория!» Жозе Диас извинялся: «Если бы я знал, я и не заикнулся бы об этом, я заговорил лишь из чувства преданности, уважения и любви, дабы исполнить тяжкий, наитягчайший долг…»
Глава IV
НАИТЯГЧАЙШИЙ ДОЛГ
Жозе Диас любил употреблять прилагательные в превосходной степени. Они помогали ему облекать мысли в монументальную форму и за неимением мыслей – удлинять фразы. Приживал направился в другую комнату за доской для триктрака. Я прижался к стене, и он прошел мимо в белых, как всегда тщательно выглаженных панталонах со штрипками, в жилете и в галстуке на пружине. Едва ли в Рио-де-Жанейро да, пожалуй, и на всем свете кто-нибудь еще носил короткие и облегающие панталоны со штрипками. Шею его сжимал черный шелковый галстук со стальным обручем внутри, так что бедняга не мог пошевельнуться. Ситцевый жилет, домашняя куртка казались на нем парадным костюмом. Худой, со впалыми щеками, с небольшой лысиной, Жозе Диас вполне выглядел на свои пятьдесят пять лет. Ходил он, по обыкновению, неторопливо, но не разболтанной, ленивой походкой, а нарочито медленно, и поступь его напоминала силлогизм: сначала предпосылка, затем следствие, а уж потом заключение. Наитягчайший долг!
Глава V
ПРИЖИВАЛ
Но не всегда Жозе Диас шагал важной и размеренной поступью. Иногда он принимался жестикулировать, бывал скор и тороплив в движениях, – это у него получалось столь же естественно. Порой приживал разражался смехом; он хохотал как будто и против воли, но весьма заразительно, ибо щеки, губы, глаза, все лицо, фигура, все существо его сотрясалось от неудержимого веселья. Впрочем, он умел быстро становиться серьезным.
Приживал появился в нашем семействе с давних пор. Отец мой жил тогда на старой фазенде[82]82
Фазенда – имение помещика-скотовода.
[Закрыть] Итагуаи́, а я только что родился. Жозе Диас выдавал себя за врача-гомеопата и постоянно носил с собой гомеопатический справочник и аптечку. В то время свирепствовала эпидемия лихорадки. Жозе Диас вылечил надсмотрщика и рабыню и наотрез отказался от вознаграждения. Тогда отец предложил платить ему небольшое жалованье, если он останется у нас. Но тот отклонил предложение, заявив, что решил посвятить себя лечению бедняков.
– А кто вам мешает их лечить? Живя здесь, вы можете ходить куда угодно.
– Я вернусь к вам через три месяца.
Однако вернулся он через две недели да так и остался у нас в доме, хотя ему ничего не платили, а лишь иногда делали подарки на праздники. Когда моего отца избрали депутатом, наша семья переехала в Рио-де-Жанейро. Приживала взяли с собой и отвели ему комнату. Вскоре в Итагуаи́ снова разразилась эпидемия, и отец попросил Жозе Диаса осмотреть рабов. Тот ничего не ответил, вздохнул и наконец признался, что выдал себя за врача только для пропаганды нового течения в медицине; правда, он долго и серьезно изучал гомеопатию, но совесть не позволяет ему больше принимать больных.
– Но ведь в прошлый раз вы спасли моих рабов.
– Да, как будто, хотя скорее всего их спасли лекарства, указанные в книгах. Лекарства и бог. А я вел себя как шарлатан; правда, намерения у меня были самые благородные: гомеопатия – истинная наука, и, чтобы служить истине, я лгал, но теперь довольно.
Однако его не прогнали. Отец не мог с ним расстаться. Жозе Диас сумел сделаться незаменимым в доме; к нему относились словно к члену семьи. Когда отец мой умер, горе приживала было невообразимо – так мне рассказывали, сам я этого, конечно, не помню. Растроганная такой преданностью, мама решила не отпускать его от себя и, когда через неделю он пришел попрощаться с ней, сказала:
– Не уезжайте, Жозе Диас.
– Повинуюсь, моя сеньора.
Отец оставил приживалу маленькое наследство: страховой полис и несколько хвалебных слов в завещании. Жозе Диас переписал их, вставил в рамку и повесил в своей комнате над кроватью. «Похвала дороже денег», – говаривал он неоднократно. Со временем все домашние стали слушаться или, по крайней мере, слушать его, он этим не злоупотреблял и всегда стремился предупреждать желания других. Приживал стал нашим другом, и если я не говорю – лучшим, то лишь потому, что в этом мире все несовершенно. Не обвиняйте его в низости душевной – он угодничал скорее по склонности характера, чем из расчета. Одежды хватало ему надолго; он был не из тех, кто скоро изнашивает платье. Даже старый, потертый и лоснящийся костюм сидел на нем почти элегантно. Он был начитан, хотя и читал все подряд. Знаний его вполне хватало, чтобы развлекать общество по вечерам, объясняя различные явления природы или поддерживая разговор о воздействии жары и холода, о Северном полюсе, а то и о Робеспьере. Часто он рассказывал о своем путешествии в Европу и признавался, что, если бы не мы, он бы уже давно туда вернулся; у него остались друзья в Лиссабоне, но наша семья, говорил он, для него превыше всего на свете после бога.
– После или до? – спросил его однажды дядя Косме.
– После, – ответил приживал, исполненный благочестия.
Моя набожная мать обрадовалась, что он поставил бога на должное место, и улыбнулась Жозе Диасу; тот благодарно кивнул в ответ. Время от времени мать давала ему деньги на мелкие расходы, а дядя Косме, который был адвокатом, поручал переписывать судебные бумаги.
Глава VI
ДЯДЯ КОСМЕ
Дядя Косме поселился у нас в доме после смерти моего отца. Дядя овдовел еще раньше, чем мать, тетушка Жустина – тоже, и наш дом стал домом трех вдовцов.
Судьба часто нарушает естественный ход событий. Дядя Косме, рожденный для спокойной и тихой жизни, не мог разбогатеть на своей должности. Он едва сводил концы с концами. У него была контора на старинной улице Виолас, рядом с судом, который находился в здании бывшей тюрьмы. Дядя специализировался на уголовных делах. Жозе Диас никогда не пропускал его выступлений в суде. Он собственноручно облачал оратора в мантию, а потом помогал снимать ее. Дома приживал долго и подробно рассказывал о дебатах, осыпая дядю Косме множеством комплиментов, а тот, при всей своей скромности, расплывался в улыбке.
Дядя был тучный, страдающий одышкой человек. Помню, как он отправлялся по утрам в контору верхом на кобыле, подаренной ему моей матерью. Негр приводил лошадь из конюшни и держал в поводу, пока дядя поднимал ногу и ставил ее в стремя. Затем следовала минутная передышка; дядя Косме несколько раз пытался оттолкнуться от земли, но неудачно. Наконец, собрав все свои силы – физические и моральные, дядя Косме внезапно отрывался от земли и благополучно опускался в седло. А лошадь и виду не подавала, что он оказал ей такую честь. Дядя устраивался поудобнее и отправлялся в путь.
Никогда не забуду, что проделал со мной однажды дядя. Родившись и прожив два года в усадьбе, я не умел, как ни странно, ездить верхом и боялся лошадей. Дядя Косме неожиданно схватил меня и посадил в седло. Оказавшись один-одинешенек так высоко от земли (мне было тогда всего девять лет), я отчаянно завопил: «Мама! Мама!» Бледная и трепещущая мать прибежала, думая, что меня убивают; она сняла меня с лошади и принялась успокаивать, между тем как ее брат искренне удивлялся.
– Сестрица Глория, почему этот трусишка испугался смирной лошадки?!
– Он не привык к лошади.
– Пора привыкать. В любом случае – станет ли он городским священником или викарием в деревне, даже если ему просто захочется покрасоваться среди молодежи, Бентиньо понадобится умение ездить верхом. Если мы его не обучим, он будет потом упрекать нас, сестра Глория.
– Ну и пусть упрекает, а я за него боюсь.
– Бояться! Вот еще!
В конце концов я все же научился ездить верхом, но без особого удовольствия, лишь бы не отстать от других. «Значит, пришла для него пора любви»[83]83
В Бразилии того времени было принято, чтобы молодой человек верхом на лошади проезжал по вечерам под окнами возлюбленной.
[Закрыть],– говорили обо мне, когда я начал брать уроки верховой езды. О дяде Косме нельзя было сказать того же. Он ездил на лошади просто по привычке. Для него пора любви уже миновала. Рассказывали, что в юности дядя пользовался успехом у дам и активно участвовал в борьбе партий, но годы умерили его политические и любовные страсти, а излишняя полнота заставила отказаться от всех общественных и личных увлечений. Теперь он лишь выполнял свои служебные обязанности и обходился без любви. А в часы досуга предавался созерцанию или играл в триктрак. Иногда ему удавалось сострить.








